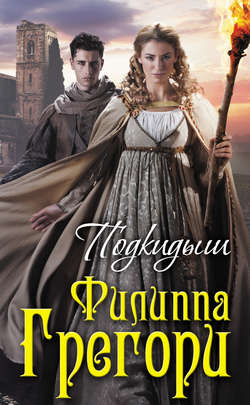Читать книгу Подкидыш - Филиппа Грегори - Страница 1
ОглавлениеЗамок Сант-Анжело, Рим, июнь 1453 года
Стук в дверь прозвучал как выстрел в лицо. Он тут же проснулся, нашарив спрятанный под подушкой кинжал, вскочил и вздрогнул, коснувшись босыми ногами обжигающе холодного каменного пола. Ему снились родители, любимый старый дом, и он даже зубами скрипнул, так больно сжалось сердце от тоски по всему тому, что он потерял: по родине, по матери, по прежней, счастливой жизни.
Громоподобный стук в дверь повторился. Пряча за спиной кинжал, он осторожно подошел к двери. С той стороны засов отодвинули, и дверь приоткрылась – он с опаской выглянул наружу. Там он увидел господина в темном плаще с низко опущенным капюшоном; рядом с ним стояли двое коренастых слуг с горящими факелами в руках. Один из них, подняв свой факел повыше, осветил приоткрытую дверь и стройного, обнаженного по пояс юношу в узких штанах. На вид ему было лет семнадцать. Лицо совсем мальчишеское; красивые, орехового цвета глаза с недоумением смотрели из-под темной челки; но тело крепкое, мускулистое – тело молодого мужчины, закаленного тяжким трудом.
– Лука Веро?
– Да.
– Тебе придется пойти со мной.
Юноша явно колебался, и господин в плаще прибавил:
– Не глупи. Нас трое, а ты один, хоть ты и прячешь за спиной кинжал. С нами тебе не справиться.
– Это приказ, а не просьба! – рявкнул второй незнакомец. – А ты присягал на верность.
Лука и впрямь присягал на верность, но своему монастырю, а вовсе не этим незнакомцам. Впрочем, из монастыря его выгнали, и с тех пор он, похоже, обязан был подчиниться любому, кто ему прикажет достаточно громко и решительно. Он вернулся к своей постели, присел на краешек и стал натягивать сапоги из мягкой кожи, незаметно спрятав кинжал за голенище; затем надел льняную рубашку, накинул на плечи сильно поношенный шерстяной плащ и нехотя подошел к двери.
– Вы кто? – спросил он, но человек в темном плаще ему не ответил и, круто развернувшись и не оглядываясь, пошел по коридору, а двое стражников, дождавшись, когда Лука выйдет из камеры и последует за их командиром, двинулись сзади. – Куда вы меня ведете?
Но и стражники ответом его не удостоили. Лука хотел еще спросить, не арестован ли он, не ведут ли его прямиком к месту казни, но так и не осмелился. Он боялся уже самого этого вопроса, а еще больше – что возможный ответ может оказаться положительным. Он весь взмок от страха под старым шерстяным плащом, хотя воздух был прямо-таки ледяным, да и от влажных каменных стен так и тянуло холодом.
Лука понимал одно: с ним случилась самая большая беда за всю его недолгую жизнь. Не далее как вчера четверо мужчин в темных плащах с низко надвинутыми капюшонами увели его из монастыря и бросили в эту тюрьму, ничего ему не объяснив и вообще не сказав ни единого слова. Он понятия не имел ни где находится, ни кто его арестовал, ни какие обвинения могут быть ему предъявлены, ни как его могут наказать за неведомое ему преступление. Может, его просто подвергнут порке, а может, станут пытать или убьют?
– Я настаиваю на свидании со священником, мне нужно исповедаться… – пролепетал он.
Но незнакомцы не обращали ни малейшего внимания на его слова и лишь время от времени его подталкивали, заставляя идти дальше по узкому каменному коридору. Вокруг стояла полная тишина; по обе стороны коридора виднелись запертые двери тюремных камер. Лука никак не мог толком понять, что это – тюрьма или монастырь, так там было холодно и тихо. Полночь давно миновала, и в непонятном здании царили тьма и безмолвие. Стражники, сопровождавшие Луку, тоже старались не шуметь; когда коридор закончился, они спустились по каменной лестнице в просторный зал, миновали его и снова пошли по узкой винтовой лесенке куда-то во тьму, сгущавшуюся, казалось, с каждым шагом. Становилось все холоднее, и Лука снова не выдержал:
– Я хочу знать, куда вы меня ведете! – И почувствовал, что голос его дрожит от страха.
Ему, разумеется, никто не ответил; но стражник, шедший сразу за ним, придвинулся еще ближе, дыша ему в затылок.
Ближе к подножию лестницы Лука различил в темноте небольшой арочный проход и тяжелую запертую дверь. Незнакомец в черном плаще, шедший впереди, достал из кармана ключ, отпер эту дверь и жестом велел Луке переступить порог. Лука, не решаясь войти, чуть замешкался, и тот могучий стражник, что шел позади, попросту вдавил его в дверной проем.
– Я настаиваю… – еле слышно выдохнул Лука и тут же, получив очередной мощный пинок в спину, оказался по ту сторону двери. Он даже охнул от ужаса, обнаружив, что стоит на самом краю высокого узкого причала, а далеко внизу на поверхности реки покачивается лодка. Где-то вдали неясной полоской виднелся противоположный берег. Лука отшатнулся, охваченный тошнотворным ощущением того, что эти люди в темных плащах с удовольствием столкнули бы его прямо на острые камни внизу, чтобы не возиться с ним и не заставлять его спускаться по крутой лестнице к лодке.
Однако тот, что шел впереди, легко сбежал вниз по мокрым ступеням и, шагнув в лодку, что-то сказал человеку, который стоял на корме, ловкими движениями одного-единственного весла удерживая суденышко на месте и не позволяя мощному течению закрутить его и унести. Затем мужчина в черном плаще вновь повернулся к смертельно-бледному Луке и приказал:
– Иди сюда.
Луке оставалось только подчиняться. Он покорно спустился по скользким ступеням, забрался в лодку и уселся на носу. Стражники остались на причале, а лодочник, ловко развернув суденышко, вывел его на середину реки и позволил течению нести ее вдоль городской стены. Лука смотрел на темную воду и думал, что, если бы ему удалось перекатиться через борт, можно было бы, воспользовавшись придонным течением, переплыть реку под водой, выбраться на тот берег и сбежать. Но течение казалось таким быстрым, что он понимал: скорее всего, он попросту утонет, если они не успеют выловить его из воды, а уж когда они снова его схватят, то наверняка вышибут из него дух, треснув веслом по голове.
– Господин мой, – обратился он к человеку в черном плаще, стараясь говорить спокойно, с достоинством, – могу ли я хотя бы теперь узнать, куда мы направляемся?
– Ты сам это скоро поймешь, – суровым тоном ответил тот. Река неслась как бешеная в узких берегах крепостного рва, опоясывавшего высокие городские стены. Лодочник старался плыть как можно ближе к стене, прячась в ее тени от дежуривших наверху часовых. Вскоре впереди показались темные очертания мощного каменного моста, и Лука увидел прямо перед собой забранный решеткой арочный проход. Как только лодка ткнулась в решетку носом, та бесшумно скользнула вверх, и одного умелого взмаха веслом оказалось достаточно, чтобы они попали внутрь какого-то странного помещения, залитого светом факелов.
Охваченный новым, еще более сильным приступом страха, Лука пожалел, что все же не решился попытать счастья и прыгнуть в реку. Их окружили с полдюжины мужчин весьма мрачного вида, явно поджидавшие именно их, и едва лодочник успел ухватиться за потертое кольцо, вделанное в стену, как эти люди выдернули Луку из лодки, поставили на ноги и подтолкнули в сторону какого-то узкого темного коридора. Он скорее почувствовал, чем увидел по обе стороны от себя толстые каменные стены, а под ногами гладкий деревянный пол. Лука шагал, отчетливо слыша в тишине собственное дыхание, ставшее хриплым от снедавшего его страха. Они прошли совсем немного и остановились перед массивной деревянной дверью, один раз постучали и стали ждать.
Потом откуда-то из-за двери донеслось: «Входите!» – и сопровождавший Луку стражник, настежь распахнув дверь, с силой втолкнул его внутрь. Лука вошел и тут же замер с бешено бьющимся сердцем, ослепленный неожиданно ярким светом – в помещении горели по меньшей мере несколько дюжин восковых свечей. Дверь у него за спиной тихо закрылась, и он, проморгавшись, увидел, что прямо перед ним за столом сидит какой-то человек, склонив голову над ворохом исписанных листов.
Больше в помещении он никого не заметил. Человек за столом был в роскошном бархатном плаще темно-синего цвета, казавшегося почти черным; низко надвинутый капюшон полностью скрывал его лицо. Лука стоял как вкопанный и судорожно сглатывал, пытаясь подавить охвативший его страх. «Что бы ни случилось, – думал он, – я не стану униженно молить этих людей сохранить мне жизнь! Я постараюсь собрать все свое мужество и лицом к лицу встречу то, что меня здесь ожидает, даже самое страшное. Я не стану хныкать, точно девчонка, я не посрамлю ни себя, ни своего стойкого, мужественного отца!»
– Ты, конечно же, хочешь знать, почему ты здесь оказался, что это за место и кто я такой? – спокойно сказал человек, сидевший за столом. – Все это я тебе объясню. Но прежде ты должен дать мне подробный ответ на каждый из тех вопросов, которые я сейчас задам. Ясно?
Лука кивнул.
– Только ни в коем случае не лги. Здесь твоя жизнь буквально висит на волоске, а догадаться, какие именно ответы мне хотелось бы от тебя услышать, ты никак не можешь. Так что имей в виду: лучше отвечать правдиво. С твоей стороны было бы весьма глупо погибнуть из-за собственной лжи.
Лука попытался кивнуть, но не сумел, такая сильная его била дрожь.
– Тебя зовут Лука Веро, ты послушник монастыря Святого Ксаверия и был принят туда в возрасте одиннадцати лет, так? Три года назад ты стал сиротой, ибо родители твои умерли. Тебе тогда было четырнадцать, верно?
– Мои родители не умерли, а пропали, – возразил Лука и с трудом прокашлялся. – Они, возможно, и сейчас еще живы. Они были захвачены оттоманами[1] и проданы в рабство, но убитыми их никто не видел. И никто не знает, где они теперь. Но я надеюсь, что они все же остались в живых.
Инквизитор что-то быстро пометил на лежавшем перед ним листке. Лука следил за концом черного пера, быстро царапавшего по бумаге.
– Значит, ты все еще надеешься, – сказал инквизитор. – Надеешься, что твои родители живы и вернутся к тебе. – И слова эти прозвучали так, словно подобная надежда – либо величайшая глупость, либо полное безумие.
– Да, надеюсь.
– Ты был воспитан святыми братьями, ты поклялся в верности их ордену, и все же ты назвал подделкой – сперва в разговоре со своим духовником, а затем и с настоятелем монастыря – священную реликвию, которую они столь бережно хранят: ноготь распятого Христа.
В монотонном голосе инквизитора явственно звучало обвинение. Лука понимал, что это обвинение – в ереси, учитывая перечисление совершенных им проступков. И отлично знал, что единственное наказание за ересь – смерть.
– Я не имел намерения…
– Почему ты утверждал, что эта драгоценная реликвия – подделка?
Лука старался смотреть то на носки своих сапог, то на темный деревянный пол, то на тяжелый стол, то на оштукатуренные стены – куда угодно, только не в мрачное лицо того, кто тихим голосом задавал ему сейчас эти вопросы.
– Я обязательно попрошу у нашего настоятеля прощения и готов понести любое наказание, – сказал он. – Я вовсе не имел намерения высказывать еретические сомнения. Клянусь Господом, я не еретик. Я не хотел ничего плохого…
– Это мне судить, еретик ли ты. Я видел юношей и помоложе тебя, сделавших и сказавших куда меньше, чем ты, но и они потом на дыбе, рыдая, молили о снисхождении, когда с хрустом стали выворачиваться их суставы. Я не раз слышал, как взрослые мужи, куда умнее и лучше тебя, умоляли поскорее сжечь их на костре, ибо страстно мечтали о смерти как единственном избавлении от страшных мук.
Лука лишь покачал головой при мысли о святой инквизиции, способной решить его судьбу и вынести ему любой приговор именем Господа. И не осмелился вымолвить ни слова.
– Почему ты сказал, что реликвия – подделка? – повторил свой вопрос инквизитор.
– Я не хотел…
– Почему ты так сказал?
– В монастыре хранится кусочек Его ногтя, причем в длину он никак не меньше трех дюймов, а в ширину примерно четверть дюйма, – неохотно заговорил Лука. – Он достаточно велик, чтобы его можно было хорошо разглядеть, хотя теперь он оправлен в золотую раму, инкрустированную самоцветами. Но размеры его определить по-прежнему можно.
Инквизитор кивнул.
– И что же?
– В аббатстве Святого Петра тоже есть ноготь распятого Христа. И в аббатстве Святого Иосифа тоже. Я не раз ходил в монастырскую библиотеку, пытаясь выяснить, есть ли еще где-нибудь кусочки Его ногтей, и оказалось, что только в Италии их около четырех сотен, а во Франции еще больше; есть они и в Испании, и в Англии…
Инквизитор неприязненно молчал, явно ожидая продолжения.
– Я подсчитал примерную площадь этих кусочков, – несчастным тоном продолжал Лука. – И представил себе, какими должны были быть ногти, разломанные на столько кусков. Это же просто невозможно! Просто невозможно, чтобы столько реликвий было получено из ногтей одного распятого Христа. В Библии говорится: по одному ногтю с каждой руки и один с ноги. Значит, всего три. – Лука глянул в сумрачное лицо допрашивавшего его человека. – Это ведь не богохульство, ведь это написано в Библии. Нет, я не думаю, что это богохульство. А в Библии ясно сказано… И потом, если прибавить к этому количество ногтей, использованных при создании святого распятия – а их было четыре в центральной части, они поддерживают поперечную перекладину, – то получается всего семь. Всего семь ногтей. Пусть каждый ноготь был даже пять дюймов в длину. Тогда для создания святого распятия было использовано примерно тридцать пять дюймов ногтей. Но ведь имеются тысячи таких реликвий. Речь не о том, является ли подлинным каждый ноготь или его кусочек. Не мне об этом судить. Но я никак не могу смириться с очевидностью того, что этих ногтей слишком много для одного распятого.
Инквизитор по-прежнему не произносил ни слова.
– Это же просто числа, арифметика, – беспомощно пролепетал Лука. – Я пытался оперировать только числами. Я вообще очень часто о них думаю – они меня страшно интересуют.
– И ты взял на себя смелость решить этот вопрос с помощью чисел? Ты имел наглость утверждать, что по всему миру разбросано слишком много Его ногтей, чтобы все они были подлинными? Что далеко не все они действительно изъяты со святого распятия?
Лука упал на колени, понимая, сколь глубока его вина.
– Но у меня же ничего плохого и в мыслях не было, – прошептал он, поднимая глаза и вглядываясь в скрытое тенью лицо инквизитора. – Мне просто стало интересно, а потом я произвел некоторые расчеты, и наш настоятель случайно нашел листок с этими расчетами, и я… – Он внезапно умолк.
– Настоятель вашего монастыря вполне справедливо обвиняет тебя в ереси и в том, что ты занимаешься недозволенными исследованиями, а также неверно цитируешь Библию, используя ее в своих личных целях и читая Священную Книгу без наставника. К тому же, по его словам, ты проявляешь непростительное свободомыслие, без разрешения и в неурочное время берешь в библиотеке книги, в том числе запрещенные… – Инквизитор помолчал, а потом продолжил зачитывать вслух список прегрешений, совершенных Лукой, то и дело строго на него посматривая. – Но хуже всего то, что ты проявляешь преступное свободомыслие! Ведь, поступая в монастырь, ты поклялся соблюдать тамошний устав и придерживаться определенных представлений и верований, откуда же вдруг подобная самостоятельность?
– Я виноват, простите меня, – пролепетал Лука.
– Церкви не нужны люди, проявляющие излишнюю самостоятельность мышления.
– Я знаю, – еще тише сказал Лука.
– Ты давал обет послушания – обет, прежде всего запрещающий всякое свободомыслие.
Лука совсем повесил голову: ему оставалось лишь ждать вынесения приговора.
Пламя свечей вдруг заплясало на холодном сквозняке – видимо, кто-то приоткрыл входную дверь.
– И что, тебя всегда одолевали подобные мысли? Насчет чисел?
Лука кивнул.
– Есть ли у тебя в монастыре друзья? Ты с кем-нибудь обсуждал свои… открытия?
Лука покачал головой.
– Нет, этого я ни с кем не обсуждал.
Инквизитор заглянул в свои заметки.
– Но у тебя ведь, кажется, есть приятель по имени Фрейзе?
Лука впервые за все это время улыбнулся и воскликнул:
– Да он просто у нас в монастыре на кухне прислуживает! Чем-то я ему сразу приглянулся, с самого первого дня. Мне, когда я в монастырь поступил, всего одиннадцать лет исполнилось. Да и сам он был всего года на два постарше, но почему-то сразу решил обо мне заботиться, говорил, что я слишком худой, что я и одну зиму там не протяну. И за каждой трапезой приносил мне добавку. Он, правда, всего лишь на кухне повару помогает.
– Братья или сестры у тебя есть?
– Нет, я один во всем свете.
– Скучаешь ли ты по родителям?
– Да, очень.
– Чувствуешь ли ты себя одиноким? – Этот вопрос прозвучал как очередное обвинение.
– Да, пожалуй. Я чувствую, что остался совсем один, если вы об этом спрашиваете.
Инквизитор задумался, поднеся к губам кончик черного пера.
– А твои родители… – Пробежав глазами список вопросов, он вернулся к самому первому. – Они ведь, кажется, были уже немолоды, когда ты родился?
– Да, – с удивлением подтвердил Лука. – Да, это правда.
– И люди, по всей вероятности, удивлялись: как это у таких старых супругов вдруг родился мальчик, да еще такой хорошенький и умненький?
– У нас ведь очень маленькая деревня, – пробовал защищаться Лука. – Людям там только и остается, что сплетничать.
– Но ты ведь и впрямь хорош собой. И явно неглуп. Но твои родители отнюдь тобой не хвалились, не выставляли тебя напоказ, а, напротив, все больше дома держали, верно?
– Мы трое были очень близки, – ответил Лука. – У нас сплоченная маленькая семья. Мы никогда никому беспокойства не доставляли. И всегда жили очень тихо и замкнуто.
– Но почему в таком случае родители отдали тебя церкви? Может, им казалось, что в лоне церкви ты будешь в большей безопасности, чем дома? Или, может, они опасались какого-то особого дара, которым ты обладаешь? Может, из-за этого дара тебе и была необходима защита церкви?
Лука, по-прежнему стоя на коленях, неловко поерзал: ему было неудобно.
– Не знаю, – честно признался он. – Я же тогда совсем ребенком был, мне едва одиннадцать исполнилось. Я не знаю, что мои родители на сей счет думали.
Инквизитор молча ждал продолжения, но Лука довольно долго молчал, потом все же признался:
– Они хотели, чтобы я получил образование и стал священником. Мой отец… – Голос его дрогнул и прервался, ибо он вспомнил своего горячо любимого отца, его седые волосы, его крепкие объятия, нежность и терпение, которое не раз испытывал его маленький шустрый сынок… – Мой отец очень гордился тем, что я сам научился читать и считать, справляться с самыми разными числами. Он-то даже читать не умел и полагал это умение великим талантом. А однажды через нашу деревню проходил цыганский табор, и я научился говорить на их языке…
Инквизитор сделал какую-то пометку и спросил:
– Так ты умеешь говорить на разных языках?
– Люди у нас в деревне считали, что по-цыгански я за один день говорить научился. Мой отец был уверен, что Господь ниспослал мне некий дар. У людей ведь бывают разные таланты, это не такое уж редкое явление, – попытался объяснить Лука. – Например, Фрейзе, мой приятель из кухни, отлично ладит с любыми животными, а уж лошади его и вовсе слушаются беспрекословно; он на любой может сразу верхом проехать. Вот и мой отец считал, что у меня тоже есть похожий дар, только насчет учебы. Ему очень хотелось, чтобы я стал не просто крестьянином, а добился в жизни чего-то большего.
Инквизитор устало откинулся на спинку стула, словно ему уже надоели рассуждения Луки. Похоже, он и так уже услышал более чем достаточно.
– Хорошо. Можешь встать.
Он заглянул в свой список, испещренный чернильными пометками, и, когда Лука с некоторым трудом поднялся с пола, сказал:
– А теперь я отвечу на те вопросы, которые, безусловно, роятся у тебя в голове. Я духовный предводитель некоего ордена, назначенный на этот пост самим святым отцом, папой римским, и я несу перед ним ответственность за деятельность нашего ордена. Тебе не нужно знать ни мое имя, ни название нашего ордена. По приказанию папы Николая V мы проводим различные судебные расследования, пытаемся раскрывать всевозможные тайны, ереси и грехи, по мере возможности выясняя их суть и по мере возможности оказывая им всемерное сопротивление. Мы составляем, если можно так выразиться, некую «карту страхов», свойственных жителям различных стран мира, и наши братья странствуют по всему свету – от Рима до самых дальних окраин христианского мира, – желая выяснить, о чем говорят люди, чего они боятся, с чем сражаются. Мы должны знать, по каким тропам в мире людей бродит дьявол. Ибо святому отцу известно, что близок конец света.
– Конец света?
– Да. И тогда Христос явится вновь, чтобы судить живых, мертвых и неупокоенных. Ты, должно быть, слышал, что оттоманы захватили Константинополь, сердце Византийской империи, центр нашей церкви на Востоке?
Лука перекрестился. Падение восточной столицы христианства[2] под давлением непобедимой армии еретиков и неверных явилось для верующих самым ужасным событием, поистине невообразимым несчастьем.
– А теперь, по всей вероятности, силы тьмы двинутся на Рим, и если Рим падет, это станет концом всего. Станет концом света. Наша задача – защитить христианство, защитить Рим – и в мире людей, и в том невидимом мире, что лежит за пределами мира видимого.
– А где этот невидимый мир?
– Он окружает нас повсюду, – спокойно ответил инквизитор. – Я, например, вижу его столь же отчетливо, как ты, возможно, видишь разные числа. И с каждым годом, с каждым днем он все теснее нас обступает, надвигается на нас. Люди приходят ко мне, рассказывая о кровавых ливнях, о псе, который способен почуять след чумы, о колдовстве, об огнях в небе, о воде, превращающейся в вино. Близится конец света, и тому есть сотни свидетельств, сотни проявлений добра и зла, чудес и ересей. Такой способный молодой человек, как ты, мог бы, наверное, отличить в этих рассказах правду от лжи, а провидение Божие – от дьявольских происков. – Он поднялся со своего тяжелого деревянного кресла и подтолкнул к Луке, стоявшему по другую сторону стола, лист бумаги. – Посмотри.
И Лука увидел еретические значки – мавританскую, или арабскую, систему счисления. Лука еще в детстве узнал, что одна черточка, изображенная пером на бумаге, I, означает «один», две черточки, II, – «два» и так далее. Но среди этих мавританских значков была также какая-то странная округлая фигура. Лука видел подобные значки и раньше, но купцы в его деревне и брат-алмонер – монах, раздающий милостыню, – у них в монастыре упрямо отказывались пользоваться «еретическими значками», придерживаясь старых порядков[3].
– Вот это означает «один», это – «два», а это – «три», – пояснил инквизитор, указывая на тот или иной значок кончиком своего черного пера. – Помести цифру 1 в эту колонку, и она будет означать «один», но если ее поставить вот сюда, а рядом с нею изобразить пустой кружок, то она будет означать уже «десять»; а если поставить ее вот сюда и рядом с нею изобразить два пустых кружка, это будет уже «сто».
Лука охнул:
– То есть от положения цифры меняется значение числа?
– Именно так.
Инквизитор указал кончиком заточенного пера на пустой кружок, напоминающий вытянутую букву «о», в заполненных различными цифрами колонках. При этом его запястье словно вынырнуло из широкого рукава, и Лука невольно перевел взгляд со столбиков арабских цифр на белую кожу магистра, где на внутренней стороне запястья была отчетливо видна татуировка, выполненная красными чернилами: дракон, свернувшийся кольцом и прикусивший собственный хвост.
– Это не просто пустой кружок и не просто вытянутая буква «о», – сказал инквизитор. – Эту цифру арабы называют «нулем». Посмотри, какое место он занимает в различных числах, – это очень важно. А что, если он и сам по себе тоже кое-что значит?
– Может быть, им обозначено некое пустое пространство? Некий промежуток? – спросил Лука, снова вперив свой взор в столбцы цифр. – Или, может быть, он означает ничто?
– Это такое же число, как и любое другое, – сказал инквизитор. – Им удалось сотворить число даже из ничего, чтобы иметь возможность вести вычисления за пределы этого ничто и даже дальше.
– Дальше? Дальше, чем ничто?
Его собеседник указал на число –10.
– Вот что значит «дальше, чем ничто». На целых десять единиц дальше, чем ничто. Это и есть исчисление того, чего нет, – сказал он.
В душе у Луки поднялся целый вихрь мыслей, и он невольно протянул руку к лежавшему на столе листку с цифрами, но инквизитор решительно подвинул листок к себе и накрыл его своей широкой ладонью, словно не желая просто так отдавать Луке этот «приз», который еще следовало заслужить. Белое запястье его снова спряталось в рукаве, и татуировка тоже больше была не видна.
– Ты знаешь, как они добрались до этого знака, до числа «ноль»? – спросил он.
Лука покачал головой.
– Кто добрался?
– Арабы, мавры, оттоманы – называй их как хочешь. Мусульмане. Муслимы. Неверные. Наши враги, наши новые завоеватели. Ты знаешь, как они получили этот знак?
– Нет.
– Это отпечаток на песке шашки или шахматной фигуры, который остается после того, как эту фигуру убрали. Это символ отсутствия, он и выглядит как пустота, отсутствие чего бы то ни было. Именно это он и означает. Вот как они это воспринимают. Вот чему нам нужно у них учиться.
– Я не понимаю. Чему нам нужно учиться у них?
– Смотреть, смотреть и смотреть во все глаза. Именно так они и поступают. Они внимательно смотрят на все, они думают обо всем, вот почему им удалось увидеть в небесах такие звезды, которых мы никогда не видели. Вот почему они делают отличные лекарства из растений, которых мы никогда не замечали. – Инквизитор поправил капюшон плаща, так что лицо его снова полностью скрылось в тени. – Вот почему они непременно одержат над нами победу, если мы не научимся смотреть так, как смотрят они, думать так, как думают они, считать так, как считают они. Но, возможно, такой молодой человек, как ты, мог бы выучить и их язык тоже…
Лука не отрываясь смотрел на листок, где этот человек отметил десять единиц счисления – от девяти до нуля и дальше, чем нуль.
– Ну, что скажешь? – спросил у него инквизитор. – Или, может, тебе кажется, что десять единиц пустоты принадлежат невидимому миру? Словно десять невидимых предметов? Десять призраков? Десять ангелов?
– Если можно считать дальше, чем ничто, – неуверенно заговорил Лука, – то можно выразить и то, что утратил. Скажем, ты – купец, и твой долг в одной из стран или во время одного из путешествий стал больше всего того, что у тебя имеется, и с помощью этого числа можно с точностью рассчитать, какова на самом деле величина твоего долга. И понять, сколько ты потерял. Понять, какой ты понес убыток и сколько тебе нужно заработать, чтобы снова оказаться в прибытке.
– Да, – сказал инквизитор. – С помощью нуля можно измерить то, чего нет. Оттоманы захватили Константинополь и всю нашу Восточную империю не только потому, что у них самая сильная армия и самые лучшие военачальники, но и потому, что они обладают таким оружием, какого у нас нет и в помине. У них есть такая огромная и тяжелая пушка, что требуется шестьдесят волов, чтобы передвинуть ее на нужное место. Они обладают знанием таких вещей, которых мы совершенно не понимаем. И причиной того, почему я послал за тобой, почему тебя исключили из монастыря – но не наказали за непослушание и не подвергли пытке за ересь! – является мое заветное желание вызнать их секреты. Я хочу, чтобы именно ты раскрыл и изучил эти тайны; чтобы и мы смогли, обладая тем же оружием, противостоять врагу.
– Значит, нуль – это одна из тех вещей, которые я должен изучить? Неужели мне придется отправиться к оттоманам и учиться у них? Неужели и мне удастся приобщиться к их научным открытиям?
Инквизитор рассмеялся и подтолкнул листок с арабскими цифрами к юному послушнику, все же придерживая его одним пальцем.
– Я позволю тебе взять это, – пообещал он. – Это может стать твоим вознаграждением, если ты достойно выполнишь мое задание, а затем отправишься исполнять возложенную на тебя миссию. Да, вполне возможно, тебе придется уехать в стан неверных, жить среди них и всему у них учиться. Но пока что ты должен поклясться в верности и послушании мне и моему ордену. Я пошлю тебя в другие страны, чтобы ты стал там моими ушами и глазами. Я отправлю тебя на охоту за тайнами, на поиск знаний. И по моему указу ты составишь карту самых различных страхов, чтобы нам было легче искать Тьму во всех ее формах и проявлениях. Я пошлю тебя в широкий мир для того, чтобы ты понял порядок вещей, чтобы ты стал одним из тех представителей нашего ордена, которые стремятся понять все на свете.
Он не мог не заметить, как просияло лицо Луки при мысли о том, что он сможет всю свою жизнь посвятить научным исследованиям. Затем юношу вдруг одолели сомнения.
– Я же не буду знать, что мне делать, с чего начать, – признался он. – Я же ничего не понимаю в жизни! Куда мне в первую очередь направиться и как поступить?
– Я намерен послать тебя учиться – у великих знатоков и ученых. С их помощью ты постигнешь право, узнаешь законы судопроизводства и то, как вести судебное расследование. Поймешь, что и где нужно искать, какие вопросы задавать свидетелям и подсудимым, когда и кого следует освободить, а кого предать светскому суду – мэрам городов или знатным землевладельцам, – а кого суду церковному. Ты научишься прощать и наказывать. А когда ты обретешь все необходимые знания и навыки, я поручу тебе твою первую миссию.
Лука кивнул.
– Твое обучение займет несколько месяцев, а затем ты отправишься в широкий мир, – продолжал инквизитор. – Но отправишься туда, куда прикажу тебе я, и будешь внимательно изучать то, что тебе там удастся обнаружить. И будешь передо мной отчитываться за каждый свой шаг. Тебе будет дано право судить и наказывать людей, если найдешь какие-то их действия неправильными. Ты сможешь изгонять дьявола и нечистых духов. Ты сможешь учиться. И, разумеется, ты всегда сможешь задавать мне любые вопросы. Но служить ты будешь только Богу и мне, о чем я уже предупреждал тебя. И станешь беспрекословно подчиняться мне и тому ордену, который я возглавляю. Тебе предстоит отправиться в невиданные страны, увидеть невиданные вещи и задавать тамошним жителям всевозможные вопросы, касающиеся этих вещей.
Последовала пауза. Затем инквизитор будничным тоном, словно дав своему подопечному самые простые наставления, сказал:
– Все. Теперь можешь идти. – Лука вздрогнул, выходя из безмолвно-внимательного оцепенения, и двинулся к двери. Когда он уже коснулся рукой бронзовой дверной ручки, до него снова донесся голос инквизитора: – И еще одно…
Лука обернулся.
– Говорят, ты – подменыш, тебя вроде как эльфы принесли, это верно? – Вопрос инквизитора обрушился на Луку, точно ледяной дождь. – Кажется, так считают жители вашей деревни? Ведь каково происхождение сплетен о том, откуда взялся у немолодой женщины, всю жизнь считавшейся бесплодной, и ее пожилого мужа, который ни читать, ни писать не умеет, такой хорошенький и умненький сынок? Ведь я прав: твои односельчане уверены, что тебя эльфы подкинули, оставили у твоей матери на пороге?
Повисло леденящее молчание. Суровое юное лицо Луки словно окаменело.
– Я никогда не позволял себе даже отвечать на подобные вопросы и надеюсь, что мне никогда этого делать не придется. Я не знаю, что о нас говорили в деревне. – Голос юноши звучал спокойно и холодно. – Тамошние жители – просто невежественные крестьяне, которые всего на свете боятся. Моя мать говорила мне, чтобы я никогда не обращал внимания на подобные сплетни. Она сказала, что это она меня родила, что любит меня больше всего на свете, что одно лишь это и имеет значение, а не какие-то сказки об эльфийских подменышах.
Инквизитор коротко рассмеялся и махнул рукой, отпуская Луку, а потом, когда за юношей уже закрылась дверь, пробормотал себе под нос, собирая на столе бумаги и отодвигая тяжелое кресло:
– А что, если я действительно собираюсь послать в широкий мир эльфийского подменыша, чтобы он наносил на карту те места, где существуют самые разнообразные страхи? Право, это была бы поистине замечательная шутка – лучшая в обоих мирах, видимом и невидимом! Дитя эльфов среди братьев моего ордена! Дитя эльфов, составляющее карту людских страхов!
Замок Лукретили, июнь 1453 года
Примерно в тот же день, когда Луку вызвал на допрос магистр неведомого ему ордена, в фамильной часовне замка Лукретили, милях в двадцати от Рима, сидела в роскошном кресле молодая женщина. Ее синие глаза неотрывно смотрели на прекрасно выполненное распятие; светлые волосы были небрежно заплетены в косу, спрятанную под черной вуалью, а бледное лицо выглядело напряженным. Одинокая свеча в чаше розового хрусталя мерцала на алтаре; в полумраке, окутывавшем часовню, неторопливо отправлял необходимые обряды священник. Затем юная женщина опустилась на колени и, крепко сжав руки, стала истово молиться; она молилась за своего отца, который в данную минуту у себя в спальне из последних сил сражался со смертью, но видеть родную дочь упорно отказывался.
Дверь в задней стене часовни неслышно приоткрылась, и внутрь осторожно проник брат коленопреклоненной девушки, тихонько подошел к ней и опустился рядом на колени. Она лишь искоса на него глянула и тут же заметила, что его лицо – красивое, темнобровое, обрамленное черными кудрями – искажено горем.
– Он умер, Изольда, умер! Упокой, Господи, душу его.
Бледное лицо девушки исказилось, и она, пряча его в ладонях, воскликнула:
– Неужели он так и не захотел меня увидеть? Даже под конец?
– Нет, он не желал, чтобы ты видела его страдания. Говорил, что лучше уж ты будешь помнить его здоровым, полным сил, как всегда прежде. Но его последние слова были обращены к тебе: он благословлял тебя и до последней минуты думал о твоем будущем.
Изольда покачала головой.
– Не могу поверить, что он так и не захотел сам благословить меня!
Ее брат Джорджо отвернулся и стал что-то говорить священнику. Тот, выслушав, сразу же поспешил к двери, а вскоре Изольда услышала звон большого колокола, возвещавший, что знаменитый крестоносец дон Лукретили скончался.
– Я должна помолиться, – тихо сказала брату Изольда. – Ведь теперь его тело перенесут сюда? – Джорджо молча кивнул, и она решила: – Сегодняшнюю ночь я буду бодрствовать. Посижу возле него хоть теперь, когда он мертв, ведь пока он был жив, он не допускал меня к себе. – Она помолчала. – А письма он никакого мне не оставил? Ни словечка?
– Нет, только завещание, – ответил Джорджо. – Однако он основательно продумал твое будущее. Даже на пороге смерти все его мысли были только о тебе.
Изольда молча кивнула; слезы так и лились из ее синих глаз; затем, молитвенно сложив руки, она стала просить Господа позаботиться о душе ее усопшего отца.
* * *
Всю ту первую долгую ночь после смерти дона Лукретили Изольда провела в безмолвном бодрствовании у его гроба, перенесенного в фамильную часовню. Возле гроба в почетном карауле, горестно понурившись, стояли с боевыми мечами в руках четверо адъютантов, заняв позиции точно с севера, юга, запада и востока. В часовне горели большие восковые свечи; их свет блестел в каплях святой воды, которой священник окропил крышку гроба. Изольда, вся в белом, до рассвета простояла перед гробом на коленях. Наконец, часов в шесть утра, священник пришел служить хвалитны, и только тогда девушка поднялась и позволила дамам отвести себя, усталую, в спальню. Там Изольде удалось даже немного вздремнуть, однако она и проснувшись оставалась в постели, пока брат не сказал, что ей нужно встать и сойти вниз, ибо наступило время обеда, а все обитатели замка непременно хотят видеть за столом хозяйку.
Изольда не колебалась. Ей с детства внушили верность своему долгу и своему большому дому, а также чувство ответственности перед теми людьми, что жили в замке и на землях, принадлежавших семье Лукретили. Она знала, что отец намеревался оставить ей и этот замок, и эти земли, и теперь чувствовала себя их полноправной хозяйкой и понимала, что отныне в ответе за них. Люди, конечно же, хотят, чтобы она заняла свое законное место во главе стола, хотят увидеть, как она с достоинством войдет в большой обеденный зал, даже если глаза ее будут красны от слез, которые она проливает, оплакивая горячо любимого отца. Они, конечно же, будут ждать, что она и в этот вечер сядет обедать вместе с ними. И сам отец, разумеется, тоже ждет от нее того же. Нет, она ни в коем случае не могла подвести ни отца, ни этих преданных ему людей!
* * *
Когда Изольда вошла в большой зал, там сразу же наступила полная тишина. Слуги, устроившиеся за раскладными столами и тихо беседовавшие в ожидании обеда, мгновенно примолкли. За главным столом сидели более двух сотен рыцарей; в большом камине жарко горел огонь, и дым кольцами поднимался к почерневшим балкам высокого потолка.
Увидев входящую в сопровождении трех ближайших дам Изольду, рыцари дружно встали, почтительно обнажив головы и низко кланяясь ей, дочери покойного дона Лукретили и наследнице этого замка.
Изольда надела темно-синее траурное платье и высокий конический головной убор с ниспадающей кружевной вуалью цвета индиго, скрывавшей ее светлые волосы; бесценный пояс из арабского золота туго охватывал высокую талию; с пояса на золотой цепочке свисали ключи от замка. Следом за Изольдой вошли ее компаньонки – впереди всех Ишрак, ближайшая ее подруга с раннего детства. Ишрак была в мавританских[4] одеждах – длинной тунике и широких шароварах, а голову ее и лицо полностью скрывала длинная легкая вуаль, так что видны были только глаза, очень внимательно смотревшие на тех, кто присутствовал в зале.
Изольда прошла вдоль столов, слыша, как слуги шепчут ей вслед благословения. Затем три ее компаньонки заняли места за «женским» столом, стоявшим чуть сбоку от главного, расположенного на возвышении, а сама Изольда поднялась по пологим ступеням на привычное место и… внутренне вздрогнула, увидев, что ее брат Джорджо сидит на том самом резном деревянном кресле, похожем на трон, которое всегда занимал их отец. Умом она понимала, что старшему брату и следует там находиться, однако ему заранее было хорошо известно, что этот замок унаследует она, Изольда, а значит, именно ей предстоит занять огромное отцовское кресло, как только завещание будет зачитано вслух. Но сейчас Изольда была настолько потрясена горем, что ей и в голову не пришла мысль о том, что, возможно, теперь она постоянно будет видеть брата там, где следовало бы сидеть ее отцу. Постигшее их горе было еще так свежо, что девушка не успела до конца осознать, что никогда больше отца не увидит.
А Джорджо ласково ей улыбнулся и жестом указал, чтобы она заняла место по правую его руку – именно там она обычно сидела рядом с отцом.
– Ты, конечно же, помнишь принца Роберто? – Слева от Джорджо сидел полный мужчина с круглым лицом, покрытым крупными каплями пота. После этих слов гость встал и, обойдя стол, почтительно поклонился Изольде. Она подала ему руку и вопросительно посмотрела на брата. – Принц Роберто специально прибыл, чтобы выразить нам сочувствие по поводу столь тяжкой утраты, – пояснил Джорджо.
Роберто поцеловал Изольде руку, и она с трудом сдержалась, чтобы не вздрогнуть, – таким противным было прикосновение его мокрых губ. А он смотрел на нее так, словно хотел шепнуть ей что-то на ушко, будто они обладали неким общим секретом, и не выпускал ее руки. Изольда отняла руку и шепнула брату на ухо:
– Странно, что ты пригласил к обеду гостя – ведь наш отец умер всего лишь вчера.
– Напротив, со стороны Роберто было так мило, что он сразу же приехал, – возразил Джорджо и кивнул стоявшим в дверях слугам, которые тут же внесли жареную дичь и прочие мясные и рыбные кушанья, а также огромные караваи хлеба и кувшины с вином и пивом.
Священник прочел молитву, возблагодарив Господа, и слуги с грохотом стали расставлять принесенные яства, а мужчины вытащили – кто из-за пояса, а кто из-за голенища сапога – кинжалы и принялись ловко разделывать у себя на тарелках огромные порции мяса и накладывать на ломти свежего ржаного хлеба толстенные куски запеченой рыбы и тушеной оленины.
Изольде этот обед дался нелегко: за столами все вели себя так, словно ничего не произошло, а ведь сейчас в часовне покоился на смертном ложе ее отец, охраняемый верными воинами, и завтра его уже должны были похоронить. Сквозь пелену то и дело закипающих слез она с трудом видела, как входят в зал слуги с новыми подносами, нагруженными едой, как они со стуком ставят на столы кувшины с легким пивом, как подносят самые лучшие кушанья и самые изысканные вина к господскому столу, где Джорджо и его гость сперва кладут себе самые лучшие куски, а затем отсылают остальное на нижние столы, тем людям, которые так хорошо служили дону Лукретили. Кстати, принц Роберто, как и Джорджо, ел с отменным аппетитом, то и дело требуя наполнить его бокал. Сама же Изольда вяло ковырялась в тарелке, время от времени посматривая в сторону «женского» стола, где ее взгляд каждый раз с безмолвным сочувствием тут же перехватывала верная Ишрак.
Когда обед стал подходить к концу и подали засахаренные фрукты и марципаны, а потом и их унесли прочь, Джорджо коснулся руки сестры и сказал:
– Ты погоди уходить к себе. Мне нужно с тобой поговорить.
Изольда кивнула, жестом отпустила Ишрак и дам, и те, встав из-за стола, тут же отправились на женскую половину дома. А сама она прошла в неприметную маленькую дверцу, находившуюся за главным столом, и оказалась в уютной маленькой гостиной, где семья Лукретили любила проводить время после обеда. В камине горел огонь, а напротив стояли три кресла и столик, на котором мужчин поджидал графин с вином, а Изольду – бокал с легким пивом. Едва она успела сесть, как в комнату вошел ее брат вместе с принцем Роберто.
– Я хочу обсудить с тобой завещание отца, – сказал Джорджо, удобно усаживаясь.
Изольда с некоторым удивлением глянула в сторону принца.
– Роберто это тоже касается, – заметив ее взгляд, пояснил Джорджо. – Умирая, отец говорил, что самое большое его желание – это знать, что ты в безопасности, что ты счастлива. Ты же знаешь, он любил тебя всем сердцем.
Изольда, сдерживая рыдания, прижала пальцы к холодным губам и сморгнула повисшие на ресницах слезы.
– Я знаю, – ласково продолжал ее брат, – знаю, как сильно ты о нем горюешь. И все же ты должна знать: у отца имелись относительно тебя определенные планы, и именно мне он поручил священное право воплотить эти планы в жизнь.
– Почему же он сам не сказал мне об этих планах? – спросила Изольда. – Почему он вообще отказывался видеть меня? Ведь раньше мы с ним могли говорить обо всем на свете. Но вообще-то я знаю, какие у него были планы в отношении меня. Отец мне сказал, что если я предпочту не выходить замуж, то буду жить здесь, поскольку этот замок он оставит мне в наследство, а тебе он хотел передать свой замок во Франции и тамошние земельные владения. Так что мы с ним давно обо всем договорились. Да, собственно, мы все трое давно обо всем договорились.
– Мы договаривались об этом, когда отец был здоров, – терпеливо возразил Джорджо. – Но потом, когда он заболел, душа его исполнилась страха, и он передумал. Кстати, именно тогда он и решил тебе не показываться – не хотел, чтобы ты видела его страдания. И вот, думая в первую очередь о тебе и понимая, что смерть уже распростерла над ним свои крыла, он и решил изменить свой первоначальный план. Он хотел быть уверен, что тебе никогда не будет грозить опасность, и, как ему казалось, нашел выход: согласно его воле тебе следует выйти замуж за принца Роберто и получить в качестве приданого тысячу золотых монет из нашей казны.
Это, разумеется, была просто ничтожная сумма для женщины, выросшей с сознанием того, что она станет наследницей и огромного замка, и прилегающих к нему земель: тучных пастбищ, густых лесов и высоких гор. Изольда не сдержалась:
– Но почему так мало?
– Потому что присутствующий здесь принц Роберто оказал нам великую честь, согласившись взять тебя в жены в твоем положении – с приданым всего лишь в тысячу золотых.
– И эта тысяча, безусловно, будет в полном твоем распоряжении, госпожа моя, – тут же заверил Изольду принц, ласково пожимая ее руку, лежавшую на подлокотнике кресла. – Ты сможешь потратить ее на что угодно. На всякие хорошенькие вещички для хорошенькой принцессы.
Изольда смотрела на брата, презрительно прищурив синие глаза: она отлично понимала, что это означает.
– Столь жалкое приданое говорит лишь об одном: больше никто и не станет искать моей руки, – сказала она. – И ты прекрасно это понимаешь, Джорджо. Однако ты и не подумал попросить у отца увеличить эту сумму, не так ли? Почему же ты не подсказал ему, что подобное решение лишает меня каких-либо перспектив? Но, самое главное, почему отец так решил? Неужели он хотел силой заставить меня выйти замуж за этого… принца?
Принц Роберто скромно потупился и, прижав руку к мясистой груди, заметил:
– Но большинству знатных дам вовсе не требуется применение силы, когда их выдают замуж.
– А я, со своей стороны, просто не представляю, где бы ты нашла лучшего мужа, чем Роберто, – примирительным тоном сказал Джорджо. Его дружок кивнул ему в знак благодарности и с улыбкой посмотрел на Изольду. – И отец наш тоже так считал. А размеры твоего приданого мы заранее согласовали с Роберто; он, кстати сказать, был так рад жениться на тебе, что и не требовал большего. Так что не стоит никого обвинять в том, что твои интересы не соблюдены. Да и что может быть лучше для тебя, чем брак с другом семьи? Тем более с принцем, с человеком не только знатным, но и очень богатым?
Изольде потребовалась всего лишь минута, чтобы обдумать услышанное и все для себя решить.
– Нет, сейчас я и думать не могу о замужестве, – как-то чересчур спокойно сказала она. – Прошу прощения, принц Роберто, но с той минуты, когда мой отец испустил последний вздох, прошло еще слишком мало времени. Мне невыносима даже сама мысль о браке, а уж обсуждать эту тему я и вовсе не в состоянии.
– Но нам необходимо это обсудить! – настаивал Джорджо. – Согласно условиям отцовского завещания, мы должны устроить твою судьбу. Он бы не допустил никаких отлагательств. Либо незамедлительный брак с моим другом Роберто, либо… – Он не договорил.
– Либо что? – спросила Изольда, внезапно ощутив под ложечкой холодок страха.
– Либо монастырь, – спокойно сообщил ей брат. – Отец говорил, что, если ты откажешься выходить замуж, я должен буду сделать тебя настоятельницей нашего монастыря, и тебе придется отправиться туда навсегда.
– Ни за что! – воскликнула Изольда. – И я никогда не поверю, что отец мог так со мной поступить!
Джорджо кивнул и примирительно заметил:
– Ну, допустим, меня тоже удивило его решение, но он утверждал, что всегда хотел для тебя именно такой судьбы. Именно поэтому, когда умерла прежняя аббатиса, он оставил ее место вакантным. Значит, уже тогда, год назад, у него возникла эта мысль. Вероятно, он был уверен, что в монастыре тебе ничто не будет грозить ни сейчас, ни в будущем. Действительно, нельзя же допустить, чтобы ты в одиночку сражалась с теми опасностями, которые таит окружающий мир; нельзя допустить, чтобы ты осталась в Лукретили совсем одна. Так что, раз ты не хочешь замуж за принца, тебе одна дорога – в аббатство. Там, по крайней мере, ты будешь в полной безопасности.
Принц Роберто, лукаво улыбаясь, подмигнул Изольде:
– Ну что? Монахиня или принцесса? По-моему, тут выбрать нетрудно.
Изольда в гневе вскочила на ноги.
– Нет, я не могу поверить, что отец сам уготовил мне такую судьбу! – воскликнула она. – Он никогда не предлагал мне подобного выбора, даже намеков таких не делал, но совершенно ясно дал мне понять, что разделит свои земельные владения между мной и тобой, Джорджо. Он знал, как я люблю эти места, как я люблю этот замок, как хорошо знаю здешних людей. Он обещал оставить мне и этот замок, и эти земли, а тебе – все свои французские владения.
Джорджо горестно покачал головой, словно сожалея о решении отца, и мягко сказал:
– Увы, дорогая, он передумал. И теперь я, его старший и единственный сын, его единственный настоящий наследник, получаю все – как во Франции, так и здесь. Ты же, будучи женщиной, должна этот замок покинуть.
– Джорджо, брат мой, ведь не можешь же ты выгнать меня из родного дома?
Он развел руками.
– А что я могу поделать? Такова последняя воля нашего отца. Так написано в завещании, скрепленном его собственной подписью. Ты либо выйдешь замуж – но при этом никто, кроме принца Роберто, тебя замуж, пожалуй, и впрямь не возьмет, – либо отправишься в монастырь. И еще скажи спасибо, что отец предложил тебе хоть какой-то выбор. Многие на его месте попросту приказали бы своей дочери поступить так, а не иначе, и записали это в своем завещании.
– Что ж, ладно, но теперь я прошу меня извинить, – сказала Изольда, и голос ее слегка дрожал, ибо она с трудом сдерживала гнев, – ибо я покину вас, чтобы все это хорошенько обдумать в одиночестве.
– Только думай недолго, госпожа моя! – сказал принц Роберто, плотоядно усмехаясь. – Слишком долго я ждать не стану.
– Я дам вам свой ответ завтра. – На пороге Изольда остановилась и оглянулась на брата. – Можно мне самой прочесть отцовское завещание?
Джорджо кивнул и вытащил его из кармана колета.
– Ты можешь даже оставить его себе. Это копия. Оригинал я храню в надежном месте; впрочем, пожелания отца не оставляют сомнений, так что тебе не придется решать, подчинишься ли ты его воле. Тебе нужно всего лишь определиться в выборе, и возможных решений существует только два. Отец знал, что ты в любом случае его не ослушаешься.
– Конечно, – сказала Изольда, – я же его дочь. И, разумеется, подчинюсь его воле. – И с этими словами она вышла из комнаты, даже не взглянув на принца, хотя тот вскочил и весьма галантно раскланялся перед нею. Роберто пожал плечами и подмигнул Джорджо, видимо полагая вопрос решенным.
* * *
Изольда проснулась среди ночи, услышав негромкий стук в дверь. Подушка у нее под щекою была мокра от слез: она плакала даже во сне. «Господи, – думала она, – отчего мне так больно, словно у меня разрывается сердце?» Но потом вспомнила: гроб в часовне, безмолвные рыцари, стоящие на страже… Она перекрестилась и прошептала: «Благослови его, Господи, спаси его душу! А меня утешь в моей великой печали, ибо не знаю, смогу ли я вынести все это без Твоей помощи».
Негромкий стук повторился. Изольда, откинув богато расшитые одеяла, встала, подошла к двери с ключом в руках и спросила:
– Кто там?
– Это я, принц Роберто. Мне нужно поговорить с тобой, госпожа моя.
– Нет, сейчас я не могу открыть дверь. Мы поговорим завтра.
– Но мне необходимо кое-что выяснить уже сегодня. Это касается завещания и пожеланий покойного дона Лукретили.
Девушка колебалась.
– Нет, лучше завтра…
– По-моему, я нашел отличный выход из создавшегося положения. Я понимаю, прекрасная госпожа моя, каково тебе сейчас, но мне кажется, я могу помочь, и если бы…
– Какой еще выход?
– Не могу же я кричать через дверь. Хотя бы приоткрой ее немного, чтобы я мог в щелку шепнуть…
– Хорошо, чуть-чуть приоткрою, – согласилась Изольда и повернула ключ в замке, но дверь придержала ногой.
Едва услышав скрежет ключа, Роберто ринулся вперед и с такой силой распахнул дверь, что та ударила Изольду по голове, буквально отбросив ее назад. А принц, моментально захлопнув створку, повернул ключ в замке и сунул его в карман; теперь Изольда осталась с ним наедине, да еще и в запертой спальне.
– Так значит, ты надеялась, что можешь так просто меня отвергнуть? – гневно спросил Роберто, глядя, как Изольда поднимается с пола. – Ты, почти нищая, рассчитывала унизить меня отказом? Ты что, думала, я буду умолять тебя, стоя под запертой дверью и выпрашивая разрешение поговорить с тобой?
– Как ты посмел силой врываться ко мне? – Изольда даже побледнела от гнева. – Да мой брат убил бы тебя, если б только…
– Твой брат сам мне это позволил! – рассмеялся Роберто. – Твой брат очень даже рад, что я готов взять тебя в жены. Ведь именно он предложил мне заглянуть к тебе этой же ночью. Ну, хватит разговоров, полезай-ка в кровать!
– Мой брат сам?.. – Изольда чувствовала, что испуг, который она испытала вначале, перерастает в леденящий ужас, ибо наконец начинала понимать, что брат, ее родной брат, предал ее и теперь этот чужой потный мужчина неотвратимо надвигается на нее, а на его жирной физиономии сияет уверенная улыбка.
– Ну да, – подтвердил Роберто, – он сказал, что я с тем же успехом могу взять тебя прямо сейчас, а не дожидаться какой-то там свадьбы. Ты, конечно, можешь сопротивляться, если захочешь. Мне все равно. Мне, пожалуй, даже нравится, когда женщины строптивы. Я вообще люблю таких вот, непокорных, – как раз они-то под конец и становятся самыми послушными женами.
– Ты спятил, – уверенно заявила Изольда.
– Да говори что хочешь. Но я считаю тебя своей законной женой и намерен прямо сейчас подтвердить свои супружеские права, чтобы завтра ты уже никаких ошибок не сделала.
– Ты пьян, – сказала она, уловив исходивший от него кислый запах алкоголя.
– Да, слава богу, немного пьян, но ты уже можешь начинать и к этому потихоньку привыкать.
И он снова двинулся к ней, на ходу стаскивая с жирных плеч колет. Она отшатнулась, попятилась и уперлась спиной в один из столбиков кровати, поддерживавших балдахин. Дальше отступать было некуда. Изольда спрятала руки за спину, чтобы Роберто не смог их перехватить, и внезапно нащупала под краем стеганого бархатного одеяла ручку бронзовой грелки, полной горячих углей, – эту грелку заботливые служанки, как всегда, заранее приготовили для нее и положили в холодную постель.
– Прошу тебя, – сказала она, – это же просто смешно. Ведь ты наносишь оскорбление нашему гостеприимному дому. Ты, наш гость, видно, забыл, что наш мертвый отец лежит сейчас рядом, в фамильной часовне, что я беззащитна, а ты допьяна налился вином из наших погребов! Опомнись, прошу тебя, ступай в свою комнату, а утром мы с тобой обязательно поговорим, и я обещаю, что не скажу тебе ни одного дурного слова.
– Нет, – мерзко осклабился Роберто, – и не подумаю! Я уже решил, что проведу ночь в твоей постели, и я совершенно уверен, что после этого ты завтра действительно не скажешь мне ни одного дурного слова.
Пальцы Изольды изо всех сил стиснули ручку бронзовой грелки, а Роберто между тем уже начал расшнуровывать ширинку на штанах; девушка с отвращением увидела, что оттуда торчит кусок грязноватого серого белья. А принц, заметив ее взгляд, потянулся к ней, явно рассчитывая схватить ее за руку и притянуть к себе.
– Не бойся, больно бывает совсем не обязательно, – попытался он ее успокоить. – Возможно, тебе даже понравится…
Хорошенько размахнувшись, Изольда ударила его бронзовой грелкой куда-то в ухо. Красные угли так и разлетелись по полу. Зола засыпала принцу все лицо, и он прямо-таки взвыл от боли, но Изольда, чуть отступив, снова, еще сильней, ударила его, и на этот раз он рухнул ничком на пол, точно толстый, не ждавший удара вол под ножом мясника.
Изольда, схватив кувшин с водой, загасила дымившиеся угли на полу и под рухнувшей тушей Роберто. Потом осторожно толкнула насильника носком домашней туфли, но он даже не пошевелился. Может, она его убила? Девушка подошла к двери, ведущей в маленькую комнатку, примыкавшую к ее спальне, чуть приоткрыла ее и шепотом окликнула: «Ишрак!» Та моментально появилась, протирая заспанные глаза. Изольда молча указала на Роберто, распростертого у ее ног.
– Он что, мертв? – спокойно спросила Ишрак.
– Нет. Не думаю. Помоги мне вытащить его отсюда.
Найдя ключ и взявшись за край ковра, они вытащили его вместе с безжизненным, обмякшим телом принца в коридор. За ковром по полу тянулся грязный след – вода, смешанная с золой.
– Я полагаю, твой братец сам позволил ему заявиться к тебе среди ночи? – прямо спросила Ишрак.
Изольда молча кивнула. Ишрак презрительно плюнула в бледное, помертвелое лицо Роберто и сердито сказала:
– А ты-то зачем дверь открыла?
– Я думала, он действительно мне сможет помочь. Он говорил, что у него возникла какая-то идея, вот я и отперла дверь. Я хотела только чуть-чуть ее приоткрыть, а он взял и вломился в спальню…
– Он тебе ничего не сделал? – Темные глаза Ишрак внимательно смотрели в лицо подруге. – Что это у тебя на лбу?
– Это он меня дверью ударил, когда ворвался. Даже с ног сбил.
– Он что, хотел тебя изнасиловать?
Изольда молча кивнула.
– Раз так, пусть тут и валяется! – решила Ишрак. – Может, он еще успеет в себя прийти – прямо тут, на полу. А потом пусть, как жалкий пес – а он и есть жалкий пес! – ползет на четвереньках к себе. Ну а если он до утра тут проваляется, так его первыми слуги обнаружат. Вот уж они всласть над ним посмеются! – Ишрак наклонилась и умело пощупала пульс у принца на шее, на запястье и на заплывшем жиром животе. – Ничего, жить будет, – уверенно сказала она. – Хотя вряд ли кто-то стал бы по нему горевать, даже если б мы ему тут втихую горло перерезали.
– Нет уж, этого делать никак нельзя! – дрожащим голосом сказала Изольда.
Принц Роберто лежал посреди коридора на спине в непристойно расстегнутых штанах и был похож на толстого кита, которого море выбросило на берег.
– Погоди-ка! – Ишрак быстро сбегала к себе в комнату и вскоре вернулась, неся маленькую коробочку. Крайне осторожно, кончиками пальцев, кривясь от отвращения, она совсем расшнуровала на Роберто штаны, приподняла нижнюю рубаху, чтобы каждый мог видеть его отвратительную обнаженную жирную плоть, затем сняла с коробочки крышку и вытряхнула на него какой-то едкий порошок.
– Что это? – шепотом спросила Изольда.
– Сушеный перец. Красный. Ужасно жгучий! У него там все будет чесаться, словно он оспу подцепил! Вся кожа красными волдырями покроется. Он еще очень пожалеет об этой ночи! По крайней мере месяц он еще точно будет расчесывать себя до крови, и ему еще долго даже в голову не придет к женщинам приставать.
Изольда рассмеялась и протянула Ишрак согнутую в локте руку; их руки переплелись от локтя до запястья в жесте вечной дружбы, принятом у рыцарей; этому жесту Изольду еще в детстве научил отец и объяснил его смысл. Ишрак усмехнулась, еще раз презрительно глянула на распростертое на полу тело, и девушки вернулись в спальню, накрепко заперев за собой дверь, чтобы принц, случайно очнувшись, не вздумал опять туда вломиться.
* * *
Утром, когда Изольда пришла в часовню, гроб с телом ее отца был уже закрыт и полностью подготовлен к переносу в глубокий фамильный склеп. Принца Роберто, как оказалось, и след простыл.
– Он отказался вступать с тобой в брак, – холодно сообщил Джорджо, опускаясь на колени рядом с Изольдой, молившейся на ступенях алтаря. – Я полагаю, между вами произошла какая-то ссора?
– Твой Роберто – негодяй, – отрезала Изольда. – А ты – самый настоящий предатель, если это действительно ты, как он меня уверял, послал его к дверям моей спальни.
Джорджо еще ниже опустил голову и тихо сказал:
– Что ты! Никуда я, разумеется, его не посылал. Мне, право, очень жаль, но вчера я напился, как свинья, и, возможно, по пьяному делу предложил ему приложить все усилия, чтобы уговорить тебя выйти за него замуж. Но ведь ты же сама ему дверь открыла. Зачем ты это сделала?
– Я полагала, что твой друг – человек достойный. Кажется, ты и сам так считал?
– И все равно ты вела себя совершенно недопустимо! – упрекнул ее брат. – Открыть дверь своей спальни ночью перед мужчиной, да еще и пьяным… Нет, ты совершенно не способна о себе позаботиться! Отец был прав: тебя следует поместить в какое-нибудь безопасное место.
– Я и находилась в безопасном месте! Я находилась у себя в спальне! Я находилась в своем собственном замке! И разговаривала с другом своего собственного брата! Уж кажется, в таких обстоятельствах мне ничто не угрожало, – сердито сказала она. – Это тебе не следовало приглашать к нам такого человека, да еще и за обеденный стол его сажать! И ты не должен был убеждать отца, что этот мерзавец может стать мне «чудесным мужем»!
Изольда решительно встала, спустилась по ступеням алтаря и пошла прочь; брат последовал за ней.
– А что все-таки ты ему сказала? – спросил он. – Бедняга был так расстроен!
Изольда с трудом сдержала улыбку, вспомнив о бронзовой грелке, которой огрела толстого Роберто по башке.
– Ну, я дала ему ясно понять, каковы мои чувства. Учти: я больше никогда и ни за что с ним встречаться не стану.
– Ну, это-то проще всего, потому что вскоре у тебя вообще никакой возможности встречаться с мужчинами не будет, – с неприятной усмешкой заметил Джорджо. – Раз ты не желаешь выходить за принца, значит, у тебя одна дорога – в монастырь. Завещание отца не оставляет тебе иного выбора.
Изольда так и замерла на месте, осознавая смысл сказанных братом слов. Потом неуверенно коснулась рукой плеча Джорджо, пытаясь придумать, как убедить его отпустить ее на волю.
– И нечего так смотреть на меня! – грубо отрезал он. – Условия завещания абсолютно ясны, я еще вчера тебе об этом говорил. Либо принц, либо монастырь. Ну а теперь остается только монастырь.
– Давай я отправлюсь по святым местам вместе с пилигримами? – предложила Изольда. – Как можно дальше отсюда?
– Никуда ты не отправишься. Во-первых, на какие средства ты намерена это сделать? И потом, разве тебе по плечу подобные странствия? Ты же просто погибнешь! Ведь ты даже дома о собственной безопасности позаботиться не можешь!
– Хорошо, тогда я поеду к кому-нибудь из друзей отца – к кому угодно. Я могу отправиться к сыну моего крестного, графу Валлахии, или к герцогу Бра…
Джорджо мрачно на нее глянул.
– Никуда ты не отправишься! И сама прекрасно это понимаешь. Ты обязана поступить так, как велел отец. И у меня тоже нет выбора, Изольда. Господь свидетель, я все готов для тебя сделать, но отец ясно выразил свою волю, и я вынужден подчиниться его желанию. Как и ты.
– Брат… не заставляй меня делать это!
Они стояли в дверной арке часовни, и Джорджо, отвернувшись от сестры, прислонился лбом к холодному камню, словно от ее слов у него разболелась голова.
– Увы, Изольда, изменить я ничего не могу. Спасти тебя от монастыря мог только принц Роберто. Это был твой единственный шанс. Так распорядился наш отец. И я поклялся на его боевом мече, что непременно исполню его волю. Сестра моя… тут я столь же бессилен, как и ты.
– Он обещал, что оставит свой боевой меч мне.
– Теперь этот меч мой. И все остальное тоже принадлежит мне.
Изольда снова нежно коснулась его плеча.
– А если я принесу обет безбрачия, ты разрешишь мне остаться здесь, с тобой? Я ни за кого не пойду замуж. И понимаю, что отныне этот замок принадлежит тебе. Ну что ж, под конец и наш отец поступил так, как поступают все мужчины: предпочел сына дочери. И сделал то, что делают все представители знати: полностью лишил меня, женщину, и власти, и богатства. Но если я стану просто жить здесь, не имея ни средств, ни власти, никогда не встречаясь с мужчинами и во всем тебе покоряясь, неужели ты не разрешишь мне остаться?
Джорджо покачал головой.
– Нет. Ибо такова воля нашего отца. Поверь, Изольда, это не мое желание. К тому же – как ты сама только что сказала – таков порядок вещей, существующий в нашем мире. Отец воспитывал тебя почти как мальчишку; он все тебе разрешал, и у тебя всегда было слишком много и богатства, и свободы. Но теперь ты должна привыкать к жизни достойной и скромной. Радуйся хотя бы тому, что аббатство, куда ты вскоре отправишься, недалеко от нашего замка, так что места, которые столь дороги твоему сердцу, ты все-таки не покинешь. И тебя не отошлют в далекие края – хотя отец вполне мог выразить желание отправить тебя в любой другой монастырь. А так ничего страшного не произойдет; ты будешь жить на нашей земле, в нашем аббатстве, и я непременно буду навещать тебя время от времени и привозить тебе всякие новости. А позднее, возможно, и ты сможешь выезжать со мной на прогулку верхом.
– Может ли Ишрак отправиться в монастырь со мною вместе?
– Конечно. Если хочешь, можешь взять с собой и Ишрак, и всех своих дам, но только если они сами согласятся с тобой поехать. Тебя уже ждут в аббатстве. Так что завтра утром ты туда отправишься, Изольда, и вскоре принесешь монашеские обеты и станешь аббатисой. Иного выбора у тебя нет.
Посмотрев на сестру, он увидел, что бедняжка вся дрожит, точно молодая кобыла, на которую впервые силой надевают упряжь.
– Это все равно что идти в тюрьму, – прошептала она. – А ведь я не совершила ничего дурного.
И Джорджо не смог сдержать слез.
– У меня такое ощущение, словно я навсегда тебя теряю, – сказал он. – Какой ужас: я хороню отца и теряю сестру. Я просто представить себе не могу, как тут все будет без тебя!
Аббатство Лукретили, октябрь 1453 года
Прошло несколько месяцев, и вот Лука уже ехал из Рима на восток, полностью экипированный и на собственном коне. Впрочем, сейчас он был одет очень просто, а с плеч его спускался дорожный красновато-коричневый плащ.
Его сопровождал слуга по имени Фрейзе, широкоплечий парень лет двадцати с широким, почти квадратным лицом. Фрейзе, узнав, что Лука покидает монастырь, собрал все свое мужество и сам вызвался служить ему и сопровождать его повсюду, куда бы странствия их ни забросили. Настоятель монастыря воспринял эту просьбу с некоторым сомнением, но Фрейзе удалось убедить его, что в качестве помощника на кухне он все равно никуда не годится, а вот всякие приключения ему по душе, так что он гораздо лучше послужит Господу, последовав за своим замечательным господином, которому сам папа римский предписал осуществить некую тайную миссию. Во всяком случае, так от него будет больше пользы, чем если он по-прежнему будет подавать монахам на завтрак подгоревшую грудинку. И настоятель, который втайне радовался тому, что избавляется от юного послушника, который, по слухам, был эльфийским подменышем, решил, что утрата не слишком ловкого кухонного работника, к тому же весьма склонного ко всяким неприятным происшествиям, – весьма небольшая цена за это избавление.
Фрейзе ехал на невысокой коренастой лошадке, ведя в поводу нагруженного пожитками ослика, а замыкал маленькую кавалькаду неожиданно примкнувший к ней клирик, брат Пьетро, в последний момент получивший приказ отправиться в путешествие вместе с Лукой и вести обо всем самый подробный отчет.
– Шпион! – тихо проворчал Фрейзе, почти не открывая рта и склоняясь к уху своего нового господина. – Точно шпион! Видал я таких! Физиономия бледная, как у аристократа, и ручки нежные; а уж смотрит-то своими карими глазами так, будто в душу тебе заглядывает. Голова бритая, как у монаха, а одежда небось как у настоящего господина! Шпион – и никаких сомнений! Вот только за кем ему тут шпионить? Уж точно не за мной. Я ведь ничего особенного не делаю, да и не знаю ничего. Значит, шпионить ему остается только за тобой, за моим молодым господином, за моим маленьким воробушком. Нас тут только трое, не считая лошадей, а лошади, как известно, – не еретики и не язычники, а всего-навсего честные животные.
– Он к нам приставлен, чтобы быть мне помощником, – с некоторым раздражением пояснил Лука. – И нам придется путешествовать с ним вместе вне зависимости от того, нужен мне такой помощник или нет. Так что ты бы лучше попридержал свой язык.
– Ну а мне он нужен, такой помощник? – Теперь Фрейзе уже обращался к своей лошадке. – Нет. Мне он и вовсе ни к чему, потому что я никакими такими делами не занимаюсь и ничего такого не знаю, а если б чем таким и занимался, так уж точно ничего записывать бы не стал – не доверяю я тому, что на бумаге написано. И потом, я ведь ни читать, ни писать все равно не умею.
– Вот дурак! – бросил клирик Пьетро, проехав мимо и услышав разговор Фрейзе с конем.
– Он говорит, что я дурак, – снова обратился Фрейзе к своей покорной слушательнице, а может, к дороге, медленно тянувшейся в гору, – хотя это легко сказать, да трудно доказать. Впрочем, меня еще и не так обзывали.
Весь день они ехали по узкой тропе, протоптанной скорее козами, чем людьми; извилистая тропа эта все поднималась вверх, словно стремясь увести их как можно дальше от плодородной долины, окруженной пологими холмами, на склонах которых росли оливы и виноград. И действительно, вскоре они уже достигли зоны лесов и ехали теперь под сенью огромных буков, листва которых уже начинала отливать золотом и бронзой. А ближе к вечеру, когда закатные лучи окрасили купол небес в нежно-розовые тона, клирик вытащил из внутреннего кармана письмо и сказал Луке:
– Вот. Мне было приказано передать тебе это письмо на закате. Прости, если прочтешь дурную весть, но я, право, не знаю, что там написано.
– А кто дал тебе это письмо? – спросил Лука. На блестящей и гладкой печати, скреплявшей свернутый лист бумаги, не было никакого герба.
– Тот господин, которому служу я; тот же, что и тобой командует, – сказал Пьетро. – Именно так ты и впредь будешь получать от него дальнейшие указания. А мне он просто называет определенный день и час, когда я должен тебе эти указания передать. Иногда, правда, еще и место нужное указывает.
– Значит, ты все это время, с самого начала, прятал это письмо в кармане? – поинтересовался Фрейзе.
Клирик снисходительно кивнул.
– Что ж, в таком случае его всегда можно перевернуть вверх тормашками и хорошенько встряхнуть, – шепнул Фрейзе на ухо Луке.
– Нет, никого мы встряхивать не будем, – шепотом ответил ему Лука. – Мы все будем делать в соответствии с полученными указаниями. – И, небрежно набросив поводья на плечо и освободив руки, он сломал печать и развернул письмо. – Здесь написано, что сейчас мы должны направиться в аббатство Лукретили. Там два монастыря – мужской и женский, – которые расположены в двух отдельных строениях. Наше расследование будет касаться женской половины аббатства. Там нас уже ждут. – И он, свернув письмо, протянул его брату Пьетро.
– А там не говорится, как поскорее это аббатство найти? – с унылым видом спросил Фрейзе. – Иначе придется нам где-нибудь под деревом ночевать; да и на ужин ничего, кроме хлеба, не осталось. Ну разве что еще, пожалуй, буковых орешков набрать. Тут ими просто обожраться можно, хотя что от них толку. Хотя если мне повезет и если я хотя бы один гриб к ужину найти сумею…
– Эта дорога ведет прямо туда, – прервал его Пьетро. – Аббатство находится чуть выше в горах, недалеко от самого замка Лукретили. Я полагаю, нас вполне смогут приютить или в мужском монастыре, или в женском.
* * *
Однако что-то не похоже было, чтобы в аббатстве вообще хоть кого-то ждали. Уже почти стемнело, но гостей не приветствовал ни теплый свет очага, ни распахнутые навстречу двери. Окна во внешней стене наглухо закрывали ставни, сквозь щели пробивались лишь узкие полоски мерцания свечей. В темноте было трудно определить, велико ли аббатство; путники скорее ощущали, чем видели его основательные высокие стены, расходившиеся в обе стороны от широкой арки центральных ворот. Над небольшой дверцей, вделанной в мощную деревянную створку ворот, слабо горел рожок фонаря, отбрасывая на землю кружок мутного желтоватого света. Фрейзе, спрыгнув с коня, изо всех сил забарабанил в ворота рукоятью кинжала, и через некоторое время изнутри послышалось чье-то сердитое ворчание, а в двери приоткрылся маленький глазок – видно, привратник хотел выяснить, кто это поднял шум на ночь глядя.
– Меня зовут Лука Веро, а эти двое – мои слуги! – крикнул Лука. – Меня здесь ждут. Впустите нас.
Дверной глазок тут же закрылся, и они услышали, как кто-то медленно отодвигает засов в воротах и поднимает деревянные балки. Наконец одна створка, неохотно скрипнув, отворилась, и Фрейзе вошел первым, ведя под уздцы свою лошадку и осла, а за ним въехали на вымощенный булыжником двор Лука и Пьетро. Привратница, немолодая, но весьма крепкого сложения, тут же снова затворила и заперла ворота. Путники неторопливо огляделись. Рядом с привратницей стояла высохшая сморщенная старушка в сером шерстяном одеянии и сером же плаще, похожем на плащ воина и подпоясанном простой веревкой. Она подняла повыше факел, который держала в руках, и внимательно рассмотрела всех троих.
– Это тебя прислали к нам для проведения расследования? Если нет, лучше сразу скажите. Если вам просто негде переночевать, так ступайте в мужской монастырь, и наши братья непременно вас примут, – сказала старуха, внимательно рассматривая Пьетро и его отличного коня. – А в нашей обители и без вас беспокойства хватает, так что гости, да еще и мужчины, нам совсем ни к чему.
– Нет, расследование буду вести не я, – сказал ей Пьетро. – Я должен всего лишь написать отчет и помочь следователю. Вот этому господину по имени Лука Веро.
– Мальчишка! – пренебрежительно воскликнула старая монахиня. – Кого они к нам прислали?! Какого-то безбородого мальчишку!
Лука вспыхнул от возмущения, потом ловко спрыгнул на землю и швырнул поводья Фрейзе.
– В данном случае совершенно не имеет значения, сколько лет я прожил на земле и есть ли у меня борода. Сам папа римский назначил меня провести здесь расследование, и я его проведу. Приступим к делу уже с завтрашнего утра. А сейчас мы устали, проголодались, и гостеприимным хозяевам следовало бы сперва проводить нас в трапезную, а потом предоставить ночлег. Прошу также известить госпожу аббатису, что я уже прибыл и завтра, сразу после хвалитн, хотел бы с нею встретиться.
– Дорогой конь и богатые одежды – это все чепуха! – заявила старуха, подняв факел еще выше и пристально вглядываясь в красивое юное лицо Луки, щеки которого вспыхнули румянцем под темной челкой, а светлые ореховые глаза так и сверкали от гнева.
– Значит, богатство – это, по-твоему, чепуха? – спросил Фрейзе, вроде бы обращаясь к своей лошадке, которая уже тянула его в сторону конюшни. – Какая-то престарелая девственница, похожая на маринованный грецкий орех, называет моего маленького господина «безбородым мальчишкой»? А он, может, настоящий гений? Или даже эльфийский подменыш?
– Помолчи-ка! – неожиданно энергично рявкнула старуха, сердито глядя на Фрейзе. – Отведи лучше коней на конюшню, и сестра-мирянка, она у нас конюхом служит, проводит тебя на кухню. Есть и спать можешь в амбаре. А ты… – она оценивающим взглядом окинула брата Пьетро и сочла, что он занимает более высокое положение, чем Фрейзе, но есть тоже хочет, – ты можешь поесть на галерее, а кухню найдешь вон за той дверью. Потом тебя проводят в кельи для гостей и покажут, где переночевать. – Затем старуха повернулась к Луке. – А тебя, следователь, я сама и в трапезную провожу, и комнату твою тебе покажу. Мне сказали, ты вроде как священник?
– Я еще не принес священных обетов, – сказал Лука. – Это правда, я служу церкви, но в духовный сан пока не посвящен.
«Чересчур, чересчур красив, чтобы священником стать, да и тонзура у него уже зарасти успела», – подумала старуха, но вслух сказала:
– Ну, все равно, ты можешь остановиться в покоях священника, который порой приезжает к нам с визитом. А утром я сообщу госпоже аббатисе, что ты уже здесь.
Старуха повела Луку в трапезную. Вдруг навстречу им откуда-то из внутренних помещений вышла молодая монахиня. Пройдя под аркой, она приблизилась, и Лука увидел, что ее монашеское одеяние сшито из мягчайшей выбеленной шерсти, а чуть сдвинутый назад апостольник открывает прелестное бледное личико с улыбчивыми серыми глазами. Тонкую талию хорошенькой монахини перехватывал красивый пояс из мягкой кожи, а на ногах были изящные кожаные туфельки, а не грубые деревянные сабо, какие носят работницы, желая предохранить ноги от грязи.
– Я вышла поздороваться с синьором следователем, – сказала она и подняла повыше светильник с восковыми свечами.
Лука шагнул вперед, поклонился и сказал:
– Следователь – это я.
Монахиня улыбнулась, сразу отметив про себя его стройную фигуру, привлекательную внешность и безусловную молодость.
– Позволь, брат мой, проводить тебя в трапезную и угостить обедом, ведь ты, наверное, очень устал. А сестра Анна тем временем позаботится, чтобы лошади твои были помещены в стойло, а слуги удобно устроены.
Лука еще раз поклонился, а монахиня повернулась и, не оглядываясь, пошла прочь, так что ему осталось попросту последовать за новой провожатой – под каменную арку, далее по вымощенной плиткой галерее и, наконец, в трапезную, просторное помещение с куполообразным потолком. У дальнего конца комнаты, возле камина, в котором огонь был уже притушен на ночь, стоял накрытый на одну персону стол; на столе стакан с вином, тарелка с нарезанным хлебом и вторая тарелка, чистая, рядом с которой лежали нож и ложка. Лука даже вздохнул от удовольствия, садясь за стол, и к нему тут же подошла сестра-мирянка с кувшином и лоханью, дабы он мог вымыть руки, а потом подала ему чистое полотенце; следом за нею другая мирянка, кухарка, принесла миску с тушеным цыпленком и овощами.
– Не нужно ли тебе еще чего-нибудь? – спросила у Луки молодая монахиня.
– Нет, мне всего довольно, спасибо большое, – неловко поблагодарил он, чувствуя себя в ее присутствии несколько скованно – ведь он не разговаривал ни с одной женщиной, кроме собственной матери, с тех пор, как в возрасте одиннадцати лет поступил в монастырь. – А как мне тебя называть, сестра моя? И чем ты здесь занимаешься?
Она приветливо улыбнулась, и эта сияющая улыбка показалась ему просто прекрасной.
– Меня зовут сестра Урсула, а здесь я ведаю раздачей милостыни и отвечаю за управление всем хозяйством. Я очень рада, что к нам наконец прислали следователя. Меня давно уже не покидает тревога из-за того, что творится в монастыре. И я очень надеюсь, что вы поможете нам разобраться, что здесь происходит, и спасете нас…
– Спасем?
– Видишь ли, это очень старый и очень красивый монастырь, – продолжала сестра Урсула все тем же задушевным тоном. – Я поступила сюда еще совсем маленькой девочкой. Я всю жизнь служила Господу и моим сестрам и прожила здесь уже более двадцати лет. А потому мне невыносима даже мысль о том, что в нашу святую обитель мог проникнуть сам Сатана.
Лука старательно подбирал хлебом густой соус, стараясь сосредоточиться на еде, чтобы скрыть ужас, охвативший его при этих словах.
– Неужели сам Сатана?
Сестра Урсула перекрестилась – быстрым, почти машинальным движением истинно верующей.
– Порой мне кажется, что все действительно очень плохо, а порой – что я веду себя как ребенок, который сам себя тенями пугает. – Она застенчиво улыбнулась, словно извиняясь перед Лукой. – Ты вскоре и сам все поймешь и рассудишь. Думаю, ты сумеешь раскрыть истинную причину наших бед. Но если нам так и не удастся избавиться от сплетен, буквально опутавших наш монастырь, то все пропало: ни одно знатное семейство не пошлет больше к нам своих дочерей; уже и теперь многие фермеры и крестьяне отказываются торговать с нами. Моя обязанность – обеспечить аббатству возможность зарабатывать на свое содержание, продавая на сторону кое-какие наши изделия и продукты, чтобы потом на вырученные деньги покупать то, что нам необходимо. Но что я могу поделать, если крестьянки даже говорить с нами отказываются, когда я посылаю сестер-мирянок продать наши товары на рынке. Разве можно вести торговлю, если люди не хотят ни продавать монастырю ничего, ни что-либо у нас покупать? – Сестра Урсула тряхнула головой, словно останавливая себя. – Извини, сейчас я уйду, чтобы ты мог наконец спокойно поесть. А когда пообедаешь, кухарка покажет тебе твою комнату в домике для гостей. Благослови тебя Господь, брат мой.
И Лука вдруг вспомнил, что совершенно забыл помолиться перед трапезой. «Господи, она же подумает, что я невежественный, невоспитанный дикобраз, а не будущий священник!» – в ужасе думал он, вспоминая, как пялился на нее, точно последний дурак, как все время заикался, говоря с нею. Увы, он вел себя как зеленый юнец, никогда в жизни не видевший красивой женщины, а совсем не как взрослый мужчина, занимающий достойное положение в обществе и прибывший сюда для проведения расследования по поручению самого папы римского. Что же она должна о нем думать?
– Благослови тебя Господь, сестра-алмонер[5], – неловко ответил он.
Сестра Урсула поклонилась и, пряча улыбку при виде его смущенного лица, неторопливо пошла прочь, а Лука смотрел ей вслед и не в силах был оторвать взгляд от плавно колышущегося в такт шагам подола ее светло-серого шерстяного одеяния.
* * *
А в апартаментах госпожи аббатисы, расположенных на первом этаже у восточной стены прямоугольного монастырского двора, слегка приоткрылись ставни, и две пары глаз стали внимательно следить за сестрой Урсулой, которая, освещая себе дорогу, легкой изящной походкой пересекла двор и скрылась в своем крыле.
– Она поздоровалась с ним, проводила в трапезную, но, похоже, ничего ему не рассказала, – шепнула Изольда.
– И он, конечно, ничего не обнаружит, пока ему кто-нибудь не поможет, – кивнула Ишрак.
Девушки отступили от окна и бесшумно затворили ставни.
– Ах, если б я знала, как мне поступить! – сказала Изольда. – Но я просто в растерянности, и некому дать мне совет.
– А как поступил бы твой отец?
Изольда усмехнулась.
– Ну, во первых, мой отец никогда бы не допустил, чтобы его силой сюда загнали. Он бы жизни не пожалел, но никому не позволил бы запереть его в темнице. А если б случайно он попал в плен, то, наверное, скорее решился бы погибнуть, чем оставаться пленником. Он бы непременно попытался бежать, а не стал бы сидеть сложа руки, как кукла, как жалкая трусливая девчонка, и оплакивать свою горькую судьбу, не зная, как поступить.
Она отвернулась и решительно смахнула с ресниц навернувшиеся некстати слезы. Ишрак ласково погладила ее по плечу и сказала:
– Не вини себя, ведь мы действительно ничего не могли поделать, когда нас сюда отправили. Да и теперь, когда мы понимаем уже, что все здесь идет наперекосяк, мы по-прежнему ничего сделать не сможем, пока не поймем, что же тут на самом деле творится. Но жизнь идет, и все меняется прямо у нас на глазах, пока мы, совершенно беспомощные, ждем какой-то развязки. И эта развязка непременно наступит, даже если мы сами по-прежнему будем бездействовать. И она станет нашим единственным шансом на спасение. Возможно, именно тогда дверь нашей тюрьмы внезапно распахнется перед нами, и мы должны быть к этому готовы.
Изольда взяла руку подруги, лежавшую у нее на плече, и прижала к своей щеке.
– По крайней мере, у меня есть ты.
– Я всегда с тобой.
* * *
Спал Лука крепко; его не смог разбудить даже звон монастырского колокола на башне у него над головой, возвещающий час молитвы. Но в самое темное время суток, где-то около трех утра, сон Луки все же был нарушен чьим-то пронзительным воплем; затем послышался топот множества бегущих людей, и Лука мгновенно вскочил с постели, нашарил под подушкой кинжал и выглянул в окно.
Монастырский двор окутывала ночная мгла, но в бледном лунном свете все же было видно, что через вымощенный булыжником двор к воротам стремглав мчится женщина в чем-то белом, а потом обеими руками вцепляется в тяжелую перекладину мощного засова, пытаясь его отодвинуть. За женщиной в белом гнались три монахини, а из привратницкой ей наперерез выскочила могучая сторожиха и схватила ее за руки; однако беглянка не сдавалась и все цеплялась, как кошка, за деревянную перекладину.
Но вот монахини настигли ее, и Лука снова услышал тот же пронзительный вопль; беглянка все продолжала отчаянно кричать, но под тяжестью навалившихся на нее тел колени ее подкосились, и она упала на землю. Лука мгновенно натянул штаны и сапоги, набросил прямо на голые плечи плащ и стрелой вылетел из своей спальни во двор, на ходу пряча кинжал в ножны, заткнутые за голенище сапога, и стараясь держаться густой тени, отбрасываемой зданием аббатства, чтобы монахини его не заметили. Он хотел подобраться к ним как можно ближе и непременно рассмотреть их лица в призрачном свете луны, чтобы при следующей встрече иметь возможность узнать их.
Привратница подняла факел повыше, светя монахиням; они подняли женщину в белом с земли и куда-то ее понесли; две из них поддерживали ее за плечи, а третья – за ноги. Когда ее проносили мимо Луки, он прямо-таки вжался в спасительную тень какого-то темного дверного проема, и его не заметили, хотя прошли совсем близко, и ему было хорошо слышно, как тяжело они дышат; по лицу женщины в белом текли слезы.
Зрелище было в высшей степени странное. Лука обратил внимание на то, что, когда монахини подняли беглянку с земли, одна ее рука упала и повисла совершенно безжизненно: женщина явно была без сознания. Видимо, чувств она лишилась уже в тот момент, когда ее оторвали от запертых ворот. Голова ее бессильно запрокинулась назад, тонкие кружева ночной сорочки и полы длинного капота волочились в пыли. Впрочем, на обычный обморок это было как-то не очень похоже. Казалось, девушка уже простилась с жизнью – глаза закрыты, юное лицо безмятежно, – и тут Лука вдруг заметил такое, что, не сдержавшись, охнул. На безжизненно свисавшей почти до земли руке девушки была отчетливо видна сквозная рана в ладони, откуда обильно сочилась кровь! Вторую руку заботливо приподняли и уложили вдоль тела, но Лука все же сумел увидеть, что и под ней на капоте расплывается кровавое пятно. Господи, да у нее же руки распятой! Лука похолодел от ужаса, но заставил себя остаться на месте, по-прежнему скрываясь в глубокой тени. Он был не в силах отвести взор от этих странных и страшных ран, а потом обратил внимание и на кое-что еще, произведшее на него не менее жуткое впечатление.
У всех трех монахинь, которые несли бесчувственную беглянку, на лицах было выражение восторженной безмятежности. Когда они, шаркая ногами, проходили мимо него со своей обмякшей, истекающей кровью ношей, он отчетливо видел, что на устах у них сияют легкие улыбки, словно они испытывают некую тайную радость.
Но самое главное – глаза у всех трех тоже были закрыты, как и у потерявшей сознание девушки!
Лука выждал, пока они, словно лунатики с закрытыми глазами, пройдут мимо него – казалось, они несут не человека, а плащаницу, – и вернулся в свою комнату; там он опустился на колени возле постели и стал истово молиться, прося Бога даровать ему достаточно мудрости и терпения и помочь побороть сомнения в собственных силах, дабы он мог раскрыть те злодеяния, что, безусловно, творились в этой святой обители.
* * *
Лука все еще горячо молился, преклонив колена, когда в дверь к нему постучался Фрейзе. Он принес кувшин горячей воды для умывания, ибо рассвет уже наступил и колокол звонил к заутрене.
– Я подумал, что ты тоже захочешь пойти к мессе.
– Да, конечно. – Лука неловко поднялся с колен, перекрестился и поцеловал крест, который всегда носил на груди – этот крест ему подарила мать на четырнадцатилетие; в тот день он видел ее в последний раз.
– Гнусные вещи тут творятся! – зловещим тоном сказал Фрейзе, плеснув воды в тазик и кладя рядом кусок чистой ткани.
Лука обмыл лицо и руки водой, потом сказал:
– Знаю. Господь свидетель, я уже и сам кое-что видел. А что слышал ты?
– Говорят, тут лунатики во сне ходят, а у монахинь всякие видения случаются, и они, бедняжки, по всем праздничным дням постятся так, что прямо голодом себя морят, а потом в обморок прямо в церкви падают. Кто-то вроде бы огни в небесах видит, наподобие той звезды, что волхвам показалась, а некоторым вдруг захотелось отправиться в Вифлеем, и их пришлось удерживать силой и изолировать от других. И деревенские, и слуги из замка считают, что тут все умом тронулись. Что все аббатство поражено безумием и несчастные монахини последний рассудок теряют.
Лука покачал головой.
– Одним святым ведомо, что тут происходит. А ты ночью никаких криков не слышал?
– Спаси нас, Господи, и помилуй! Нет. Я же на кухне спал, так что только громкий храп и слышал. Но поварихи в один голос утверждают, что папе пора бы отправить сюда одного из своих епископов, чтобы он провел тут расследование и весь монастырь заново освятил. Они уверены, что тут сам Сатана бродит. И только папа римский может нужного человека прислать и все выяснить.
– Он уже его прислал! И ты прекрасно знаешь, что это мне приказано провести здесь расследование! – рассердился Лука. – И я его проведу! Я выясню, что тут происходит, и предам виновных в руки правосудия.
– Ну конечно, я и не сомневаюсь, что ты это сделаешь! – подбодрил его Фрейзе. – А молодость твоя тут совершенно никакого значения не имеет!
– Вот именно! Это никакого значения не имеет! Имеет значение только то, что вести расследование поручено мне.
– Тогда, пожалуй, лучше начни прямо со здешней аббатисы. Она, кстати, совсем недавно тут появилась.
– Почему именно с нее?
– Потому что все и началось сразу после ее прибытия.
– Вот еще, не стану я всякие кухонные сплетни слушать! – высокомерно заявил Лука. Он вытер лицо и руки и швырнул полотенце Фрейзе. – Я сам проведу настоящее расследование – с вызовом свидетелей, с клятвой на Библии. Да, прежде чем давать свидетельские показания, все они будут клясться на Библии. Ибо я прислан сюда самим папой римским, и пусть каждый здесь помнит об этом. И особенно те, кому полагается мне помогать и прислуживать, а также всемерно поддерживать мою репутацию.
– Господи, да разве ж я ее не поддерживаю! Разве ж я не знаю, что ты назначен самим папой! И ты, разумеется, проведешь настоящее расследование! Ты – мой господин, и я никогда об этом не забываю. Но для меня ты все еще мой маленький господин. – Фрейзе встряхнул льняную рубаху Луки и подал ему рясу послушника, которую Лука всегда подпоясывал довольно туго и старался подтянуть повыше, чтобы не мешала при ходьбе, поскольку походка у него была мальчишески размашистая. Затем Лука опоясался коротким мечом, прикрыв его сверху рясой – ему не хотелось, чтобы меч был всем заметен.
– Вечно ты разговариваешь со мной, как с ребенком! – раздраженно заметил он. – А ведь ты не так уж намного меня старше!
– Это все от любви, – честно признался Фрейзе. – Это я так любовь свою показываю. И уважение. Для меня ты всегда будешь тем тощеньким маленьким послушником, страшно похожим на воробушка.
– А ты всегда был похож на здоровенного гуся, жалкий поваренок, – с улыбкой поддразнил его Лука.
– Кинжал не забыл? – заботливо осведомился Фрейзе.
Лука похлопал по голенищу сапога, где, как всегда, был спрятан кинжал в ножнах.
– Между прочим, тут все утверждают, что новая аббатиса никакой склонности к монашеству не имела и воспитывали ее совсем для другой жизни, – сообщил Фрейзе, вновь несколько осмелев, хотя Лука только что запретил ему передавать кухонные сплетни. – Вроде как по завещанию отца ее сюда отправили. Можно сказать, насильно. И теперь, когда она принесла святые обеты, ей уже никогда отсюда не выйти. Вот какое наследство отец ей оставил! А все остальное ее брату досталось. Да ведь это все равно что заживо в стену замуровать! И, говорят, с тех самых пор, как она здесь появилась, у монахинь и начались всякие видения, они даже кричат во сне. Полдеревни считает, что с новой аббатисой сюда сам Сатана проник. А все потому, что сама-то она совсем в монастырь и не хотела.
– А что в деревне говорят о ее брате? Он-то каков? – спросил Лука, не выдержав искушения и все же внимательно слушая эти сплетни, несмотря на прежнее свое решение.
– Ничего особенного, только хорошее. Добрый и рачительный хозяин, хорошо своими землями управляет, очень щедр по отношению к аббатству. Аббатство-то еще его дед построил и на две части разделил – с одной стороны женский монастырь, а с другой мужской. Монахини и монахи вместе служат мессы в соборе. А его отец, можно сказать, полностью оба монастыря содержал и передал женскому в вечное владение лес и верхние пастбища, а мужскому выделил несколько ферм и возделанных полей. Так что монастыри существуют совершенно независимо друг от друга, но вместе трудятся во славу Господа нашего и помогают бедным. И новый хозяин этих земель в свою очередь поддерживает аббатство. Отец-то его был крестоносцем, славился своей храбростью и всей душой верил в Господа. А новый дон Лукретили вроде бы потише, живет у себя в замке, любит мир и покой. Говорят, он очень заинтересовался этим расследованием, но хочет, чтобы все прошло тихо, чтобы ты все выяснил, вынес справедливое решение, сообщил, кто во всем виноват, и вывел на чистую воду всех нечистых, и тогда все здесь вернется на круги своя.
Над головой у них колокол прозвонил хвалитны, созывая монахинь на первую утреннюю мессу.
– Идем, – сказал Лука и первым двинулся в сторону монашеских келий и прекрасного собора.
Музыку они услышали, еще идя через двор, освещенный горящими факелами, которые несли в руках следующие вереницей монахини, одетые в белое и поющие на ходу, точно хор ангелов. Белые женские фигуры, скользящие по двору в жемчужном утреннем свете, были так прекрасны, что Лука даже немного попятился, да и Фрейзе примолк, слушая эти дивные, безупречно чистые голоса, взмывающие в рассветные небеса. Затем их нагнал брат Пьетро, и они втроем последовали за хором монахинь и заняли места сзади, в алькове. Две сотни монахинь в белых апостольниках заполнили места для хора по обе стороны отгороженного ширмой алтаря и выстроились рядами лицом к нему.
Мессу служили, точнее, пели несколько голосов: ровный баритон священника у алтаря звучно выпевал латинские слова молитвы, и ему вторили нежные сопрано женщин. Лука смотрел на высокий купол собора, на прекрасные каменные колонны с резными изображениями цветов и фруктов, на сводчатый потолок, где серебряной краской изображены были луна и звезды, и все это время, слушая вторящие священнику чистые голоса монахинь, пытался понять: что же могло так мучить этих святых женщин по ночам и где они берут силы, чтобы после этого, каждое утро вставая на рассвете, так дивно петь, обращая к Богу слова своих молитв?
Под конец службы трое гостей остались сидеть на каменной скамье у задней стены церкви, а монахини гуськом проходили мимо, скромно потупившись. Лука внимательно вглядывался в их лица, пытаясь отыскать ту молодую женщину, которую прошлой ночью видел в таком отчаянии, но все эти бледные лица, скрытые белыми покрывалами, казались ему чрезвычайно похожими друг на друга. Он попытался рассмотреть ладони монахинь, надеясь увидеть кровавые следы от распятия, но руки у всех женщин были крепко стиснуты и спрятаны в длинные рукава. Когда монахини, тихо шурша своими сандалиями по каменному полу, вереницей вытекли из дверей храма, за ними последовал священник, который тут же остановился возле молодых людей и доброжелательно сообщил им:
– Я вместе с вами позавтракаю, прервав свой пост, но затем вынужден буду вернуться на свою половину аббатства.
– Так вы не постоянно отправляете здесь службу? – спросил Лука, сперва пожав священнику руку, а затем опускаясь на колени, чтобы получить его благословение.
– Наш монастырь находится во второй половине этого огромного здания, – пояснил священник. – Первый владелец замка Лукретили решил основать сразу два религиозных дома: один для мужчин и один для женщин. Мы, священники, каждый день приходим сюда служить мессу. Но, увы, женский монастырь принадлежит ордену монахов-августинцев. А наш – ордену доминиканцев. – Он наклонился к Луке. – Как вы понимаете, да и на мой взгляд, для всех было бы куда лучше, если бы и женский монастырь оказался в лоне доминиканского ордена. Тогда за монахинями присматривали бы члены нашего братства, и здесь царили бы та же дисциплина и порядок, что и в нашем монастыре[6]. А в ордене августинцев порядки таковы, что этим женщинам, по сути дела, позволено делать все, что они хотят. И вот пожалуйста, сами видите, что здесь происходит.
– Но они же соблюдают все требования и присутствуют на всех службах, – запротестовал Лука. – Они же не слоняются по двору без присмотра.
– Только потому, что сами этого хотят. А если вдруг расхотят или еще что-нибудь выдумают, так, боюсь, совсем одичают. У них нет никаких правил в отличие от нас, доминиканцев, считающих, что все на свете имеет свои разумные рамки и пределы. Внутри ордена августинцев каждая святая обитель может жить так, как захочет. Они и Господу служат так, как сами считают нужным, и в результате…
Он внезапно умолк, поскольку к ним подошла сестра Урсула, бесшумно ступая по прекрасным мраморным полам собора.
– Ну, вот и сестра-алмонер пришла, чтобы пригласить нас позавтракать! – воскликнул он.
– Вы можете позавтракать в моих покоях, – сказала сестра Урсула. – Там и камин уже затопили. Прошу вас, святой отец, покажите дорогу нашим гостям.
– Непременно, непременно, – любезно ответил священник и, когда она ушла, повернулся к Луке. – Только она и поддерживает здесь порядок, – сказал он. – Замечательная женщина! Управляет сельскохозяйственными угодьями, занимается строительством, покупает товары и продает то, что производит сам монастырь. Она могла бы стать хозяйкой любого большого дома, любого замка Италии, у нее врожденный талант наставника и руководителя. – Он прямо-таки весь лучился от восторга. – И, должен отметить, ее покои – самое удобное и уютное помещение во всем аббатстве, а ее поварихе и вовсе нет равных.
Он повел их в сторону от основного здания монастыря через закрытый передний двор к пристройке, представлявшей собой восточную стену этого двора. Деревянная входная дверь была распахнута, и они вошли в комнату, где уже их ждал накрытый на троих стол. Лука и Пьетро сели, а Фрейзе остался стоять у дверей: он должен был прислуживать за едой. К столу подали три сорта жаркого – свиную ногу, баранину и говядину, – белый хлеб из муки высшего сорта и ржаной, а также местные сыры, варенья, корзину яиц, сваренных вкрутую, и плошку со сливами, такими крупными, сладкими и сочными, что Лука резал их ломтиками и клал на белый хлеб, точно варенье.
– А что, сестра-алмонер всегда ест отдельно, а не вместе с другими сестрами в трапезной? – полюбопытствовал Лука.
– А ты бы разве отказался от этой привилегии, если б у тебя такая повариха была? – вопросом на вопрос ответил ему священник. – По праздникам и святым дням она, разумеется, садится за стол вместе с сестрами. Но все же любит, чтобы все было устроено согласно ее вкусу, – и это одна из привилегий ее должности. Она действительно редко обедает в трапезной, да и в дортуаре вместе со всеми не спит. Как, впрочем, и госпожа аббатиса; ее жилище, кстати, тут рядом. – Он немного помолчал и, широко улыбаясь, сообщил: – Между прочим, у меня в седельной сумке капелька бренди имеется. С удовольствием налью всем по рюмочке. Это благотворно действует на желудок после доброго завтрака. – И с этими словами он вышел из комнаты, а брат Пьетро тут же вскочил и выглянул в окно, из которого хорошо был виден мул священника, привязанный во дворе.
Лука тем временем лениво осматривал комнату, а Фрейзе убирал со стола. Камин в гостиной сестры Урсулы был оформлен чудесными резными деревянными панелями, которые напомнили Луке о родном доме: когда он был еще совсем маленьким, его дед, знаменитый плотник, сделал примерно такую же облицовку камина. Тогда это было в новинку и вызвало зависть всей деревни. За одной из резных панелей имелся тайничок, где отец Луки всегда прятал засахаренные сливы, которыми угощал сына по воскресеньям, если тот всю неделю хорошо себя вел. Повинуясь внезапному порыву, Лука повернул пять фигурок на резной панели, выстроив их в ряд, и одна тут же сдвинулась у него под рукой; к его удивлению, перед ним открылся точно такой же тайничок, как у них дома, на ферме. За потайной дверкой тоже был спрятан стеклянный кувшин, только в нем хранились не засахаренные сливы, а какая-то специя – сухие черные семена. И рядом почему-то лежало сапожное шило.
Лука захлопнул дверцу и мечтательно заметил:
– У нас дома был точно такой же тайничок за резной каминной доской, и мой отец всегда прятал там засахаренные сливы.
– А у нас ничего подобного в доме не было, – откликнулся брат Пьетро. – Мы все жили на кухне, и моя мать, кухарка, жарила мясо, надев его на вертел, прямо там, над очагом, а свиные ноги коптила в дымоходе. Утром, когда огонь в очаге не горел, мы, дети, вечно голодные, просовывали головы в дымоход и лизали, а порой и обгрызали жирный край копченого окорока. А мать потом уверяла отца, что это все мыши, благослови ее Господь.
– Значит, ты из очень бедной семьи? Как же ты сумел выучиться? – спросил Лука.
Пьетро пожал плечами.
– Наш священник обратил на меня внимание и сказал родителям, что я способный, вот они и послали меня в монастырь.
– А потом?
– А потом мой господин спросил, буду ли я служить ордену и ему, и я, разумеется, ответил «да».
Тут открылась дверь, и возвратился священник, пряча в рукаве маленькую бутылочку.
– Бывало, выпьешь капельку, и очень это в пути помогает, – сказал он, наливая немного Луке прямо в его глиняную чашку. Тот с удовольствием выпил.
Брат Пьетро пить отказался, а сам священник сделал несколько добрых глотков прямо из бутылки. Фрейзе с завистью смотрел на них с порога, но все же сдержался и ничего не сказал.
– А теперь я отведу вас к госпоже аббатисе, – сказал священник, аккуратно затыкая пробкой бутылочку с бренди. – И, если она спросит вашего совета, постарайтесь не забыть мое пожелание: хорошо бы поместить женский монастырь под крыло братскому мужскому, чтобы мы могли править всем аббатством и полностью освободить ее от бесконечных нынешних забот.
– Я непременно буду об этом помнить, – пообещал Лука, внутренне не склоняясь ни на одну сторону, ни на другую.
Жилище аббатисы действительно находилось совсем рядом и примыкало к внешней стене монастыря, так что окна его выходили как во внутренний двор, так и за его высокие стены, и из них был виден лес и горы, высившиеся за лесом. К сожалению, те окна, из которых просматривался этот широкий простор, оказались занавешены плотными шторами и закрыты тяжелыми металлическими решетками.
– Аббатство имеет вид прямоугольника, внутрь которого как бы вписаны еще два меньших – церковь и трапезная, – пояснял священник. – Кельи монахинь расположены вдоль северной стены и частично западной и восточной и выходят на крытую галерею. Далее вдоль западной стены апартаменты госпожи аббатисы и сестры Урсулы, кладовые и конюшни. Жилище сестры Урсулы окнами во двор, и из него хорошо видны главные ворота, так что можно проследить, кто приходит в монастырь или уходит из него. У южной стены расположена больница для бедных и мертвецкая.
Священник распахнул перед гостями дверь и чуть отступил назад, пропуская их внутрь со словами:
– Госпожа аббатиса сказала, чтобы вы входили. – Сам он зашел последним, после Луки, Пьетро и даже Фрейзе. Они оказались в маленькой комнатке, где стояли две деревянные скамьи и два самых простых стула. Мощная решетка из кованого железа, вделанная в дальнюю стену, перекрывала вход в соседнее помещение, занавешенный белой шерстяной портьерой. Вошедшие молча ждали, и через некоторое время занавесь беззвучно отодвинулась в сторону, и за решеткой неясным пятном мелькнуло белое одеяние аббатисы, ее апостольник и бледное лицо, разглядеть которое мешали плотно переплетенные металлические прутья.
– Благослови и сохрани вас Господь, – чистым голосом произнесла она. – Мы рады приветствовать вас в нашем монастыре. Я его настоятельница.
– Меня зовут Лука Веро. – Лука приблизился к решетке почти вплотную, но все равно за искусно выкованными виноградными гроздьями, всевозможными плодами, листьями и цветами ему был виден только силуэт аббатисы. Однако он почувствовал слабый аромат каких-то духов, возможно, розовой воды. А чуть дальше виднелся силуэт еще одной женщины в темных одеждах, почти неразличимый в полумраке. – А это мой помощник, брат Пьетро, и мой слуга Фрейзе. Я прислан сюда, дабы произвести в вашем аббатстве необходимое расследование.
– Мне это известно, – последовал тихий ответ.
– Но я не знал, что у вас закрытый монастырь, – осторожно, стараясь не обидеть ее, сказал Лука.
– Согласно нашей традиции, все посетители разговаривают с сестрами нашего ордена только через решетку.
– Но мне понадобится побеседовать с ними лично, чтобы собрать необходимые свидетельские показания. Для этого они должны по очереди прийти ко мне и сделать соответствующие заявления.
Даже сквозь решетку чувствовалось, как аббатиса сопротивляется этому.
– Хорошо, – все же сказала она. – Раз уж мы согласились на проведение расследования, пусть будет так.
Но Лука отлично знал, что сама холодная госпожа аббатиса согласия так и не дала: ее просто поставили перед фактом. Приказ о том, что здесь будет проводиться расследование, был ей прислан магистром ордена, и Лука прибыл сюда по повелению самого папы, так что все равно стал бы допрашивать монахинь, с согласия аббатисы или без оного.
– Для того, о чем я говорил, мне понадобится отдельная комната, куда вызванные мною монахини будут приходить и, поклявшись на Библии говорить только правду, отвечать на мои вопросы, – уже гораздо более уверенным тоном сказал Лука. Стоявший с ним рядом священник одобрительно закивал.
– Я уже приказала приготовить для тебя комнату рядом с этой, – сказала аббатиса. – Мне кажется, будет лучше, если сестры станут давать показания в моем доме, в доме настоятельницы, дабы они могли почувствовать, что и сама я всемерно помогаю расследованию, что я благословляю их и от всей души прошу честно отвечать на твои вопросы.
– А не лучше ли допрашивать свидетелей в другом месте? – тихонько заметил священник. – Например, у нас в монастыре? Ты мог бы приказать монахиням приходить туда и давать показания, а мы бы за ними присматривали. Правление мужчин, знаешь ли… мужская логика… все это весьма действенные вещи, и тебе стоило бы ими воспользоваться. Тут нужен мужской ум, а не сиюминутные женские прихоти.
– Спасибо за предложение, но с монахинями я буду встречаться здесь, – ответил Лука и вновь обратился к госпоже аббатисе: – Благодарю тебя, сестра моя, за оказанное содействие. Я очень рад, что смогу встречаться и беседовать с монахинями у тебя в доме.
– Но мне все же хотелось бы знать, почему ты это предлагаешь? – подсказал ему Фрейзе, делая вид, что обращается к толстому шмелю, с жужжанием бившемуся о свинцовое стекло в маленьком окошке.
– Но мне все же хотелось бы знать, почему ты это предлагаешь? – громко повторил тот же вопрос Лука.
А Фрейзе открыл окошко и выпустил шмеля на волю, навстречу солнечным лучам.
– У нас ходит немало скандальных слухов, и некоторые из них прямо направлены против меня, – не стала скрывать истинной причины своего предложения госпожа аббатиса. – Меня лично обвиняют во многих бедах. Так что будет лучше, если весь монастырь увидит, что расследование идет под моим наблюдением, что именно я благословила его проведение. Я надеюсь, что ты очистишь мое доброе имя от клеветы, отыщешь истинные истоки всех злодеяний и положишь им конец.
– Госпожа моя, нам и с тобой тоже придется отдельно побеседовать, как и со всеми прочими членами ордена, – предупредил Лука и даже сквозь решетку увидел, как вздрогнула аббатиса и как низко она опустила голову, словно он невольно пристыдил ее. – Мне самим Римом приказано помочь монастырю раскрыть истинное положение дел, – решительно прибавил он, но она ничего не ответила.
Слегка от него отвернувшись, она заговорила с кем-то, Луке не видимым, и через несколько минут дверь в их комнату отворилась, и вошла та пожилая монахиня, сестра Анна, что первой встретила их у ворот в день прибытия. Довольно резким тоном она заявила:
– Госпожа аббатиса просила меня проводить вас в ту комнату, которую мы специально приготовили для вашего расследования.
По всей видимости, догадался Лука, на сегодня их беседа с госпожой аббатисой закончена, хотя они так и не увидали ее лица.
* * *
Это была очень простая комната в той части жилища аббатисы, где окна смотрели на лес, раскинувшийся за аббатством, так что отсюда не видны были ни кельи монахинь, ни крытая аркада, ни двор перед собором, ни люди, приходившие в монастырь или уходившие из него. С другой стороны, и монахини не смогли бы увидеть, кто именно идет к Луке давать свидетельские показания.
– Благоразумно, – заметил Пьетро.
– И другие ни за кем проследить не смогут, – весело подхватил Фрейзе. – Может, еще и мне встать снаружи да следить, чтобы никто вам не мешал и не подслушивал?
– Да, это было бы хорошо. – Лука подтащил к пустому столу стул и уселся, ожидая, пока брат Пьетро подготовится – вытащит бумагу, перо для письма и склянку с чернилами. Наконец клирик устроился напротив и выжидающе посмотрел на Луку. Все молчали. Лука, чувствовавший невероятную ответственность в связи с возложенной на него трудной задачей, беспомощно поглядывал на Пьетро и Фрейзе, но не говорил ни слова. Наконец Фрейзе не выдержал: улыбнулся, желая подбодрить своего «маленького господина», взмахнул рукой, точно флагом, и воскликнул:
– Вперед! Не надо бояться: тут и без нас все настолько плохо, что хуже мы сделать просто не сможем.
Лука прыснул со смеху, как мальчишка, и сказал:
– Да уж, и впрямь похоже, что так. – Потом, глядя на брата Пьетро, он приосанился и решительно заметил: – По крайней мере, мы хоть ее имя знаем.
Фрейзе тут же кивнул, подошел к двери и попросил сестру Анну:
– Позови, пожалуйста, сестру Урсулу.
Сестра-алмонер тут же явилась и села напротив Луки. Он старался не смотреть в ее прекрасное, безмятежно спокойное лицо. Ее умные серые глаза, казалось, улыбаются ему с неким тайным пониманием, словно существует нечто, известное лишь им двоим.
Он вел допрос вполне официально: записал ее имя, возраст – двадцать четыре года, – имена ее родителей и срок пребывания в монастыре. Оказалось, она прожила в аббатстве уже целых двадцать лет, с самого раннего детства.
– Скажи мне, сестра, что, по-твоему, здесь происходит? – спросил у нее Лука, несколько осмелев от осознания собственной значимости, чему немало способствовали верный Фрейзе, стоявший у двери на часах, и брат Пьетро, деловито склонившийся над бумагами.
Сестра Урсула потупилась, изучая простую деревянную столешницу, и тихо сказала:
– Не знаю. Но порой тут случаются странные вещи, и все это очень тревожит меня и других сестер.
– Какие именно?
– У некоторых монахинь бывают видения, а две из них уже несколько раз вставали и ходили во сне – с закрытыми глазами, как лунатики; причем они не только вставали с постели, не просыпаясь, но и покидали свои кельи. Одна, например, перестала есть ту пищу, которую всем подают в трапезной, и морит себя голодом. Убедить ее хоть что-нибудь съесть совершенно невозможно. Есть и еще кое-какие проявления этой неведомой напасти…
– И когда все это началось? – спросил Лука.
Она устало кивнула, словно вполне ожидала этого вопроса.
– Примерно три месяца назад.
– То есть когда в монастыре появилась новая аббатиса?
Последовал еле слышный вздох.
– Да. Но я убеждена: она к этому никакого отношения не имеет. И я бы не хотела давать показания, которые могли бы быть использованы против нее. Наши беды и впрямь начались именно тогда – но вы, должно быть, уже знаете, что она и сейчас никаким авторитетом среди монахинь не пользуется, а тогда и вовсе была новенькой и совершенно неопытной; кроме того, она всегда честно признавалась, что в монастырь идти совсем не хотела. Любому монастырю нужен крепкий руководитель, строгая и справедливая настоятельница, которой ее дело действительно нравится. А наша аббатиса до прихода сюда вела жизнь, полностью защищенную от любых невзгод, была обожаемой дочерью крупного землевладельца; ей прощались любые прегрешения, она росла в огромном богатом замке и, разумеется, не имела никаких навыков по управлению святой обителью. Она же росла не здесь, так что ничего удивительного, что она понятия не имела о нашей жизни и о том, как этой жизнью управлять.
– Но разве может она приказать монахиням не видеть того, что является им во сне? Разве они вольны выбирать собственные сны или видения? Или и это вашей аббатисе не удается потому, что она монастырем управлять не умеет?
Клирик Пьетро сделал пометку возле этого вопроса Луки.
А сестра Урсула с улыбкой ответила:
– Ну конечно, она тут ни при чем. Если эти видения суть откровения, ниспосланные Богом, в таком случае ничто и никто не может ни остановить их, ни помешать им. Но если эти видения вызваны заблуждениями или безумием, если эти женщины сами себя запугивают, позволяя своим страхам править бал… Если им просто снятся пугающие сны, а они потом накручивают на это всякие дьявольские истории и рассказывают их другим… Прости меня за излишнюю прямоту, брат Лука, но я провела в этом монастыре двадцать лет и хорошо знаю, что две сотни женщин, живущие бок о бок, способны поднять настоящую бурю в стакане воды по самому ничтожному поводу, если им это позволить.
Лука удивленно поднял брови.
– Они что, способны произвольно вызывать у других лунатизм? Они могут заставить других выбегать ночью из своих келий и тщетно пытаться выбраться за ворота?
Сестра Урсула вздохнула.
– Значит, ты все видел?
– Прошлой ночью, – кивнул он.
– Я уверена, что среди монахинь действительно есть такие – одна или две, – которые и впрямь ходят во сне. И, несомненно, у одной или двух бывают порой вещие сны и видения. Но теперь у нас десятки молодых женщин, которые слышат голоса ангелов, видят движение звезд, ходят во сне и дико кричат от боли в израненных руках. Ты должен понимать, брат Лука: не все наши послушницы попали сюда по призванию. Многих отослали сюда родители, потому что в семье и так слишком много детей, или потому что та или иная девушка слишком тяготела к наукам, или потому что у нее умер жених, или же к ней никто не сватался. А иногда родители попросту ссылают в монастырь непокорных дочерей, и вот такие, естественно, являются здесь причиной всевозможных неприятностей. Так что далеко не все хотели и хотят жить здесь. И если кто-то из молодых женщин ночью покидает свою келью, что запрещается уставом, и начинает с криками бегать по галерее, всегда найдется еще хотя бы одна, которая с удовольствием к ней присоединится. – Сестра Урсула помолчала. – А потом и не одна.
– А стигматы? Откуда у той девушки на ладонях эти знаки?
Он сразу заметил, что она потрясена.
– Кто тебе об этом сказал?
– Вчера ночью я видел это собственными глазами. Видел и эту девушку, и других, которые за ней побежали.
Сестра Урсула опустила голову и молитвенно сжала руки; на мгновение Луке показалось, что она молится, просит Господа посоветовать ей, как лучше объяснить все это.
– Возможно, это чудо, – тихо промолвила она. – Мы не можем знать наверняка, откуда взялись эти стигматы. Но, может, никакого чуда и нет. И тогда – защити нас от зла, Пресвятая Дева, – это уже гораздо хуже.
Лука даже наклонился над столом, стараясь расслышать каждое ее слово.
– Гораздо хуже? Что ты хочешь этим сказать?
– Порой истинно верующая молодая женщина сама способна нанести себе пять ран Иисуса Христа. Этим она как бы свидетельствует свою ему преданность. Но иногда они идут еще дальше… – Сестра Урсула нервно передернулась и судорожно вздохнула. – Именно поэтому в монастыре и необходима строгая дисциплина. Монахини всегда должны чувствовать, что здесь о них могут позаботиться так же, как отец заботится о родной дочери. Они должны знать, что существуют строгие границы дозволенного. Однако управлять ими нужно очень осторожно.
– Значит, у тебя есть подозрения, что монахини сами себе такие раны наносят? – спросил потрясенный Лука.
– Все они – молодые женщины, – сказала его собеседница. – И настоящего руководителя у них нет. А ведь они обуреваемы страстями, они неспокойны. Так что нет ничего необычного в том, что они наносят такие раны самим себе или друг другу.
Брат Пьетро и Лука обменялись изумленными взглядами. Затем клирик, низко опустив голову, еще что-то отметил в своих бумагах.
– Ваше аббатство, кажется, довольно богато, – заметил Лука – собственно, он сказал первое, что пришло ему в голову, чтобы сменить столь страшную тему.
Сестра Урсула покачала головой.
– Нет, мы ведь приносим обет бедности. Каждая из нас приносит обеты бедности, послушания и непорочности. Мы ничем не можем владеть, не можем следовать собственной воле, не можем любить мужчину. Мы все принесли эти обеты; этого избежать невозможно. Да, мы все принесли их. И все сделали это по доброй воле.
– За исключением вашей настоятельницы? – предположил Лука. – Насколько я понимаю, она вовсе не хотела приносить эти обеты. Как и в монастырь уходить не хотела. Ей приказали это сделать. Ведь не по собственной воле ей пришлось вступить на путь бедности, послушания и отсутствия плотской любви?
– Тебе придется спросить об этом у нее, – с тихим достоинством промолвила сестра Урсула. – Она прошла обряд посвящения в монахини. Она отказалась от своих богатых одежд, хотя привезла с собой сюда полные сундуки. Из уважения к тому положению, которое она некогда занимала в обществе, ей было разрешено переодеваться в эти платья у себя в покоях. Ее служанка сама побрила ей голову и помогла переодеться в грубое белье и шерстяное платье в соответствии с нашим уставом. И она сама надела на голову апостольник и прикрыла лицо белым платом. А после этого пришла в часовню и в полном одиночестве долгое время лежала на каменном полу перед алтарем, раскинув руки и прижавшись лицом к холодным каменным плитам. Она сама предалась Господу, и только она сама знает, от всей ли души приносила она святые обеты. Ибо душа ее от нас, ее сестер, скрыта.
Она помолчала, колеблясь. Потом прибавила:
– Но ее служанка, разумеется, никаких обетов не приносила. Она живет среди нас, как чужая, и, насколько я знаю, никаким правилам не подчиняется. Я даже не уверена, служанка ли она у госпожи аббатисы. Похоже, их отношения более чем…
– Что? – в ужасе спросил Лука.
– Чем необычны, – спокойно пояснила она.
– Но разве ее служанка не из сестер-мирянок?
– Я действительно не знаю, стоит ли называть ее служанкой. Говорят, она была ее личной горничной с самого детства, и, когда аббатиса присоединилась к нашему ордену, она последовала за нею, как собака следует за своим хозяином; она сопровождает аббатису повсюду. И живет вместе с нею. Спать в монашеской келье она не пожелала и сперва спала в кладовой рядом со спальней аббатисы, а потом и вовсе стала ложиться на пороге ее комнаты, точно рабыня. А с недавнего времени они спят в одной постели. – Сестра Урсула поджала губы и помолчала. – Остается предположить, что аббатиса добровольно делит с нею ложе.
Перо брата Пьетро повисло в воздухе; от удивления он так и застыл с раскрытым ртом, но вслух не сказал ни слова.
– Она посещает церковь, – продолжала сестра Урсула, – ибо следует за госпожой аббатисой как тень, но не молится, не исповедуется и не ходит к мессе. Я полагаю, что она из неверных, хотя толком, разумеется, мне ничего не известно. Она – это какое-то невероятное исключение из наших правил. Мы даже сестрой ее не называем, а зовем по имени: Ишрак.
– Ишрак? – с удивлением повторил странное имя Лука.
– Она настоящая оттоманка, – сестра Урсула очень старалась говорить об этом спокойно. – У нас в аббатстве ее просто невозможно не заметить. Она носит черное платье, как мавританки, а лицо порой закрывает покрывалом. Кожа у нее цвета жженого сахара. Обнаженная, она кажется золотистой, как ириска. Покойный хозяин замка привез ее с собой из Иерусалима совсем ребенком. Возможно, она досталась ему в качестве военного трофея, а может, была у него в доме чем-то вроде любимого домашнего зверька. Он не стал давать ей другое имя и крестить ее тоже не стал, но воспитывал ее, рабыню, вместе со своей родной дочерью.
– Неужели ты думаешь, что это в ней причина здешних беспорядков? Ведь все, кажется, началось сразу после ее появления в аббатстве? И появилась она здесь, кажется, одновременно с госпожой аббатисой?
Сестра-алмонер пожала плечами.
– Некоторые монахини очень испугались, когда впервые ее увидели. Эта Ишрак, разумеется, еретичка, да и вид у нее довольно свирепый. И она, как я уже говорила, всегда тенью следует за госпожой аббатисой. Сестры находят… – она помолчала, подбирая нужное слово, – что она нарушает их покой. – И сестра Урсула тряхнула головой, подтверждая. – Да, она нарушает наш покой! Мы все так считаем.
– И чем же она его нарушает?
– Она ничего не делает для Господа нашего! – с неожиданной страстью воскликнула сестра Урсула. – А уж ради аббатства и вовсе палец о палец не ударит. И она ни на шаг не отходит от госпожи аббатисы, куда аббатиса, туда и Ишрак.
– И ей, разумеется, разрешено выходить за пределы монастыря? Ей ведь это не заказано?
– Она никогда не оставляет аббатису одну, – возразила его собеседница. – А госпожа аббатиса никогда из монастыря не выходит. Эта рабыня прямо-таки ужас на всех наводит. Она то крадется в тени, то скрывается в темном углу, за всеми наблюдая и все замечая, но ни с кем из нас не разговаривает. Иной раз кажется, будто к нам в ловушку угодило какое-то неведомое животное, а может, золотистая львица, и мы держим ее здесь в клетке.
– А сама ты ее боишься? – напрямик спросил Лука.
Сестра Урсула подняла голову и ясными серыми глазами посмотрела прямо на него.
– Я верю, что Господь защитит меня от любого зла, – сказала она. – Но если б я не была так уверена, что надо мною простерта десница Господня, эта женщина стала бы для меня истинным воплощением ужаса.
В комнате воцарилась тишина, словно там и впрямь пролетел шепот невидимого Зла. Лука чувствовал, как по спине у него ползут мурашки; брат Пьетро под столом судорожно вцепился в крест, который носил на поясе.
– С кем из монахинь мне следует побеседовать в первую очередь? – спросил Лука, желая нарушить затянувшееся молчание. – Запиши мне имена тех, кто ходит во сне, у кого проявлялись стигматы, кому являлись видения, кто чересчур долго постится.
Он подтолкнул к ней лист бумаги и перо, и она – не спеша, но и без колебаний – четким почерком написала шесть имен и вернула ему листок.
– А ты? – спросил он. – У тебя были видения? Ты случайно не ходила во сне?
Улыбка, которой она его одарила, казалась почти соблазнительной.
– Я просыпаюсь глубокой ночью и иду в церковь к полунощнице, а потом долго молюсь, – сказала она. – И после этого меня можно найти только в моей теплой постели.
Пока Лука пытался прогнать видение «ее теплой постели», она, не говоря больше ни слова, встала из-за стола и вышла из комнаты.
– Впечатляющая женщина, – тихо заметил Пьетро, глядя ей вслед. – Только подумай, ведь она в монастыре с четырех лет! Живи она в миру, ох и натворила бы она дел!
– Шелковые нижние юбки! – заметил Фрейзе, просовывая в дверь голову. – Не больно-то часто монахини их носят.
– Что-что? – переспросил Лука, непонятно почему приходя в ярость, ибо сердце у него все еще бешено стучало при воспоминании о том, как сестра Урсула после молитвы ложится в свою целомудренную теплую постель.
– Я говорю, нечасто монахини шелковые нижние юбки надевают. Обритая голова – это да, хотя, может, это и чересчур, но монастырским законам вполне соответствует. А вот шелковые юбки тут вряд ли кто носит.
– Откуда, черт побери, тебе известно, что она носит шелковые нижние юбки? – с раздражением спросил Пьетро. – И как ты вообще смеешь говорить такое?
– Видел, как эти юбки сохли в прачечной, вот и поинтересовался, чьи они. По-моему, довольно странная вещь в монастыре, где обет бедности приносят. А потом я прислушался – может, я и дурак, но слушать-то умею очень хорошо! – и услышал, как эти юбки шелестят, когда сестра Урсула мимо проходит. Она-то не знала, что я прислушиваюсь; она мимо меня всегда с таким видом идет, словно я камень или дерево. А шелк так тихонько шуршит – шур-шур-шур. – Фрейзе хитро подмигнул брату Пьетро. – Расследования-то небось можно по-всякому вести. И вовсе не обязательно уметь писать, чтобы быть способным думать. Иной раз хватает и простого умения слушать.
Брат Пьетро сделал вид, что не заметил его едких слов, и обратился к Луке:
– Кто у нас следующий?
– Пожалуй, пригласим теперь госпожу аббатису, – решил Лука. – А потом ее служанку Ишрак.
– А может, нам первой допросить эту Ишрак? А потом заставить ее постоять за дверью, пока аббатиса на наши вопросы отвечать будет? – предложил Пьетро. – Тогда они уж точно не сговорятся.
– Сговорятся насчет чего? – нетерпеливо спросил Лука.
– В том-то все и дело, – сказал Пьетро. – Мы ведь не знаем, чем они тут занимаются.
– Сговорятся. – Фрейзе осторожно повторил это слово. – Сго-во-рят-ся. Надо же, до чего некоторые слова способны любого человека сразу виноватым сделать!
– Ты лучше помолчи и сходи за этой рабыней, – велел ему Лука. – Следователь тут вовсе не ты, а тебе положено мне, твоему господину, прислуживать. Веди ее сюда побыстрей да постарайся сделать так, чтобы она ни с кем по пути сюда не разговаривала.
Фрейзе, обогнув дом, подошел к дверям кухни аббатисы и попросил позвать служанку Ишрак. Та вскоре явилась, с ног до головы закутанная в покрывало, точно жительница Сахары; на ней была длинная черная рубаха и черные шаровары, а легкое черное покрывало, наброшенное на голову, закреплялось так, что скрывало всю нижнюю половину лица. Фрейзе сумел разглядеть только ее босые ступни – на одном пальце поблескивало серебряное кольцо – и темные загадочные глаза, в упор смотревшие на него в щель между складками покрывала. Фрейзе ободряюще улыбнулся, но девушка никак на его улыбку не отреагировала, и они в полном молчании направились в комнату следователя. Затем Ишрак, по-прежнему не говоря ни слова, уселась перед Лукой и братом Пьетро.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу