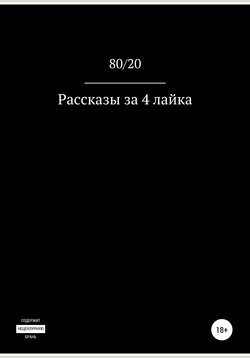Читать книгу Рассказы за 4 лайка - 80/20 - Страница 1
ОглавлениеОДУВАНЧИКИ
– Дед или бабка?
– Чего?
Илюша поднимает сонные глаза на дедушку и тут же морщится от яркого солнца. Так жарко и душно, как в мешке, что дед с внуком сползли со скамейки на прохладную траву и долго сидели, молча прислонившись к беленому палисаднику. Трудиться сегодня было совершенно невозможно, да и погода, бог дал, позволила переделать всю работу наперед. Красная ниточка ртути в термометре, как тонкая гусеница на черемухе, тянулась к сорока. И лежать бы сегодня до вечера под тенью кустов.
– Дед или бабка? – дед Христик упрямо протягивает мальчику одуванчик.
– Ну, пусть будет дед!
Илюша недоверчиво смотрит на пушистый, как кроличья лапка, белый цветок, мол, стоит ли эта игра внимания? Весь день палит, что лишний раз и шевелиться не хочется. Вдали, на объездной гравийной дороге проехала первая машина за полчаса, подняв серый собачий хвост пыли. Прохожих так и вовсе не было с самого утра. Тоска. Только ласточки всё так же резво пикируют к земле.
– Дуй! – дед улыбается.
Илюша весь в сомнениях: не дурачат ли его?
– Ну же!
Илюша набирает полный рот воздуха и дует на одуванчик. Дед Христик внимательно рассматривает остатки пуха на несчастном цветке.
– Кажется, бабка…
– Это ещё почему? – Илюша приподнимается на колени и тоже разглядывает цветок.
Дедушка делает вид, что не слышит.
– Ну, точно! Бабка! Определенно бабка! – подводит итог с видом опытного ботаника.
– Да почему же? – Илюша возмущенно вскакивает на ноги.
Дед смотрит на него и смеется. Гладит по светлой голове. Вытирает щеку – Илюша где-то запачкал.
– Смотри, – дед жестом предлагает Илюше сесть обратно. – Если бы ты сдул весь пух, то получилась бы лысина, как у деда. А ты тут оставил немного, прямо на макушке, как у бабки! Понимаешь?
Илюша немного думает, затем заливается звонким смехом на всю улицу.
– Так что ж ты, деда, сразу не сказал? Я бы тогда посильнее дунул! Я если б захотел, я бы со всей поляны бы сдул одуванчики!
– Как тот волк в сказке?
– Как волк! В сказке про поросят!
Дед хохочет.
– Погоди, погоди! А хочешь фокус? Другой.
– Хочу! – голубые глаза Илюши заблестели, и он садится напротив деда, сказки и волшебство – это его любимое занятие.
Дед срывает ещё один одуванчик.
– Глаза закрой, а рот открой! – командует дед Христик в рифму.
Илюша не думая зажмурился и широко-широко открыл рот, показав прорехи между молочными зубами. Дед, не мешкая, сунул ему одуванчик в рот да поглубже, и закашлял добрым стариковским смехом.
– Плохой фокус! Глупый! – Илюша выплевывает пух и сам же улыбается своей наивности.
Дед ещё долго смеется, и они оба ложатся на траву. Недалеко домашняя утка переваливаясь пасет своих желтых утят, она не отходит от корытца с водой. Кошка крадется по забору, как по канату, высматривая воробьев на рябине. Высоко, еле видно, кружит коршун. Дед расстегивает верхние пуговицы своей рубахи. Кожа коричневая и жесткая на шее, а под рубашкой белая, как молоко.
– Жарко, правда, деда?
– Правда, Илюша. Июнь нынче жаркий.
– А ещё больше половины лета впереди, да, деда?
Дед щурится на Илюшу и улыбается краем губ.
– У тебя, Илюша, ещё много лет впереди. И зим и вёсен. Много всего, Илюша. Ты только не торопись.
– А у тебя, деда? Много лет впереди?
Глаза деда тут же намокают. В последнее время его глаза часто намокают и краснеют. Он отводит взгляд и теперь наблюдает за коршуном в небе.
– Много, – сказал он еле слышно.
– Деда, а мама с папой приедут за мной? – Илюша переворачивается на живот и ждет ответа, хотя задавал этот вопрос сегодня уже сто раз.
Дед Христик пару мгновений молчит, а затем так же переворачивается на живот. Только тяжелее, со стоном. Кости его долговязого тела ломит.
– А знаешь что, Илюша, я научу тебя. Слушай. Возьми-ка себе тот одуванчик. Да, тот, покрупнее, срывай его! Вот! Знаешь ли ты, что одуванчик – это волшебный цветок? Да-да. Закрой глаза, загадай желание и никому не говори его, а если ты сможешь сдуть все пушинки с цветка, то тогда твое желание исполнится. Попробуешь?
Илюша улыбается, быстро кивает, набирает побольше воздуха и… замирает.
– А ты не шутишь, деда?
– Нет, Илюша, в этот раз не шучу. Разве можно…
– Тогда возьми и ты! – Илюша срывает ещё один круглый одуванчик и протягивает его деду. – А то ты такой шутник, что опять обманешь меня как-то, а я останусь в дураках. И тоже загадывай желание!
– Хорошо, договорились! – дед Христик взял цветок двумя большими пальцами и сел на траву. На коленях остались мокрые зеленые пятна. – Начали?
Илюша до хруста сжал стебель в маленькой ладошке, снова набрал воздуха во все легкие, надул щёки, раскраснелся и долго и сильно дул на свой одуванчик, пока тот не остался совсем голым.
– Смотри, деда, исполнится! – Илюша машет перед глазами дедушки чистым стеблем. – Мое исполнится! Исполнится! А твоё, дед? Ты весь пух сдул?
Илюша с беспокойством наклоняется к деду.
– Весь, Илюша! Весь! – дед Христик стыдливо, будто украв, прячет в кулаке одуванчик.
Илюша вскочил на ноги и стал бегать по поляне, разгоняя из травы кузнечиков и вызывая недовольство толстой кряквы. Все его желания исполнятся! И совсем скоро! Распугал задремавших воробьев, и кошка раздосадовано облизнулась и ушла обратно.
Дед смотрит на свои ладони. Все в мозолях и трещинах. Заусеницы на пальцах. Сколько черенков от кос перетёрлось в этих ручищах, сколько гаек было сорвано на колхозных тракторах, а сколько паскуд было оттаскано за грудки. Что ж, жизнь прожить – не поле перейти. И лёгкие уже совсем ослабли. Вон, даже неженка-одуванчик вышел победителем.
– Илюша, пойди сюда на минутку! Скорее, всего на минутку.
Илюша подбегает, останавливается, тяжело дыша, и дед берёт его за тонкий локоток. Он может обхватить его двумя пальцами.
– Ты же понимаешь? – дед Христик поправляет внуку воротник рубашки. – Илюша, ты не просто загадал свое желание и подул на цветок. Ты так же помог многим другим людям исполнить свои желания!
– Как так? – Илюша чешет непослушный волос на затылке.
– Пух! Эти маленькие парашютики! – дед дрожащими пальцами завязывает шнурок на ботинке мальчика: заячье ушко, заячье ушко, узелок. – Это же семена! Ты дунул, и они разлетелись по всей поляне, как бабочки, нашли себе новый дом. Совсем скоро из этих семян вырастут новые одуванчики, которые сорвут другие люди и загадают свои желания, которые тоже исполнятся, понимаешь? – почему-то деду Христику было важно, чтобы Илюша его понял.
– Кто ж их тут сорвет, тут никто не ходит…
– А это не важно! Может, не сейчас, может, через сто лет, а может, и через тысячу. Люди приходят и уходят, а твои одуванчики тут будут всегда. Илюша, ты делай то, что можешь. Если можешь, сделай добро. Если не можешь добра, то хотя бы не делай дурного. А то, что будут делать другие – это ладно, это неважно. Это другое. Как бы ни было вокруг, ты должен быть лучше, хотя бы чуточку лучше, Илюша! Понимаешь?
– Да, деда, я всё понял? Дед, ты себя хорошо чувствуешь?
Илюша тревожно смотрит прямо в помутневшие то ли от слез, то ли от чего-то ещё голубые глаза.
– Что?
– Ты не заболел, дед?
– А? Нет, всё хорошо, Илюша. Всё хорошо. Ты беги в дом, пожалуй, баба уже накрыла обед. Она блины стряпала. Со сметаной или с вареньем, как хочешь! Беги. И, постой! Скажи, бабе, чтобы вышла ко мне. Скажи ей, что я здесь, – добавил уже шепотом, а может просто подумал. – Я здесь…полежу. Я полежу ещё маленько на траве. Устал что-то.
Илюша вприпрыжку побежал домой, шнурок снова развязался. А дед Христик лёг на прохладную траву и широко раскинул руки, как Христос, но не в таких мучениях. Одна из рук была в пуху от одуванчика. Парашютики прилипли к влажной ладони.
А на западе, на горизонте собирались тучи. Небо мазалось сливовым цветом. Это значит, будет дождь.
10.2016
ГОСПОДИН ЩЕЛКОПЁР УБИРАЕТ СВОЮ ФАЦЕЦИЮ В СТОЛ
– Товарищ Щелкопёр! Товарищ Щелкопёр!
Хозяйка квартиры колотила пяткой в хлипкую дверь из коридора.
– Да чего ж тебе приспичило, старухня? – шепчу я, вытирая испарину со лба и листая лихорадочно страницы.
А потом добавляю громко, чтоб она услышала:
– Да, любезная Галина Александровна? Чего бы вы хотели, навестив вашего покорного, в столь поздний час?
Галина Александровна Пасюк была наисквернейшая хрычовка лет этак ста пятидесяти с беззубым ртом, отчего дюже чавкала слова, когда говорила. Она носила две пары шерстяных носков сразу и галоши. Не иначе как чёрт тогда дернул меня арендовать у неё эту треклятую квартиру, потому как не проходило и пары дней, чтобы она не являлась с проверкой. И упаси вас бог взять лишнюю свечу или наследить в коридоре талым снегом или слишком громко хлопнуть дверью. Да и квартира эта была не ахти: крохотная, угловая и на втором этаже из двух. Под окошечной рамой зимой намерзало ледяным горбом. Такие деревянные бараки более полувека назад наскоро строили для пленных японцев, и назначение их было временным. Но сейчас цена оказалась более чем подходящая, да и кое-что оставалось из старинной мебели, по этой причине комнатку-то я и арендовал.
Во рту у меня угольный карандаш, поэтому говорить получается очень неразборчиво.
– Вы там пьяны что ли, товарищ Щелкопёр?
– Господь с вами, Галина Александровна!
– Ну, ей-богу пьяный, мама-папа сказать не может!
Сплёвываю карандаш и говорю как можно разборчивей.
– Да чего же вы заладили, сказано вам, что не пью я! Лучше извольте наконец разъясниться, что вас побудило оставить свою тёплую перину и предстать перед моими очами такой ночью?
– Вестимо чего, за оплатой я! – продолжала она стучать в дверь.
– Галина Александровна, милейшая, так срок ведь завтра!
– Так я заранее, товарищ Щелкопёр! Ну и фамилию вам господь дал! Страшная фамилия, никак не привыкнуть! Так вот, я заранее плату хочу взять, потому как знаю вас качественно! Денег-то у вас никогда не бывает, а когда заведутся, так вы сразу и пропьёте до копеечки в ближайшем шалмане, а как мне потом с вас плату трясти прикажете?
Тут старушка Пасюк была, конечно, права.
– Бог с вами, Галина Александровна, когда это такое было? Всегда исправно плачу за комнату!
– Я войду, пожалуй!
– Нет! – кричу ей, приподнявшись на локти и уставившись на дверь, будто пытаясь остановить её одним лишь своим взглядом. – Никак нельзя, Галина Александровна!
– Почему это? – старая перестала стучать в дверь и прислушалась.
– Так я делом занят!
– Так я не помешаю!
Показалось, что она взялась за дверную ручку своей костлявой корягой.
– Помешаете, Галина Александровна, голубушка! Ещё как помешаете!
– Чем это вы там, товарищ Щелкопёр таким занимаетесь, что я, как хозяйка сей комнаты, и посетить её уже не могу в комфортное время с ревизией.
Мне нужно было срочно придумать правдоподобную ложь, но в голову пришла только одна мысль и та неудачная.
– А я может, Галина Александровна, каким неприличным тут делом занят! Непотребным! Которое чужих глаз не терпит, например!
– Что же вы врёте мне, слегка пожилой даме, на вас же никогда ни одна приличная женщина не посмотрела, чтоб вы с ней тут неприличным занимались! Разве что эта Шура с придурью, так та уже давно и прилежно спит в своей же комнате за стеной, в чём я убедилась минут десять назад!
– А я, может, один занимаюсь!
– Как это?
Так как ничего лучше я в спешке всё равно не выдумал, а остановить старуху за дверью необходимо, ругнулся и продолжил:
– Грешу я!
– Чего?
– Рукоблудствую, Галина Александровна! Слышите? Ру-ко-блуд-ству-ю! А вы вот пришли среди ночи и отвлекаете! Уж простите, от разговоров с вами дело-то не ускорится!
– Господи… – было слышно, как она отпустила дверную ручку и перекрестилась. – Вот же оскорбление мне на старость лет! Какой позор! Я уйду, товарищ Щелкопёр! Уйду сейчас! Но дело так не оставлю. И уж будьте уверены, сообщу куда нужно! Есть соответствующие структуры… Ещё не хватало такого позора в моём доме…
– Доброй вам ночи, Галина Александровна! Не переживайте, я железно покаюсь на первой же исповеди! И всё приберу за собой!
Прислушавшись, я убедился, что старуха ушла в свою комнату в конце желтого коридора. Теперь я, повернув регулятор фитиля, прибавил огня в керосиновой лампе с закопченным стеклом и полистал дальше пожелтевшие страницы тяжелого учебника по анатомии для первого курса медакадемии.
– Ага, стало быть, где-то здесь…
Угольным карандашом провожу пунктирную линию слева между седьмым (истинным) и восьмым (ложным) ребром.
– Примерно здесь…
Я лежу на холодной сырой клеёнке посреди комнаты. Все необходимые инструменты, тряпки и бинты тут же под рукой разбросаны. Поджигаю спичку для камина и несколько раз провожу скальпелем над огнём. Теперь прикусываю лезвие, чтобы освободить руки. Поворачиваю маленькое зеркальце на штативе так, чтобы в нём была видна моя левая сторона в свете керосинки.
– Так, ладно…
Надеваю медицинские голубые перчатки, которые оказываются на пару размеров больше и обильно осыпаны тальком внутри.
– Так, ладно… – повторяю. – Бог поможет.
Открываю санкционную бутылку тёмного «Капитана Моргана», щедро поливаю на пунктирную линию на ребрах. Чуть помешкав, делаю большой глоток.
– Главное сердце не задеть. И какую-нибудь там артерию. Есть ли там артерии?
Снова листаю учебник пальцами в перчатке, но не нахожу нужной схемы. Может быть, она была на одной из вырванных кем-то страниц, потому что книга библиотечная и пары десятков страниц грубой бумаги в ней явно не достает.
– Ай, ладно. Авось, и так сойдёт…
Складываю втрое кожаный ремень и прикусываю его. Не хватало ещё разбудить эту старую ведьму, если она, конечно, спит когда-нибудь. А если и спит, то, несомненно, вниз головой и под крышей, как летучая мышь. Попробовав на вкус, перекладываю ремень ещё в один раз и снова прикусываю.
– Сильный, резкий удар, – повторяю я, стиснув зубы. – Достаточно сильный, чтобы пробить межреберный хрящ, но не слишком глубокий, чтобы не повредить плод. Ладно. О, боже…
Глядя в зеркало, прицеливаюсь и делаю надрез. Вздрагиваю всем телом и вмиг обливаюсь крупным потом, рубашка тут же липнет к спине. Ком тошноты подходит к самому горлу. Закусываю ремень до боли в зубах. Пилящим движением разрезаю линию между ребрами примерно на десять сантиметров. Очень хочется прерваться и передохнуть, но боюсь потерять сознание, тем более, что в глазах темнеет, поэтому в получившуюся рану скорее вставляю реечный ранорасширитель Госсе.
– Так, насколько там можно?
Дрожа всем телом, ищу скорее в учебнике насколько можно раздвинуть ребра, не сломав их к чертям.
– Бесполезный лечебник! Ладно, попробую… опытным путём.
Вращаю ручку, и каждое движение отдается ноющей болью в грудине.
– Так, ладно, хватит… Господи, как больно-то… Вот-вот сломаются!
Я смог раздвинуть ребра всего на два-три сантиметра.
– Ну, ладно, давай… Вот остолоп! Как же я так, достал новый острый скальпель, но совсем забыл про пинцет… Что ж, делать нечего.
Поправляю зеркало и, глядя в него, запускаю пальцы внутрь.
– Ну, где ты там? Где же…
Наконец нащупываю что-то весьма глубоко… что-то такое… неописуемо хрупкое и мягкое, и чужое. Что-то, чего тут явно не должно быть. Инородное. В учебнике так и написано: инстинктивно поймёте. Пытаюсь сообразить, не может ли это всё-таки быть каким-то моим органом, вроде, селезенки или поджелудочного пузыря, но поняв, что всё равно не знаю что такое селезенка и где она, решаюсь действовать. Зажимаю это нечто между указательным и средним пальцами, но очень аккуратно, и тащу наружу. Оно выскальзывает, но я подхватываю это снова. Наконец, я достаю это из себя, кладу на ладонь в медицинской перчатке и подношу ближе к лампе. Теперь можно немного разглядеть.
– Живой… живой!
Существо походило на большую мокрицу: сантиметров семь или десять в длину. Впрочем, мокрицу оно напоминало всего лишь серым черепицеобразным панцирем и большим количеством конечностей. Я в полумраке насчитал не менее семи пар разной длинны и разной толщины, и формы. Собственно, по движению одной из конечностей я и определил, что оно живое. Самым удивительным было почти человеческое лицо существа. Ну, или, по крайней мере, лицо какого-то примата, мартышки. Мокрица беззвучно открывала рот, но большие черные глаза казались живыми. У существа не было каких-то половых признаков, поэтому я не решался определить: он это или она.
Очищаю его от слизи и крови и укладываю на полотенце рядом. Так как оно почти сразу пытается сбежать, переворачиваю его лапками вверх, приводя в беспомощное состояние.
– Сейчас перекурю и буду зашиваться… – думаю я, пытаясь переварить в своей голове то, что случилось. – Оно ведь, когда перекуришь, сразу всё понятней становится.
Достаю кровавыми и слизистыми пальцами в перчатке сигарету из пачки и прикуриваю от каминной спички. Глубоко затягиваюсь, вижу, как дым плавно струится к потолку не только из моего рта, но и из раны между рёбер. На усах остается кровь с перчаток.
Это было удивительно, это был такой восторг! Как рождение ребенка, когда отец впервые берет на руки своё чадо. Как божественное откровение во сне, ты просыпаешься и вот – вчера ты был просто человек, а сегодня уже пророк. Было внетелесное ощущение, будто наблюдаешь за этим со стороны. Но я был очень горд, что сделал это. Как будто совершил что-то невероятное: первым прибежал на древних олимпийских играх или открыл вакцину от страшной болезни. От удовольствия немели ноги, и приятно щекотало в паху.
– Товарищ Щелкопёр! Товарищ Щелкопёр! Вы что там курите? Я чувствую дым, вы там курите? Это не положено! Слышите, совсем не положено! Уснете с папиросой в зубах, так она упадет на матрац, и погорим все заживо тут из-за вас окаянного!
И как эта старая ведьма учуяла дым?
– Курю, Галина Александровна, курю, голубушка! Это ведь всем известно, что после хорошего рукоблудия положено выкурить крепкую сигаретку!
Пытаюсь посмеяться, но, забываю про ранорасширитель в рёбрах, заливаюсь кашлем, и дым из раны идет неравномерными клубами. Старуха, причитая, опять возвращается в свою комнату в конце коридора.
Я даже не заметил, как докурил. Теперь вынул реечный расширитель Госса, и рёбра плавно встали на место, но продолжали болеть. В эту пору я зашил порез приготовленной бойко выгнутой иглой, заранее опалив её спичкой. Обильно залил рану «Морганом», сделал ещё глоток, и перевязал бок дешевым белым бинтом, который сыпался нитками. Промыл существо-мокрицу-мартышку в ведре с теплой водой, аккуратно, боясь потопить. И уложил её на сухое полотенце до завтра. Надо бы придумать ему имя.
С трудом нагибаясь, навёл-таки порядок в комнате, потому что если старая хрычёвка завтра заявится с проверкой, пока меня не будет дома (а она заявится), то возникнут ненужные вопросы. Клеенку смял и выбросил, инструменты промыл в том же ведре и сложил в ящик, учебник поставил на косую пыльную полку. Сделал глоток и спрятал «Моргана» подальше в шкаф. Затушил керосинку, тем более что ночь была светлой.
– Что ж ты такое? – склонился я над существом и закурил снова.
Было слышно, как в сигарете потрескивает, сгорая табак. Самое тихой время в ночи.
Долго я так смотрел. Оно стало намного живее и уже резво перебирало лапками, лёжа на спине. И глазело по сторонам большими буркалами. Я тихонько погладил пальцем его брюшко. В ответ оно издало тихий-тихий звук, похожий на нежную песенку магвая. Сначала совсем тихо и робко, потом смелее. И особенно чарующе песенка звучала ночью, в полной тишине.
– Это прекрасно, – похвалил его я, когда оно закончило. – Пожалуй, мне нужно позвонить. Совершенно точно мне срочно нужно позвонить. Вот именно сейчас. А знаешь, я, пожалуй, возьму и тебя с собой!
На самом деле, я просто побоялся оставлять его одного в комнате, ведь оно могло перевернуться и убежать. Я закутал существо в полотенце и вышел с ним в жёлтый коридор. Коридор был даже слишком жёлтым, болезненным, во многом из-за слабой тусклой лампочки у входа, мне же в комнате электричество не полагалось, приходилось довольствоваться свечами и керосинкой. Ну и не надо мне.
В коридоре был красный телефонный аппарат, которым можно было пользоваться только за отдельную плату, но он был в противоположном конце от комнаты старухи, поэтому я иногда звонил с него по ночам. Впрочем, старая всё равно знала об этом каждый раз и на следующее утро обязательно отчитывала меня и требовала платеж.
Я прокрутил несколько раз диск телефона со стёртыми белыми цифрами на черном фоне, набирая номер, и стал ждать ответа.
– Ликочка, дорогая, я вас не разбудил? – зашептал я трепетно.
На том конце провода наконец-то сняли трубку.
– Конечно же разбудил! Прости меня моя дорогая Ликочка, мне следовало дождаться утра, но я не смог дотерпеть… Понимаешь, я просто хотел сказать вам, что я сделал это. Вам же, может быть, это важно знать? Понимаете о чем я? Помните, Ликочка, я рассказывал? Конечно же вы забыли… Я просто хотел сообщить, что он живой и он прекрасен… Или это она? Впрочем, не важно. Это такое событие!
– Да, это хорошо, – Лика отвечала очень тихо, мне даже казалось, что она оглядывается там у себя в просторной квартире.
Ангелика была высокой и стройной девушкой с благородными чертами лица и выразительным взглядом. Она работала бухгалтером в банковском отделении, хотя совершенно не нуждалась в деньгах. Она носила на работу черное платье с кружевным белым воротником, который непременно застегивала на все пуговицы, а волосы собирала в высокую прическу. На туфельках Ангелики были крайне тоненькие чёрные шнурочки, завязанные бантиком.
Лика держала худыми длинными пальчиками винтажную трубку телефона.
– Вы должны его увидеть, душа моя! Приезжайте, взгляните на него, Лика? Но вдруг он напугает вас или будет противен? Знаете, он своеобразен. Хоть одним глазком взгляните, а если захотите, то хоть весь день любуйтесь! Вот прямо завтра приезжайте, прошу вас!
– Обязательно приеду.
– Завтра?
– Может, не завтра…
– А ещё знаете, он поёт! О, как чудно он поёт… Хотите послушать? Он споёт для вас, милая Ликочка. Погодите секундочку. Не кладите трубку.
И я тут же поднёс его к трубке и погладил по животику. Он внимательно посмотрел на меня, выдержал паузу, но тут же запел свою прекрасную песню.
– Красиво, Лика? Ну, ведь прекрасно? Правда, красиво? Вам было хорошо слышно, дорогая? Этот старый телефон совсем плох…
– Очень красиво. Послушайте, дорогой друг, мне пора, я не могу больше говорить…
– Да, конечно, Ликочка, дорогая. Простите, что разбудил вас. Но вы обязательно приезжайте посмотреть на него! Да что же я… Даже не спросил, здоровы ли вы? Всё ли у вас в порядке? Впрочем, не смею больше держать вас, моя Ангелика. Но пренепременно приезжайте посмотреть на него! Приедете? Лика? Лика?
Она легонько положила винтажную трубку телефона на винтажный рычаг телефона.
– У вас кровь.
Я напугано оглянулся. Это была Шура – молодая девушка с сухими сиреневыми волосами до плеч. Она куталась в домашний синий халат, стоя в домашних тапочках в зябком жёлтом коридоре. Шура снимала соседнюю комнату, на оплату которой уходило половина её зарплаты с частного учительства. Она давала уроки престарелым мужчинам.
Я даже не слышал, как она вышла сейчас.
– У вас кровь, – повторила она сонным голосом.
У неё были очень худые ноги и острые скулы, и болезненные впалые глаза.
– Так это я поранился. Нечаянно. Ерунда, – я стал рассматривать пропитавшиеся красным бинты.
– Давайте, я обработаю вашу рану?
– Так я уже сам… это самое, обработал. Так что спасибо вам, голубушка, не стоит.
– Рану нужно хорошо обработать, а то она загноится и случится у вас заражение крови! – она сделала шаг ко мне, а я от неё. – А в нашем доме без вас станет совсем скучно, так что допустить этого невозможно.
– Вы, любезная Александра, излишне беспокоитесь…
– А что это там у вас? – она смотрела на сверток полотенца в моей руке.
– Ничего! – слишком скоро ответил я и спрятал сверток за спину.
Только бы он не запел прямо сейчас.
– А что это вы не спите так поздно, Александра? – я сразу перевел тему.
– Так уже не поздно, родненький, а рано. Я только встала на работу собираться, а тут слышу, в коридоре кто-то разговаривает. Дай, думаю, посмотрю, чего там такого важного происходит. Вы же знаете, какая я бываю любопытная. А тут вы, весь в крови стоите, да и по казенному телефону так бурно что-то рассказываете. Правда, не уловила о чем речь шла. Хотя это было бы неприлично с моей стороны… Может, вы вызывали врачевателя? Галина Александровна непременно потребует с вас плату за телефонный разговор.
– Да… то есть, нет! Мне не нужен врачеватель, всё в полнейшем порядке. А ведь и правда, уже утро зачинается, а я не спал ещё! Так значит, хорошего вам дня, Александра!
Я незаметно переложил полотенце из руки в руку и проскользнул мимо Шуры в свою комнату.
– И не пейте сегодня больше рому. Алкоголь расширяет ваши сосуды, и рана дольше будет заживать, – посоветовала она вслед.
На день (а точнее был уже глубокий вечер) третий или четвертый после описанных событий мы сидели на кухне за маленьким, когда-то крашенным, деревянным столом и на шатающихся табуретках при свете той же керосинки и ещё пары свечей. Играла пластинка (а точнее музыка была записана на рентгеновском снимке чьих-то лёгких с признаками пневмонии) с чем-то запрещённым. Мы пили «Зубровку», а из закуски были только консервы кильки и сайры, банка корнишонов и хлеб, правда Шура пыталась собрать из них маленькие бутерброды. Она приоткрыла косую форточку на одном шарнире, потому что в комнате было густо надымленно.
Это моё существо резво со всех ног пробежало по столу, обойдя все консервные банки, съев по пути пару хлебных крошек, и запрыгнуло на подставленный палец Луки Моисеевича. Лука Моисеевич ловко взял его ногтями и поднес к полуслепым голубым глазам.
Лука Моисеевич недавно вернулся из сибирских рудников, где-то под Норильском, на которых страдал двенадцать лет, а четверть от этого срока в ледяном узком карцере, где невозможно сесть, потому что упираешься коленями в намерзшую дверь, и невозможно выпрямиться во весь рост, потому что упираешься затылком в потолок. Он умел сделать нож из обломка ручной пилы, умел спрятать контрабанду так, что ни один шухер не найдёт, хоть и со специально обученными овчарками с Кавказа. Из всего их литературного кружка выжили двое: он и тот единственный, который раскололся. Лука Моисеевич был не так стар, хотя возраста солидного, скорее просто выглядел, как человек подорванного здоровья. Серый клетчатый пиджак смотрелся на нем больше положенного на пару размеров. Он-то и принёс эту очаровательную пластинку-рентгеновский снимок для моего граммофона.
– Какой славненький! – не переставала восторгаться Шура. – Ну, сама прелесть!
Она перегнулась через плечо Луки Моисеевича, чтобы ближе рассмотреть. Её сиреневые и его белоснежные седые волосы были одинаковой длинны. За весь вечер Шура всего лишь едва пригубила водки и совсем ничего не съела, хотя скурила пару папирос.
Лука Моисеевич оставил восторги Шуры без внимания, но обратился ко мне, продолжая неотрывно разглядывать моё существо:
– И вы сами его извлекли, мой добрый друг?
– Угу, – я кивнул пьяной повисшей головой.
Ангелика так и не пришла посмотреть на него, и я напился так, что языком еле ворочал.
– Прямо из-под ребер?
– Да, – в доказательство я чуть приподнял рубаху и показал ещё кровоточащие бинты.
Рулона бинтов мне хватило ещё на две перевязки, потом бинт закончился.
– Какой ужас! – ахнула Шура и сложила руки на груди.
– Стало быть, мой друг, вы самостоятельно сделали надрез, – продолжал допытывать Лука Моисеевич. – Сделали надрез, затем чем-то раздвинули ребра… полагаю, ранорасширителем Госса, извлекли его пинцетом, и сами же зашили рану? При этом не получили ни заражения, ни воспаления? Поразительно…
– Нет, Лука Моисеевич, – покачал головой я. – Не пинцетом, пинцета у меня не было. Пальцами. А заражения не получил, потому как обильно поливал рану санкционным ромом.
– А какую обезболивающую мазь пользовали?
Я показал бровями, что не додумался до этого.
– О! – Лука Моисеевич с уважением и нежностью посмотрел на меня. – Что ж, друг мой, я могу только поздравить вас, могу только бесконечно восхищаться вами! Вы сотворили вещь, безусловно, выдающуюся и достойную внимания. Это действительно хорошее начало.
И он отпустил существо на стол, а оно тут же прибежало ко мне. Я подхватил его на ладонь и стал разглядывать так же внимательно, как это только что делал Лука Моисеевич, будто никогда его ранее не видел. Шура перешла ко мне, и она наклонилась гораздо ближе, чем ранее к Луке Моисеевичу.
– Полагаю, членистоногие?
– Верно полагаете, дорогой друг, – улыбнулся Лука Моисеевич.
– Похоже на класс высших раков, – я потрогал панцирь.
– Похоже, – продолжил улыбаться. – Вы проницательны, очень проницательны.
– Никак не могу определить пол. Нет никаких признаков.
– Бесполое?
– Похоже, что бесполое.
– Да это и не столь важно.
– Но как объяснить эту мордочку? Ведь это совершенно точно примат, скорее всего, даже гоминид. Мы даже можем рассмотреть характерные резцы, если приглядимся. А ещё эта его способность издавать чудесную мелодию, которую любезная Саша заставила его исполнять сегодня не менее ста раз. Как всё это можно объяснить, Лука Моисеевич?
– А кому вы, позвольте спросить, дорогой друг, собрались это объяснять? – Лука Моисеевич пристально посмотрел мне в глаза. – Вы ведь не объясняете шутку или весёлый анекдот, когда расскажете его? Пусть даже никто не посмеётся.
– Фацеция.
Яков разливал нам ещё «Зубровки», зажав зубами терпкую папиросу. Яков был двухметровым верзилой моего возраста. Сибирских руд он ещё не копал, но делал всё, чтобы там оказаться. Он высоко закатал рукава своего пиджака, чтобы случайно не влезть ими в консервы.
– Фацеция, – повторил Яков.
– Почтительный Яков, от того, что вы несколько раз повторите слово, смысла в нём не прибавится, – напомнил я.
– Фацеция – это небольшой юмористический рассказ или, если угодно, анекдот, – терпеливо объяснил Лука Моисеевич.
– Ну, вот! А вы не могли ему имя придумать, – засмеялась Шура. – Фацеция! По-моему, красиво звучит.
Лука Моисеевич пожал плечами, Яков коротко кивнул.
– Пусть будет Фацеция, если вам нравится, Шурочка.
Застолье сильно оживилось. Расспросы про Фацецию чередовались с поучительными историями о лагерной жизни Луки Моисеевича и захватывающими байками об уличных акциях Якова, а так же с рассказами о работе Шуры.
– Такого и было размера? – спросил Лука Моисеевич.
– Пожалуй, подрос на сантиметр или два.
– Как себя ведёт, чем питается?
– Может, он мелодию издаёт, как сверчок? Трением ноги о подкрылок?
– Яков, ну прекратите, налейте лучше нам ещё. И ну куда вы рукавом в консервы!
– Пардоньте, пардоньте!
За бурным долгим разговором мы выпили и закусили, потом перекурили, а потом ещё выпили, а потом ещё.
– И долго она так может? – Лука Моисеевич обернулся на входную дверь.
– Всю ночь! – хором ответили я и Шура.
Всё это время Галина Александровна стучала в двери пятками и причитала благим матом. Собственно, чтобы заглушить её, мы и поставили пластинку-рентгеновский снимок.
– Товарищ Щелкопёр! Товарищ Щелкопёр! Я как пока ещё владелица этой комнаты приказываю вам выпроводить своих странных дружков на улицу немедленно! Сейчас же! Это неблагонадёжные люди! Наверняка какие-то жулики и проходимцы! Пусть уходят из моего дома! И прекратите шуметь, уже ночь и все приличные люди спят!
– Вот и вы с богом ступайте спать, любезная Галина Александровна!
– Товарищ Щелкопёр! Выключите немедленно свою бесовскую музыку! Слов я разобрать не могу, но уверена, что эта музыка неблаготворно действует на всех вокруг! Я буду вызывать полицию! Вот прямо сейчас и позвоню! Кстати, товарищ Щелкопёр, вы должны мне плату за ночные переговоры по данному телефонному аппарату! И плату за комнату за прошлый месяц так же! Вы ещё и эту наивную дурочку в плен себе взяли? Да впрочем, она и сама хороша, крашенная идиотка, таскается за вами всюду! Да впустите меня уже! Это моя жилплощадь!
Шура показала в сторону двери самый неприличный жест из тех немногих, которые знала.
– Хороший вы, Яков, внутренний замок придумали, надёжный, – похвалил Лука Моисеевич друга, с достоинством пережевывая бутерброд и глядя, как старуха пытается открыть дверь.
Яков благодарно кивнул. Он вставил ножку табуретки между стеной и дверной ручкой, чтобы дверь никак не можно было открыть.
– Ну, так что, – Лука Моисеевич внезапно и серьезно обратился ко мне с пристальным взглядом. – Когда понесёте на площадь свою тварь? Тварь в хорошем смысле, от слова «творение».
– Ох, Лука Моисеевич, – я даже отодвинулся от него. – Стоит ли?
– Стоит! – сухо и уверенно пробасил Яков, прожевывая корку хлеба.
– Конечно, стоит, ну что вы! – вторила ему Шура.
Лука Моисеевич наклонился ближе ко мне, так что прядь его седых волос упала на старое лицо, и пронзительно почти прошептал:
– Стоит, мой дорогой друг. Пренепременно стоит. Иначе я, и тысячи таких же, как я, зря хоронились в тех шахтах на северах. Зачем же тогда Яков на улицы ходит? Стоит ради наших детей и их детей. Ради наших женщин. Ради свободы, ах, если бы вы знали, как сладка свобода, вы бы не сомневались! Даже там, под Норильском в оковах на ногах я был свободен, как никогда прежде и никогда после. Поймите же, мой друг, если мы замолчим, мы проиграем. В ту же секунду, в тот же миг, – Лука Моисеевич теперь шептал так тихо, что порой просто шевелил губами. – Мы должны петь свою музыку. Стоит, мой дорогой. Иначе они победят. Они так боятся, они так слабы! Они только кажутся несокрушимыми, друг. А знаете, я вам кое-что покажу сейчас. Если уж я… Если уж я делаю это, то вы просто обязаны!
И тут Лука Моисеевич тайком достал из глубины кармана своего пиджака нечто, что показал только мне. Благо, что Шура с Яковом были заняты своей беседой.
– Похоже, это мой последний…
В кулаке старика мирно и спокойно чистил густую шерстку премилый зверёк размером с монету. Я сначала подумал, что это джунгарик – джунгарский хомяк серого цвета, но у него был слишком вытянутый нос, как у землеройки. И я смотрел на него, как завороженный, это было так трогательно, что мои глаза намокали, а когда я сумел оторвать взгляд от зверька и поднять его на Луку Моисеевича, то не смог передать всего восхищения.
– Он… он великолепен, Лука Моисеевич!
– Ох, знали бы вы, мой дражайший друг, откуда его пришлось извлечь! – Лука Моисеевич засмеялся. – Прямо оттуда, да! Хулиган прятался под большой ягодичной мышцей, между малой и грушевидной, понимаете? Примерно половину моего срока там ждал! Спасибо Якову, который любезно согласился помочь мне извлечь его по возвращению!
Лука Моисеевич быстро спрятал зверька обратно.
– Ваш первый, а у меня последний, – Лука Моисеевич подмигнул.
– Может, и не последний? – с надеждой спросил я.
– Нет, мой друг, последний. Сердцем чувствую.
Я был одновременно так восхищен и рад за Луку Моисеевича, особенно когда увидел, как он счастлив, глядя на своего джунгарика-землеройку. Но вместе с тем мне стало тоскливо и обидно от того, что мой больше походил на мокрицу и был не так красив. И было печально, что, быть может, у меня никогда такого прекрасного и не будет. Впрочем, у меня и такого колоссального опыта, как у Луки Моисеевича, не было. Я отгонял от себя эти мысли, если и завидую Луке Моисеевичу, то только по-хорошему, он заслуживал того, что имеет, даже большего. Старик заслужил своего прекрасного зверька.
Мы пили, курили и ели до самого утра, а потом гости стали расходиться, по очереди попрощавшись с Фацецией, которая проводила каждого грустной песенкой и таким же взглядом.
– Лука Моисеевич, ваша пластинка, – напомнил я.
– О, нет, мой друг, это вам подарок от меня за гостеприимство. Только храните её пожалуйста где-нибудь… хм, ну не на самом видном месте, понимаете?
– Ой, Галина Александровна, доброго вам утречка, а мы и не слышали, что вы здесь! – Яков будучи вдвое больше неё быстро протиснулся к выходу.
Шура немного задержалась у выхода, ковыряя ногтем краску на дверном косяке. Я поцеловал её в щёку и за всё поблагодарил. Фацеция перебежала с моей руки на её руку и обратно.
Город Хворостовский вечно был затянут густым смогом настолько, что порой на зубах скрипело песком, а местные жители почти никогда не видели голубого неба и белого снега, ведь солнце являлось только изредка и только в виде бледного размытого пятна. Так получалось из-за большого обилия заводов и фабрик в окрестностях, которые постоянно дымили долговязыми трубами. На заводах производили алюминий и германий, которые продавались в другие страны. А дым никогда не рассеивался из-за особого положения Хворостовского: ветер просто не задувал сюда. И ничего бы страшного, если бы народ поголовно не помирал бы от болезней сердца или грудной болезни, а перед этим обстоятельно пострадав от какой-нибудь астмы.
Большинство жителей, кстати, работали на этих заводах, они шли на завод, когда ещё было темно, и возвращались с завода, когда уже было темно. Волочили свои горбы в основном пешком, мало кого можно было встретить на гужевой повозке или верхом на лошади, хотя по косым рельсам нет-нет да и пробегал с грохотом старинный, рыжий, как таракан, трамвайчик. Брусчатка на дорогах была совершенно разбита, кособокая, а стоило пройти дождику, так дороги превращались в русла бурных рек, потому что ни одна ливнёвка не работала. Свинцовые пятиэтажки со стихийными свалками в углу двора были непонятно расставлены, как на дурака, как брошенные игральные кости.
Днём же все те, кто не работал, или те, кого отчислили из университета, словом, всякий сброд, бездельники, бродяги и жулики шли на Театральную площадь. Тут можно было продать какой-нибудь ненужный хлам: книги, саженец герани или ещё слепых котят, что принесла кошка. А то и прикупить чего подешевле. Вот хоть бы тот фермер, который приехал из соседней деревни, вывалил на прилавок бледную свиную тушу, которую тут же облепили жирные мухи, потому что мясо было ещё тёплым. Деревня всегда жила сытнее городов. Или вон промерзшая старушка выкатила свои мутные соленья в трехлитровых банках. Можно сказать, ярмарка! К слову, на Театральной площади имеется возможность купить и то, чего нет в обычном магазине: музыкальные пластинки, заграничный алкоголь, табак, неблагопристойные картинки; главное знать, у кого спросить. Здесь у вас не грех вытащить кошелек из кармана, если зазеваешься. Это и за грех не считается – сам виноват. Так же тут дозволяется просто поглазеть на других людей, услышать последние городские сплетни, а по большим праздникам на большой сцене устраивают концерты с песнями и плясками.
Вот и я натянул поглубже вязаную шапку, поднял повыше воротник старинного пальто и, топча свежевыпавший мокрый снег изношенными ботинками, пришел на площадь. Шнурок на одном из башмаков совсем стёрся, и каждый раз завязывая его, я боялся порвать. За пазухой согревал своим телом Фацецию, завернутую в тряпочку. Выбрал себе скамеечку с краю, смахнул рукавом с неё снег, расстелил у ног картонку и пустил на неё Фацецию. Сам закурил, растирая руки на морозе. Я никогда не делал этого и плохо представлял себе, что от меня требуется. Мне кое-что рассказывал Лука Моисеевич, но с тех пор многое поменялось. И Фацеция, видимо, замерзла, снег ей не пришелся по вкусу, поэтому она спрятала лапки и голову под свой панцирь. Я даже стал тревожиться о том, чтобы не простудить её.
– Что это? – первым подошел и спросил мальчик-бездомник.
Ему было лет шесть, на нём была худая курточка и кепка-восьмиклинка, а щёки размалеваны в саже.
– Дай полрубля? – попросил он, не дожидаясь ответа.
– У самого нет, – честно ответил я.
– Тогда докурить дай, – настаивал беспризорник, сплюнув себе под ноги сквозь зубы.
– Тебе лет-то сколько, можно ли уже курить?
– Молода лошадь, да норов стар, – снова сплюнул он.
– Иди отсюда, кусочник!
Мальчик отбежал подальше и уже оттуда стал осыпать меня кабацкой бранью.
Затем мимо прошла компания дворовых девок в ярких юбках и рваных чулках под ними, которых, конечно, увидеть было нельзя; они покосились на мою Фацецию: кто-то поморщился, кто-то посмеялся.
– Что это у тебя? – остановилась одна из них, у которой были большие голубые глаза. – Химера какая-то!
– Фацеция, – пожал плечами я и улыбнулся даме.
– Фацеция? Хороша б была для супа специя! – срифмовала другая девка с пухлыми губами и закатилась смехом, довольная своим острословием. – Пойдём лучше с нами? Покажу такого, прелестник, чего ещё не видел! Если есть пятак, конечно.
– Нет пятака, а так бы пошел, непременно!
На том и простился с девками.
– Продаешь?
Это был спекулянт, он такой высокий, что шапка валится, и кривой, как турецкая сабля, с грязными длинными патлами, шрамами на лице и большими желтыми зубами, которыми чавкал табак.
– Не знаю, – я посмотрел на Фацецию, она так и лежала, сжавшись в панцирь. – А сколько дашь?
Спекулянт тоже посмотрел на картонку, продолжая жевать.
– Два рубля дам.
Цену, которую называют спекулянты, смело можно умножать на пятьдесят, а то и на сто.
– На два рубля даже сигарет не куплю.
Спекулянт ещё раз посмотрел на Фацецию, а потом на меня.
– Ну три. Нет? Ну и сиди. Потом сам за целковый принесешь, – сказал он и ушел.
– Гадость какая! – иная старуха в чёрном ватнике и валенках остановилась прямо напротив меня и уставилась на мою Фацецию. – Гадость! Порождение самого не к ночи будь помянут!
Она даже замахнулась была своей клюкой, но я вовремя подхватил свою Фацецию на руки.
– Ну, так ступайте дальше, не смотрите.
Но старуха продолжала:
– Гадость! И лапами так мерзко шевелит. Страшная какая! Прусак какой-то!
– Иди куда шла, старая! – заступился за меня прохожий старик. – А вы, молодой человек, не слушайте её, она ничего не понимает. Дозвольте рассмотреть? Я ведь, с позволения сказать, любитель…
И старик поправил очки на носу и наклонился ближе к моим рукам.
– О! А это у вас чудесная работа, – посмотрел он на меня. – Прекрасная. Такое теперь редко увидишь! Сами или купили?
– Сам.
– Ого! В вас искра божья, без сомнения. А всяких больных душою не слушайте, не обращайте на них ровным счетом никакого внимания. Их так много стало в городе в последние годы… Эх!
– Спасибо, – растеряно пробормотал я. – Не купите?
– За что мне? – старик засмеялся. – Мне б на хлебец сегодня насобирать.
Словом, люди проходили мимо, останавливались, спрашивали, смотрели.
Один бывший студент бросил взор надменно и сказал, что видел таких уйму, когда бывал за границей, что в этом существе нет ничего удивительного.
– Тоже мне невидаль! – заключил он и пошел дальше.
– Иди-иди, кутила, – не выдержал я и крикнул ему вслед. – Пока не напоролся на мешок с кулаками.
Чудно, но противный вид Фацеции не отталкивал девушек, даже напротив, они подходили чаще других, просили погладить или поиграться с ней, просили взять на руки. А Фацеция благодарила их своими красивыми грустными песнями.
Так я ходил на площадь целую неделю, пока в субботний день со мной не случилось одного весьма и весьма неприятного обстоятельства.
Я как раз развлекал девок-курсисток, заставляя Фацецию петь для них раз за разом. Было морозно этим декабрьским днем, поэтому все сгрудились около меня, согреваясь дыханием, я курил одной рукой и громко фанфаронил на всю Театральную. Фацеция так же была рада услужить дамам. Внезапно здоровенная рука схватила меня за шкирман.
– Ага! – услышал я бас за спиной.
Все быстро разбежались, а я мигом сунул Фацецию в карман. Меня повернули, и я увидел перед собой большой серый зимний бушлат с лычками на погонах. Тут же вспомнились все наставления Луки Моисеевича на данный случай.
– Попался?
– Чего? – растерялся я.
– А, ничего! Попался, говорю! – сержант двигал квадратной челюстью.
Тут я вспомнил о вежливости, которая часто меня спасала.
– Я весьма извиняюсь, господин городовой. Очевидно, случилось некоторое непонимание? Но я спокоен, ведь вы, как доблестный блюститель порядка, легко в этом разберетесь! Не напрасно же мы со своих скромных налоги платим, правда? Позвольте представиться: товарищ Щелкопёр. У меня и документики соответствующие все в наличии, – я полез во внутренний карман своего пальто. – Должен сразу вам заявить, что гражданин я законопослушный, вышел вот на променаж, свежим воздухом подышать, так сказать-с.
– В отделении разберёмся! – городовой толкнул меня впереди себя.
Лука Моисеевич постоянно говорил, что проще всего договориться с городовым, чем с его начальником. Но у меня не было ни копейки, чтобы мочь договориться.
– Но позвольте же, господин полицейский, – пытался я сказать, впрочем, продолжая идти. – Ежели мы с вами отправляемся в полицейское отделение, стало быть, я задержан? Тогда позвольте узнать хотя бы за что? Ведь в своем поведении я не заметил никакого правонарушения! Но даже если и есть за мной какое-то прегрешение и вина, то я готов исправиться на месте. Разве вам мало работы с настоящими жуликами и ворами? Что же вы хватаете приличных и благопристойных людей? Тратите своё и наше время! Да постойте же вы! В конце концов, я прошу вас представиться, как положено, предъявить соответствующие документы в развернутом виде и значок с личным номером, а так же уведомить меня о моих правах, как того требует правило Миранды!
Городовой даже остановился и сдвинул свою шапку-ушанку на затылок. У него была короткая стрижка с ранними глубокими залысинами.
– Ты что, умный самый?
– А вы хотите, чтобы я был глупым? – не сдержался я.
Городовой снова схватил меня и толкнул силой, так что я рухнул на четвереньки посреди площади. Заживавший шёв снова заболел и, кажется, закровил. Я испачкал и намочил о снег колени, и мне стало так стыдно, будто меня побили не на глазах всей городской площади, а на глазах любимой дамы. Я выругался про себя, встал и пошел, куда велели, не говоря больше ни слова.
До охранки мы шли пешком и довольно далеко. По дороге я подумал, а не выбросить ли мне незаметно Фацецию в сугроб. Это, кстати, был тоже совет Луки Моисеевича. Он так и говорил: «Как заметишь фараонов, первым делом скидывай своё чёртово мнение, а потом сразу беги». Но сам он так не поступил, и я не стал. Не стал, не потому что шел впереди господина полицейского, и он бы непременно это заметил. Не стал, потому что не мог бы проститься со своей Фацецией вот так.
Мы вошли с городовым в ближайшее отделение полиции. Везде были решетки: на окнах и на дверях. Пол был натоптан грязью. В узком желтом коридоре стояли узкие лавочки вдоль стен.
– Тут ожидай, – подтолкнул меня городовой к свободному месту.
Свободное место оказалось между бритым щербатым парнишкой в ярко-оранжевой кофте с капюшоном и девушкой. Девушка была весьма странного вида: одета во всё черное, а лицо ей обильно осыпано белилами, но помада очень тёмная, а волосы её туго заплетены в косу на затылке.
Городовой тут же в коридоре снял бушлат и шапку. Я с удивлением обнаружил, что казавшийся громадным в куртке городовой, предстал теперь совершенно хилым и тщедушным, с узкими плечами и круглым животиком, будто страдал рахитом с детства. Небось, я смог бы удрать от него, если бы вырвался там, на площади. Городовой зашел в какой-то кабинет, и пока дверь не закрылась, я услышал только:
– Разрешите доложить?
– Докладай.
Городовой пропал за дверью на четверть часа.
– Ну, а вы любезный тут чего? – решил я убить время, обратившись к щербатому парню в оранжевой кофте.
Ох уж эти случайные собеседники. Я отнюдь не был болтуном, но неловкое молчание не давало мне покоя.
– Да я просто пел, – он виновато улыбнулся и схватился за голову.
– Если хотите знать, это вопиющая ошибочность. В музыке нет ничего противоправного. Меня вот тоже, знаете ли, без вины виноватым сделали.
– Так тут все ни душой, ни телом не виноваты, – снова улыбнулся парень.
– Надеюсь, сейчас вышестоящее начальство во всём разберется.
– Ага, разберётся. Догонит и ещё раз разберётся.
Девушка с белилами на лице была настолько мрачная и нелюдимая, что с ней я беседу завязать не решился, хотя она и виделась мне привлекательной.
Возле нас остановились два больших генерала. В звёздах я не разбирался, но понял об их высоком начальстве по их толстоте. Один совсем, как шар, поперек себя шире. Ему было очень тяжело так ходить, ещё и с застегнутой на все пуговицы белоснежной рубашкой, поэтому он краснел и постоянно вытирал пот платком.
– И вот понимаешь, бес меня попутал, соблазнился я! – жаловался шар тому, кто был поменьше. – А как не соблазниться? Молода, стройна… зад у неё такой, будто сам господь лепил, прости боже, ноги от самых от ушей. Понимаешь? Как не соблазниться? Ну и жонка моя, благоверная, Любава разнюхала обо всём, об залётке моей, о Настюше. Или донёс кто? Мало ли, может, и по службе кому дорожку перешёл. Разнюхала, значит, вещи мои собрала, и гонит теперь прочь, понимаешь? А как мне без дому теперь? Я без жинкиного борщеца не могу. Она такой борщ варит! Краснющий! Да со сметаной жирнющей!
Шаровидный генерал вытер пот платком, и они пошли дальше по коридору.
Вышел городовой с несколько напряженным взглядом. Казалось, он изо всех сил старался не забыть всё сразу.
– Так-с, – начал он. – Ты, Дима, проваливай отсюда. За тебя звоночек был. Чего сидишь, убирайся пока я не передумал, именем дохлой собаки, убирайся!
Щербатый парень в оранжевой куртке встал и медленно направился к выходу, сильно сутулясь.
– Кого благодарить-то? – спросил он у порога.
– От Оксаны звоночек был. Так-с, – ткнул городовой пальцем в девушку с белилами на лице. – Ты сиди пока, с тобой не ясно. А ты, – он посмотрел на меня. – Сюда ходи!
Городовой протолкнул меня в кабинет, а сам остался в коридоре. Теперь его толчок не казался мне сильным.
За дубовым наканифоленным столом восседал начальник, но, видимо, не такой большой начальник, как шар из коридора, потому что был толстым, но не таким толстым. На столе была табличка: «Начальник РОСПИСМУЗРИСНАДЗОРа Ю.С. Кнур». Я снял вязанную шапку.
– Представься, мразь! – начал начальник Кнур.
Я как-то сразу приуныл и стал теребить шапку пальцами, неожиданно обнаружив в ней дырку.
– Товарищ Щелкопёр.
– Так-с, Щелкопёр, – начальник Кнур повернулся на стуле и стал перебирать толстые серые сшитые папки. – Знаем-знаем, где-то тут, на «Щ». Ну и фамилия, прости господи. А, вот!
Начальник Кнур взял одну из папок, весьма лёгкую, по сравнению с другими, и положил на стол перед собой.
– Так-с, что мы имеем? Тунеядец, – начальник Кнур листал страницы. – Алкоголик и дебошир. Заимщик и злостный неплательщик. Тут и докладная имеется от Галины Александровны. Вы почто любезную старушку обижаете, она же святая женщина, я её давным-давно знаю! – начальник Кнур посмотрел на меня маленькими, но злыми глазами.
– Никак не можно обижать её! У Галины Александровны комнату арендую, она всегда была добра ко мне, а я благодарен.
– Вот именно! Она к вам со все душой, приютила, дала крышу над головой, а вы что?
– А я что?
– А вы телефоном казенным пользуетесь, а не платите! У вас уже долг накопился на десять рублей! И просрочка за квартплату на неделю. Когда платить будем, товарищ Щелкопёр?
– Так я заплачу! Коли дело в этом, так непременно заплачу, сегодня же! Обязуюсь, господин Кнур!
Обещать – не кули ворочать. Денег-то у меня не было ни копейки за душой.
– Голова болеть будет.
– Что, простите?
– Голова, говорю, болеть будет, – кивнул начальник Кнур на мою шапку.
Я только теперь заметил, что крутил её в руках, а это верная примета к гемикронии.
– Виноват, господин Кнур.
– Так, что тут дальше? Водитесь с неблагонадежными лицами… о, тут и старый добрый Лука Моисеевич, и Яков – эта большая заноза в моей з… в моей земной жизни. Слушаете всякую запрещёнку! Музыка на костях? Так тут на вас уже компромата хватит, чтобы отправить вас этак лет на десять куда-нибудь на Колыму. Как вы к рудникам относитесь? Никель добывать не желаете?
– Отношение к рудникам имею сугубо негативное и резко отрицательное. К Колыме так же, родни там не имею.
– Вот и я о чём! Что вы творите, товарищ Кнур? Я к вам по-человечески, а вы? И это в такое нелёгкое для страны время, когда мы в едином порыве противостоим всему остальному загнивающему миру? Мужественно ведём войну, одерживая победу за победой…
– Прошу прощения, господи Кнур, я видимо не прочитал сегодня утрешних газет, а скажите, с кем мы воюем?
– Молчать! Молчать! Вам мало этого, так вы решили ещё и на главной городской площади своё вылюдье показывать? Стариков и детей пугать и нервировать? Порядочных граждан?
– Чего показывать, простите? Слово незнакомое. Как это понять?
– Молчать! Сопляк ещё, со мной так разговаривать! Вы дурачком-то не прикидывайтесь, товарищ Щелкопёр! Вылюдье ваше, скидыш и теперь в кармане? Заугольник-то ваш?
– Скидыш?
– Так, Щелкопёр, будем проводить досмотр. Выкладывайте живо на стол всё, что в карманах имеете.
– Разве не положено при понятых-с?
– На «положено» знаете, что положено?
Я нехотя и медленно вывернул карманы. В общем-то, добра у меня немного было: смятая пачка дешевых папирос, коробок спичек, грязный носовой платок и, наконец, я выпустил на крышку стола свою Фацецию. Фацеция покрутила по сторонам своей мордой, но почувствовав неладное, пискнула и скрылась в панцире.
– Господи всевышний, множество я видел ублюдков, но такого заугольника ещё не встречал!
Начальник Кнур взял карандаш и потыкал им в Фацецию.
– Сбыть пытались?
– Нет, – честно сказал я.
– Просто демонстрировали?
– Показывал, если кто просил.
– Ну, вы и мерзавец, Щелкопёр! А если б дети увидели?
– Да что же тут такого, я право не понимаю?
– Плохо, что не понимаете! При Пукине вас бы за такое сразу бы под белы рученьки!
– Уж, позвольте, господин Кнур! При Пукине вас бы самого под белы рученьки да уже за то, что вы, как начальник РОСПИСМУЗРИСНАДЗОРа в славном городе Хворостовском допустили, как вы выразились, демонстрацию вылюдья и скидышей! Хоть я и не считаю это чем-то ужасным, это ж просто букашка…
– Букашка? Вы бы хотели, чтобы вашим детям на площади показывали такую букашку? Да если бы ты, Щелкопёр, моему сыну хоть близко свою гадость показал, да я бы тебя прям на месте… – начальник Кнур даже привстал за столом. – Да тебя бы людям на самосуд, они тебя живьем на куски разорвут!
Вот с жестокостью самосуда я спорить не стал. Совершенно поник и не понимал, чем моя Фацеция так опасна окружающим. Я попытался взять её обратно в руки.
– Цыц! – начальник Кнур ударил кулаком по столу. – Не трогать! Изымаю! Запрещаю! Значит, так. Я сейчас же немедля иду за синей печатью и протоколом, и будем тебя, подлец, оформлять! Ты у меня сгниешь в сибирских рудах! А пока я хожу, ты стой здесь и не рыпайся, иначе поколочу! Голову оторву и скажу, что так оно и было!
Начальник Кнур с трудом вышел из-за стола, безуспешно втягивая живот, и удалился из кабинета, оставив дверь чуть приоткрытой. А я стоял, вжав голову в плечи, не смея шелохнуться и не смея даже тронуть свою Фацецию. Я понимал, что дело швах, и представлял уже себя в валенках с киркой или тележкой где-то далеко на севере, в холодном бараке с одной единственной на всех печкой-буржуйкой. А может быть и в карцере, в том самом, где бывал Лука Моисеевич, вот только у меня не было уверенности, что я перенесу это всё достойно, как он.