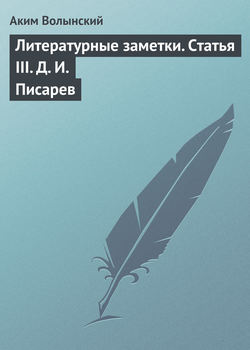Читать книгу Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев - Аким Волынский - Страница 1
I
ОглавлениеПервый период своей литературной деятельности Писарев завершил тремя большими статьями, напечатанными в «Русском Слове» 1862 года: «Московские мыслители», «Русский Дон-Кихот» и «Бедная русская мысль». В «Московских мыслителях» Писарев подробно обозревает критический отдел «Русского Вестника» за 1861 год. Полемизируя с Катковым, он по пути обстреливает ядовитыми замечаниями Я. Грота, Лонгинова, торжественно отрекается от всякого спора с Юркевичем и не без апломба выставляет свое полное разногласие во всех литературных и общественных вопросах с солидными убеждениями ученой редакции «Русского Вестника». Сознавая себя деятельным поборником либерального принципа, ясного и понятного для всякого беспристрастного ума и без помощи широких научных или философских доказательств, Писарев с юмористическою усмешкою проводит параллель между публицистическими претензиями московского журнала и бойкими, быстрыми приемами радикального «Русского Слова», приемами, рассчитанными на чуткость передовых читателей к блестящим парадоксам и афоризмам, ко всякой ярко и пылко выраженной мысли. «Мы фантазеры, верхогляды, говоруны», восклицает Писарев с оттенком явной иронии над своими учеными противниками. «Мы, грешные, вязнем в тине и барахтаемся среди всяких нечистот, а Русский Вестник идет себе ровною дорогою и неспешною поступью пробирается к храму славы и бессмертия». Собираясь дать отчет о некоторых выдающихся статьях этого журнала, Писарев и не думает вооружаться против них серьезными аргументами. К чему возражать? Для кого возражать? Если его читатели не сочувствуют тем идеям, которые он выражал в прежних своих работах, они не пойдут с ним по одной дороге и в настоящем случае. При различии в мировоззрениях и радикально несходных взглядах на задачу русской журналистики, между ними не может оказаться ничего общего в понимании литературной деятельности Каткова. Если же читатели сочувствуют ему, то совершенно достаточно верно передать содержание, общий смысл важнейших, руководящих статей московского журнала, чтобы отчетливо выразить известное к ним отношение. Проницательные люди поймут, в чем дело.
Это – одна из самых слабых статей Писарева. Присутствуя при первых решительных схватках Каткова с «Современником», показавших силы враждующих сторон в их настоящем объеме. Писарев не сумел вмешаться в эту важную борьбу каким-нибудь значительным, серьезным заявлением, смелою и новою мыслью, увеличивающею шансы успеха на его стороне. Полемический поход Каткова на петербургских журналистов радикального лагеря был уже в полном разгаре, когда Писарев отдавал в печать свою пространную статью о «Русском Вестнике». В течение двенадцати месяцев обе партии успели обменяться самыми решительными возражениями, и разрыв «Русского Вестника» с либеральным движением общества обозначился с полною очевидностью. Удары Каткова в известную сторону сыпались беспрерывно, обнаруживая неистощимую энергию, движение страстей и сил к определенной, твердо намеченной цели. Пользуясь каждою оплошностью противника и превосходя его размерами литературного таланта, Катков все сильнее и сильнее набрасывался на главных коноводов либеральной партии, то уличая их в грубом философском невежестве, то со смехом обнаруживая все жалкое ничтожество их полемических придирок и громких, пышных фраз без серьезного, внутреннего содержания. Мы уже следили за всеми моментами этой кипучей, яркой борьбы между двумя видными журналами, борьбы, затеянной Катковым и доведенной им до конца с известным успехом. Несмотря на весь свой мятежный задор, Чернышевский не только не сразил своего храброго и искусного соперника, но, схватившись с ним на опасной для него почве философских рассуждений, сделал несколько явных промахов, осмеянных Катковым со всею яростью беспощадного полемиста. Ответы Чернышевского, показавшиеся молодому Писареву образцом литературной полемики, обнаружили только слабую сторону «Современника». О победе Чернышевского над Юркевичем и Катковым не могло быть и речи. Строго научные возражения Юркевича на статью «Современника» требовали объективного разбора, для которого у Чернышевского не хватало соответствующих знаний, уменья тонко разбираться в трудных вопросах метафизического мышления. Борьба с Катковым, проигранная на философской почве и чрезмерно запутанная ненужными излияниями и увертками Чернышевского, не могла окончиться торжеством «Современника» даже в самой ограниченной области. Не сознавая своего бессилия в вопросах философской науки, Чернышевский выступал на защиту примитивно справедливых требований русской жизни с арсеналом таких теоретических аргументов, которых нельзя было отстоять в серьезном споре. Он шел вперед, не сомневаясь в успехе, но шансы победы – решительной, исторической победы над реакционною силою, вставшею на пути прогрессивного движения, уменьшались с каждым днем. Союзники сближались между собою, но, обессиленные в корне фальшивым философским учением, не прибавляли новых элементов для победы, не давали свежих и светлых доказательств своей правоты перед высшими интересами русского общества…
Верный партизан Чернышевского в вопросах философии и эстетики. Писарев не мог оказать «Современнику» серьезной поддержки в его полемическом раздоре с «Отечественными Записками» и «Русским Вестником». Новых объяснений, по сравнению с доводами Чернышевского, он не давал. По типу, все его возражения, в «Схоластике XIX века», против Дудышкина, Альбертини, Громеки, Бестужева-Рюмина, ничем не отличались от жестокой расправы Чернышевского с неожиданными защитниками Юркевича на страницах умеренно либерального журнала. Все его доводы в пользу материализма, выраженные с необузданным задором, эти смелые скачки через бездны научных затруднений, от сложных теорем философии к вопросам и событиям текущей жизни, каждое частное рассуждение, отдельные афоризмы и замечания – все обнаруживало непобедимое влияние Чернышевского, овладевшее всем его существом, его симпатиями и убеждениями. При значительном литературном таланте, Писарев этими своими статьями не мог, конечно, смутить ни сотрудников «Отечественных Записок», ни такого сильного вождя начинавшейся реакции, каким был Катков. Оба журнала – петербургский, с представителями умеренного либерализма во главе, и московский, управляемый опытною рукою блестящего публициста, не могли войти в самостоятельную борьбу с молодым писателем, не показавшим, при видной свежести литературного дарования, при необычайной бойкости и резкости полемического тона, никакой серьезной умственной подготовки в научно-философском направлении. «Схоластика XIX века» произвела большую сенсацию своим эффектным красноречием, задором своих решительных афоризмов, своим смелым заступничеством за Чернышевского, но она не могла поколебать общего положения вещей в журналистике, потому что, несмотря на яркие проблески индивидуализма, не заключала в себе никаких новых теорем по сравнению с главными тезисами «Антропологического принципа» Чернышевского. А статья «Московские мыслители», по стилю и оригинальности содержания, значительно уступала всему, написанному критиком «Русского Слова» в этот период его литературной деятельности.
Под пышным заглавием «Русский Дон-Кихот» Писарев в коротенькой статье пытается набросать исчерпывающую характеристику взглядов и стремлений И. В. Киреевского, одного из самых талантливых представителей славянофильского движения. Вышедшее в 1861 году полное собрание его сочинений, в двух томах, с приложением обширных материалов для биографии Киреевского, собранных А. И. Кошелевым, давало критику «Русского Слова» полную возможность подвергнуть обстоятельному разбору ряд статей литературно-эстетического и философского характера, написанных вдохновенным языком и местами обнаруживающих поразительную глубину оригинального умственного настроения. Широкое образование Киреевского, соединенное с удивительною чистотою нравственного характера, не представляло, конечно, никакого повода для легкомысленного, рецензентского юмора и дилетантского пустословия о посторонних, к делу не относящихся, вопросах. В его рассуждениях о русской литературе, о стихотворениях Языкова, о Грибоедове, о Пушкине, о русских писательницах рассеяно столько великолепных замечаний, заслуживающих полного внимания, что, при серьезном понимании своей задачи, каждому новому критику именно на этих рассуждениях легко было показать и развернуть свое собственное эстетическое мировоззрение, свой взгляд на искусство, свое отношение к важным философским вопросам. В статьях Киреевского под названием: «Девятнадцатый век», «В ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», «О необходимости и возможности новых начал для философии» обрисовалась совершенно определенная точка зрения на важнейшие события европейской жизни, на задачу русской культуры, – обрисовалась целая историческая система, возникшая в уме, богатом смелыми и светлыми мыслями. Для литературного критика, идущего по самостоятельному пути, эти два тома произведений Киреевского представляли драгоценный случай высказаться с надлежащею силою по целому ряду вопросов первостепенной важности. Главным тезисам Киреевского надо было противопоставить свои собственные теоремы, продуманные во всех отношениях, в их ближайших и самых отдаленных выводах, соединенные в стройное философское учение. С полным вниманием надо было рассмотреть каждый из элементов его исторической теории, представляющей самостоятельное, широкое обобщение разнообразных фактов духовного и социального характера, потому что в споре с таким противником, как Киреевский, всякое дешевое глумление над враждебными понятиями, всякое легкомысленное бряцание воинствующими фразами не имело никакого смысла.
Но не рожденный для серьезных споров и всем своим умственным воспитанием совершенно не подготовленный для понимания таких натур, какою был Киреевский, Писарев отнесся к своей задаче с тою же легкостью и бойкостью, какою он обрушивался на разных второстепенных авторов. В «Русском Дон-Кихоте», несмотря на кричащие, победоносные фразы, нет ни одной серьезной мысли, ни одного научного аргумента против ярких доводов Киреевского, ни одного смелого и цельного обобщения, бросающего иной свет на исторические факты, собранные и по своему объясненные лучшим из русских славянофилов. Ограничиваясь мелкими по содержанию, но язвительными по форме замечаниями, Писарев не разбирает серьезно ни одной из статей Киреевского, хотя каждая из них, как мы уже сказали, заслуживала изучения с пристальным вниманием ко всем её литературным и философским особенностям. Богатый биографический материал, представленный Кошелевым, не увлек его своим превосходным психологическим содержанием, несмотря на то, что самое славянофильство показалось Писареву «психологическим явлением, возникшим вследствие неудовлетворенных потребностей» русской жизни. Ничего не доказывая, Писарев ничего серьезно не объясняет своему читателю, и вся его смелая рецензия о важном литературном явлении, при внимательном рассмотрении, должна быть признана набором звонких, но пустых фраз, производящих убогое впечатление, по сравнению с глубокими, оригинальными, местами ошибочными и односторонними, но всегда возвышенными, рассуждениями Киреевского.
Вот какими словами Писарев старается определить значение Киреевского в движении русского просвещения. Друзья и единомышленники Киреевского, пишет он, скажут, что его следует изучать, как мыслителя, что его должно уважать, как двигателя русского самосознания, что принесенная им польза будет оценена последующими поколениями. С подобными мнениями Писарев согласиться не может. По его твердому, но ничем недоказанному убеждению, «Киреевский был плохой мыслитель, он боялся мысли». Киреевский никуда не подвинул русское самосознание, и статьи его никогда не производили серьезного впечатления. Пользы Киреевский, категорически заявляет Писарев, – не принес никакой, и если последующие поколения, по какому-нибудь чуду, запомнят его имя, то они пожалеют только о печальных заблуждениях этого даровитого писателя, хотя Киреевский «был человек очень не глупый и в высшей степени добросовестный». Рассказывая вслед за Кошелевым о заграничных впечатлениях Киреевского, Писарев замечает: «мягкосердечный московский юноша мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогия старушки Белокаменной». Киреевский слушал лекции известнейших профессоров, сообщал в письмах к родственникам и друзьям «остроумные заметки о методе и манере их преподавания», но при этом он сам оставался «неразвитым, наивным ребенком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки». В статье Киреевского «Девятнадцатый век», по мнению Писарева, не затронута ни одна реальная сторона европейской жизни. Киреевский преклоняется перед вожаками европейской мысли, не умея «взглянуть на умозрительную философию, как на хроническое поветрие, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насильственно сдавлены и задержаны». Об Европе и России Киреевский судит вкривь и вкось, «не зная фактов, не понимая их и стараясь доказать всему читающему миру, что и философия, и история, и политика нуждаются для своего оживления именно в тех понятиях, которые были привиты ему самому». В сочинениях его хороши только те места, в которых он является чистым поэтом, заявляет в одном месте Писарев, но тут же прибавляет: «повести Киреевского очень плохи, потому что в них преобладает головной элемент, они сбиваются на аллегории».
В трех статьях Киреевского: «Девятнадцатый век», «В ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы» выразились с полною отчетливостью основные принципы его философского мировоззрения, хотя первая из этих статей относится к тому периоду его литературной деятельности, когда мысль Киреевского не достигла своего окончательного развития. В «Девятнадцатом веке» только намечены. в общей, схематической форме, те вопросы, которые занимали Киреевского до последних минут его жизни. В ясных выражениях предлагает он на суд философской критики определенную формулу западно-европейского просвещения, перечисляет все главные силы европейской истории, но, обозначив путь и направление своих будущих литературных работ, он при этом не доводит своих рассуждений до последних возможных заключений. В дальнейших статьях Киреевский видоизменяет свой взгляд на отдельные элементы европейского просвещения, оттеняя их новыми важными замечаниями, иначе определяя их природу в блестящей параллели с историческими силами русской народной культуры. Между первою и последующими статьями легла глубокая умственная работа, в которой мировоззрение Киреевского обнаружило все свои типические черты, свою духовную мощь, в которой этот несомненно большой и разнообразно одаренный ум, горевший экстазом, получил свою окончательную и характерную для русского духа формировку.