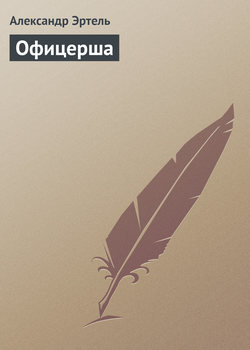Читать книгу Офицерша - Александр Эртель - Страница 1
ОглавлениеЯ только что пришел с гумна, где у меня домолачивали гречиху (дело было в сентябре), и садился за самовар, сиротливо звеневший на столе, как ко мне в комнату вошел известный уже читателю березовский мужик Василий Мироныч. Совершив с обычною своей степенностью крестное знамение и солидно поздоровавшись со мною, он вдруг хлопнул по бедрам руками и воскликнул:
– Оказия, братец ты мой!
Тут только я заметил, что степенность, соблюденная Василием Миронычем при входе, была напускная: он явно был возбужден, и лицо его являло вид недоумевающий.
– Оказия, – повторил он, принимаясь за чай.
– Что такое?
– Учительша у нас замудрила!
– Офицерша?
– Она. Так то есть замудрила – помирай! Ребятишки от рук отбились.
– Учит плохо?
– Чего плохо – в отделку бросила…
– Как бросила?
– Кинула, и шабаш! Никак не учит…
– Что же это?..
– Подивись.
– Ну, делает она что-нибудь?
– А ничего не делает. Лежит ничком, только и делов от ей…
– Больна?
Василий Мироныч развел было в недоумении руками, но затем поправил волосы и решительно добавил:
– Замудрила.
– Не пойму… – сказал я.
– Замудрила, – повторил он настоятельно и, вынув клетчатый платок, старательно отер им лоб.
– Отчего же ей мудрить-то?
Василий Мироныч подумал и сразу утратил решительность.
– Диво!.. – произнес он. – Мы уж ходили, ходили вокруг ей… И так понимали; испорчена-то она: бабку приводили. Бабка поглядела, поглядела плюнула. И умоляли-то ей: неладно, мол, ребятишки без призору… И попрекать принимались: такая ты сякая, мол… ты, мол, деньги получаешь, ты уговор, как-никак, соблюдать должна, а не то что… И так говорили: ежели, мол, насчет прибавки – не постоим, получай, дело твое мы видим… Хошь убей – колода колодой! Ах ты…
Он сердито и скоро допил из блюдечка чай и, допив, снова начал:
– Думали так: ругать ежели… Пронять ее, оборвать… Хоть бы сердце-то она сорвала, думаем уж, осерчала бы на нас… Да признаться, и самих-то зло разобрало – суди сам: лежит человек, и хоть бы слово, тоже ведь люди мы… Тоже ведь, какие ни на есть, а не вроде как собаки, например…
Василий Мироныч как будто оправдывался и в пылу этого оправдания начал даже негодовать. Я прервал его:
– Ну?
– Пробовали. Рванет это ее, рванет… Ажно передернет всю иной раз затрепыхается словно птица, и опять пласт-пластом!
Он помолчал.
– Ума решилась. Бросить ежели, плюнуть – жалко! Первое дело – деться ей некуда; отец-то идол ведь во всех статьях… Другое – баба душевная… Мальчонок-то у меня какой? – вершок в ем. – Василий Мироныч многозначительно посмотрел на меня и, переполнив тон свой благоговейностью, добавил: – Пишет! Расписки пишет… Запись ведет!
– Да с чего же это с ней? – спросил я.
– Ума не приложим. Так жалко нам, так жалко… Ты подумай – даровая, почитай!.. А уж с ребятишками вникала… Эх как вникала, сердешная! И Василий Мироныч тяжко вздохнул.
– Мы к тебе, – сказал он немного спустя, вставая и кланяясь низко.
– Насчет чего?
– Развяжи узел.
– Какой?
– Насчет офицерши.
– Да что же я-то сделаю?
– Тебе виднее… Темный мы народ-то! Мы ведь вроде как слепцы теперь: бродим ощупью да спотыкаемся… Уважь, проведай ее! Может, у ней, правда, болесть какая, – дело ваше барское, мудреное, нам, дуракам, и невдомек, глядишь… Аль обида ей от кого – дуроломы ведь мы, остолопы… Мы ведь радостью рады человека-то остолбить!.. Речи-то наши известны: от слова от одного осатанеешь… Приезжай! Мы, как-никак, услугу твою попомним… Ежели дохтура ей, так мы не токмо что – городского приспособим… А уж обиды ежели – храни бог! Прямо говорю: глаз не показывай такой человек… Так исполосуем такого человека – сесть станет невозможно. Вот!
И благодушное лицо Василия Мироныча внезапно изобразило сухую и жесткую злобу.
Я обещал.
Но прежде чем рассказать о поездке моей в Березовку, нужно, я думаю, сообщить вам о том, как состоялось знакомство мое с офицершей. Слушайте же.
Был март. Солнце стояло высоко и сильно пригревало. На полях показались проталины. Среди дня с крыш обильно падали капели и по тропинкам сочились ручьи. Снег пожелтел. Сугробы медленно опадали. Дороги тянулись по полям грязными лентами. Дали приблизились и засинели явственно и резко. На дворах курился навоз, переполняя воздух крепким и пряным запахом. В деревнях хлопотливо кудахтали куры, и петухи звонко оглашали окрестность торжественным своим пением.
Странное это время, читатель! Все обновляется, все готовится к жизни, а между тем какая-то тихая печаль непрестанно и томительно преследует вас. В ушах – звон, нервы как-то расшатаны и болезненно чутки, сердце сжимается тоскливо… Как будто кто-то неведомый зовет вас. Вы не усидите в комнате, куда так тепло и так приветливо заглядывает мартовское солнце, вам скучно, вас тянет оттуда. Но в поле, лицом к лицу с воскресающей природой, вас обнимает грусть. Мягкие тоны, облекающие поле, мечтательное журчание ручейков, даль – голубая и влажная, ясное солнце, светящее тихо и задумчиво; теплый и талый весенний воздух, сладко стесняющий дыхание, – все это щемит ваше сердце и переполняет вашу грудь какою-то мучительною негой. Вам иногда кажется, что кто-то умирает вокруг вас кроткою и безмолвной смертью. Вы как будто расстаетесь с чем-то близким и родным, и бесконечная жалость проникает все ваше существо… И голубая даль неотступно манит вас к себе. Вам хочется суеты, шума, движения… Вам мерещится толпа, жизнь… А вокруг та же мертвая тишина, то же солнце, ясное и ласковое, тот же раздражающий воздух.
Так вот, когда солнце светило уже особенно ярко и тепло и особенно грустно мне было на моем хуторке, вокруг которого звенели многочисленные ручейки и гибкие ракиты колебались тихо и размеренно, я проехал в березовскую школу. В ней шли занятия. Насквозь пронизанная кроткими солнечными лучами, она была переполнена ребятами. Мне, вошедшему туда прямо с поля, где мертвое безмолвие и глубокая тишина прерывались лишь слабым лепетом ручьев, сбегавших в ложбины, показалось там шумно и весело. Но в шуме замечалась стройность. Самая школа не походила на обычные патентованные школы. Все в ней было первобытно. Парты и скамейки отсутствовали; стены не украшались картинами из священной истории, в углу не воздвигалась неизбежная черная доска, исполосованная мелом. Книжек у ребят не было. Письменных принадлежностей тоже не замечалось у них. Толпились они беспорядочно и без всякого страха. Иные из них сидели на полу; иные занимали лавки или стояли; некоторые же забрались на печку и бойко выглядывали оттуда живыми и смышлеными глазенками. Все наперебой возглашали названия букв. (Как и всё в школе, метод был первобытный: ребята хором кричали: Глаголь! Мыслете! Твердо!). Посреди толпы стояла женщина, маленькая, худая, с тонкими угловатыми плечами и впалой грудью. Этои была офицерша. Вся в лучах яркого солнца, она как бы сияла. Блаженная улыбка лежала у ней на губах. Огромные глаза смотрели восторженно. Слабый голосок нервно напрягался и дрожал, переполненный чувством радости и веселого, чисто детского торжества. Поза – простая и важная (она высоко поднимала руку с картонной буквой), светлые волосы, беспорядочными прядями свесившиеся на лоб, темный румянец, проступавший на худом и некрасивом лице, скромный серенький костюм, ниспадавший свободными складками вокруг ее хрупкого тела, – все в ней было привлекательно. Она неудержимо влекла к себе. Бесконечная доброта, выступавшая в ее взгляде, умиляла.
Она не обратила на меня внимания до тех пор, пока кончились занятия. Тогда мы познакомились. Вся она, казалось, была переполнена счастьем. Ребята привыкли к ней и понимали быстро. Скоро вся эта толпа будет читать, будет вносить свет в гнилые избушки, полные мрака и смрада. Душа офицерши, чистая и ясная как хрусталь, не поддавалась никаким опасениям. Глаза смотрели вперед смело и наивно.
Мы говорили с ней долго и открыто. Да иначе и нельзя было: она не понимала фальши. Надо было видеть, как изумленно открывались ее глаза и какое недоумение изображалось на лице ее, когда она убеждалась, что ей намеренно говорят неправду. И это даже тогда, если неправда преподносилась в виде шутки. Свои мечты, свои поступки, мысли и намерения свои – ничего она не скрывала. Все с полнейшей искренностью сообщила она мне, лишь только увидала, что школа меня интересует и что мне не чужды интересы «высшего порядка» (как несколько книжно выразилась).
Она много натерпелась горя. Жизнь недаром наложила на нее какой-то страдальческий отпечаток, резко выступавший, чуть только она переставала говорить о школе и о теперешней своей деятельности. Тогда блаженная улыбка сбегала с ее губ, и они принимали то выражение скорби, которое столь свойственно русским крестьянкам; глаза померкали, румянец уступал место болезненной бледности, вся она как-то сжималась и делалась жалкой и беспомощной.
Во время разговора нашего такая перемена совершилась с ней, когда она отрывочно и неполно сообщила мне свою биографию. Вот эта биография. Училась она в институте, но курса там не кончила. Затем попала в родительский дом, где чахлая мать, тонная и нервозная, и здоровяк-отец, плут и пройдоха, довершили ее образование. Мать внедряла романтическую сладость и в сотый раз заставляла ее читать «Амалат-Бека»[1], отец убеждал сколачивать копейку и ловить жениха с капиталом. Капиталист не явился, но в деревню пришла рота. Молодой офицерик, с легким сердцем проскользнувши по растрепанным книжкам журналов, преподнес девушке, обезумевшей от лжи и тупости родительской, самовернейший рецепт от всевозможных бедствий. В заключение увлек ее… Отец проклял «негодницу», мать умерла от огорчения, соседи прозвали ее офицершей. Мало-помалу она привыкла к этой кличке. И она была счастлива: завеса открывалась перед нею. Свет бил в глаза. Бесконечные перспективы любви, добра, свободы неудержимо влекли к себе.
Это продолжалось недолго. Денщики растаскали хорошие книжки на «цыгарки», и вместо блистательных перспектив для девушки наступили бесконечные переезды. Из Тамбова полк переходил в Белев, из Белева в Муром, из Мурома в Елец, и повсюду попойки, карты, мелкие волокитства, вечные разговоры о производстве, о порционах, о шагистике… Тоска заедала ее пуще и пуще. Она училась в винт – и бросила. Пробовала пить – и не могла. К счастью, она родила, и ее покинули. Ребенок у ней умер. Измученная, изломанная, разбитая и больная, она возвратилась к отцу.
Отец в то время успел уже спустить на каких-то предприятиях именьице свое и теперь, наученный опытом, обнаглевший и дерзкий, держал трактир. Хриплый орган играл в нем арии из «Травиаты» и привлекал публику. Трактир торговал бойко. С утра до ночи слышались в нем нестройные речи, пьяный бабий визг, дребезг посуды и проворное шмыгание половых. Запах сивухи и пара, овчинных тулупов и сырости, каплями сочившейся с потолка, отравлял воздух.
Здесь-то поселилась офицерша. Отец указал ей место за буфетом. И насмотрелась она, налюбовалась за этим буфетом! Пьянство, невежество, разврат, буйство – все прошло перед ней отвратительной вереницей. И, боже, как горело ее сердце… Отрезвить, научить, просветить хотелось ей всех этих «несчастных» (так она выразилась); но она была слабая, больная, подневольная. Что она делала? – Она ночи напролет плакала и мечтала.
1
Амалат-Бек – герой одноименной романтической повести Марлинского (Александра Бестужева, 1797–1837). Повесть была написана в 1832 году.