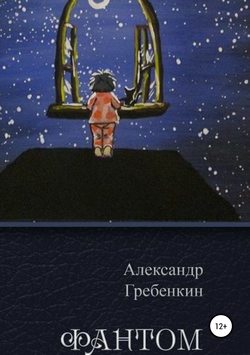Читать книгу Фантом - Александр Гребёнкин - Страница 1
ОглавлениеФАНТОМ
или записки молодого человека ХХ века
«Откуда я и куда иду».
Евангелие от Иоанна
«Все, что образует сгусток формы прежде было призраком».
Густав Майринк
ГЛАВА ПЕРВАЯ. УХОД, КОТОРОГО ПОЧТИ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ
Вчера утром меня укусила дикая птица, а вечером умер мой отец.
И вот мы с Наташей стоим у бордового гроба и глядим на застывшее восковое лицо. Я смущенно прячу забинтованную руку. И гляжу на немногочисленные равнодушные лица вокруг.
Друзей у отца никогда не было, а мать ушла в мир иной два года назад. На похороны еле собралось человек восемь, да и те беззастенчиво поглядывали на часы, явно поджидая окончания церемонии и поминального обеда.
И вот видавший виды автобусик привозит нас на место.
В серо – желтом кафе за накрытым столом кто-то из рабочих пытался произнести речь о почившем Шарове Романе Геннадьевиче, но речь получилась скомканной, ибо сказав пару предложений, оратор смущенно махнул рукой, опрокинул рюмку и сконфужено сел, промокая брюки салфеткой.
Наташа смотрела на присутствующих влажными глазами – ей до боли было жалко отца. Я крепился и глядел в окно, как двое в оранжевых куртках разворачивали агитационный плакат.
Летели быстрые птицы, ветер колебал остроконечные листья, и мне казалось, что все окружающее живет своей, отдельной от нас жизнью.
– Ни в коем случае, – ответил я Наташе, на предложение остаться сегодня у меня. Я очень хотел побыть один. Бродяга – ветер звал меня за собой, а лесные дали обещали забвение. Проводив Наташу и, поглядев напоследок, как ее крупное, и даже полноватое тело, медленно заходит в троллейбус, я сразу остановил такси.
– За город, – коротко бросил я, и сквозь стекло автомобиля мне было видно Наташино лицо в окне, и ее прощальный жест, но, в отличие от нее, я не сентиментален, и потому никак не отреагировал.
Водитель был крайне удивлен, когда я попросил его остановиться у самой глухой части соснового бора, а затем поспешно углубился в его пахнущие хвоей зеленые дебри.
Я лежал на песке, недалеко от синего озера, глядел в аквамариновые небеса с кудрявыми барашками облачков и думал.
Отец был странным человеком, не имевший даже родственников и плохо помнивший о своем прошлом. Он уверял, что у него амнезия, что родных он потерял очень давно, поэтому я почти не знал кто такие дедушки и бабушки. С матерью он обращался тепло и кратко, а она мало рассказывала о былых временах. И, вообще, они с отцом всегда жили в разных комнатах, и за всю жизнь лишь мы редко выходили на совместные прогулки, помню как-то были в парке, однажды сходили в кинотеатр, да еще раз в гости к маминой подруге.
Мать относилась к нему, как к странному человеку и потихоньку чахла, а отец честно трудился, воспитывал меня, как следует хорошему родителю.
Мы с отцом часто проводили время вместе. Он много рассказывал о своем удивительном увлечении – коллекционировании книг о привидениях, различных фантомах. Он читал на нескольких языках, на которые ему почему-то память не изменяла, ему привозили книги из зарубежных командировок какие-то знакомые, у него было множество ценных дореволюционных изданий. И уезжая со мною на рыбную ловлю, к которой он тоже имел пристрастие, он прихватывал с собою какую-то из своих книжонок, и таким образом, где – нибудь на речном берегу, я узнавал всякие жуткие рассказы, и научился ничего не боятся. Книги Эдгара По и Мэри Шелли, Уолпола и Метьюрина, Гофмана и Шамиссо, Стокера и Стивенсона знакомы мне были с раннего детства и впитывались в мои кости.
Когда я подрос я очень хотел разгадать тайну отца, почему он немного не такой, как все, но всегда останавливался перед плотно закрытым таинственным сейфом его души.
Я помнил, как рыдал отец надрывно на похоронах матери, и именно тогда осознал, какой тихой, незаметной любовью любил он ее все эти годы. Утрата жены сделала его более угрюмым. Он перечитывал «Страшную месть» Гоголя, особенно ту сцену, где колдун вызывает душу Катерины, и мечтал найти медиума, после обряда которого можно будет пообщаться с ушедшей подругой жизни.
Но, в тот день, когда меня клюнула в зоопарке эта глупая птица, которую я просто хотел покормить, и в глазке которой мелькнуло что-то похожее на лик отца, я нашел его вечером дома недвижимым, и услышал рассказ взволнованной соседки тетки Василисы:
– Я прохожу по коридору, гляжу – дверь открыта. Я окликнула его, дай думаю, зайду, мало ли что, а он тут – сидит в кресле и не движется… Ну, я и вызвала «неотложку» …
Я глядел на облака небе и видел глаза отца. Он смотрел на меня пристально, но весь облик его был размыт и дрожал…
На глаза набежали дрожащие капельки влаги. Смахнув их, посмотрев на размазанный влажный мир, я поднялся, стряхнул песчинки, спустился к воде.
Пройдя по белому песку, я умылся бархатистой водой и заметил в отдалении лежащее тело.
Я подошел ближе. Ноги грузли в песке, а сердце трепеталось с удвоенной силой.
Лежавший на боку был бородат и странен. Уж не мертвец ли… Я аккуратно потрогал его ногу носком своей туфли, и тут же почувствовал острый запах дымка. Неподалеку в бело-песочной яме догорал костер.
Лежащий пошевелился, а потом воззрился на меня одним зеленым глазом.
– Водка есть? – спросил я.
– Самогон, – протянул он.
– Пошли, – и я протянул руку, чтобы он мог встать.
Эту ночь я провел в лесной избушке, хозяин которой жил полным нелюдимом. Его сын, которого бросила ему сбежавшая жена, говорил совсем плохо.
– Ему сколько лет? – спросил я бородатого….
Мозг того долго перерабатывал информацию, а потом выдал, что-то типа «около девяти».
– Он, что у тебя, даже в школу не ходит? – спросил я, отодвинув мутную рюмку, и закусывая грибами.
– А на хрена ему, – проревел, пережевывая пищу, бородатый.
– Ну, ты даешь, – только и сказал я, перехватывая немного испуганный взгляд белобрысого мальчишки. В глазах его горело красное солнце….
Очнулся я среди ночи, от стука. Это цокали допотопные громадные часы в виде избушки с кукушкой. Этот звук перемежался с мощным храпом.
Я вышел под шелестящие ветви дуба, росшего рядом с домом. Блистали холодные звезды.
Я думал об отце. «Скоро, и ты там будешь», – подумал я и вспомнил древнюю индейскую песню, вычитанную в журнале.
О, прости олень, что сердце твое пробито
моей оперенной стрелой!
Теперь ты уйдешь в страну вечной охоты,
И я приду туда, когда пробьет мой час…
Я сидел и слушал шум ветра, и думал сколько еще отмерено мне, совершенно одинокому человеку, в этом мире.
***
Утром я за шиворот поднял бородатого.
– Вот мой адрес и телефон. В августе привезешь мальчишку ко мне. Я его в школу устрою, понял?
Я тесно сдавил его горло. От бородатого несло немытым телом… Он что-то заквакал в ответ, а я, швырнув его на кровать, посмотрел в глаза проснувшегося удивленного мальчика.
А потом, бросив на стол купюру, хлопнув дверью, быстро зашагал по серому сумрачному с утра миру, к тому месту, где проходило шоссе.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО
Молния серебристой дугой блистает возле лица, слепит, расплавляя края и соединяя два куска металла. Это я заканчиваю свой рабочий процесс, сваривая последнее свое изделие. В огромном высоком цеху, где блистают такие же, молниевые затяжные разряды, я работаю сварщиком и потому отгорожен на целый день от солнца, птиц, и дыхания свежего ветра.
Но все это я получаю сполна, выйдя за ворота завода. Ласково шепчут пирамидальные тополя, и розовое бархатное небо обещает ласковый и теплый вечер. Но даже красоты окружающего мира не могут меня избавить от туманного настроения.
Тут меня окликает полноватый седой Никодимыч. Он работает токарем в другом цехе, он неплохо знал отца. И сейчас мы с этим усачом шагаем к заветному месту – пивному бару на Кольцевой улице, вход в который скрывают таинственные тени акаций.
В зеленовато-седой атмосфере кисловато пахнущего помещения, где тихо гудит «Как прекрасен этот мир», я смахиваю остатки серебристой рыбьей кольчуги, а Никодимыч аккуратно скользит в шоколадном сумраке, отходя от разноцветной стойки, неся кружку золотого пива, светящегося, подобно фонарю.
Затем, седой толстяк, пригубив пышную, словно морской прибой, пену, ополоснув седые усы, торжественно ставит тяжелый, будто из чугуна, сосуд на стол, и начинает разрывать рачье тело, рассыпая клешнёвые обломки по голубому нежному блюду.
– Ах, как жаль, что батя твой ушел, – говорит он не спеша, глядя мутным голубым глазом, словно греческий олимпийский бог из-под облаков. – Бывало поедем с ним на рыбалку, я все говорю, говорю, а он молчит, или кивает. Молчуном он был.
– Да, молчуном…. Он и со мной – то мало общался, – соглашаюсь я, поглядывая на ловкие пальцы Никодимыча, снующие среди обломков членистоногого. Сам я посасываю золотую жидкость, чувствуя, как она растекается по жилам, останавливаясь тяжелым камнем в животе.
– Странным он был – продолжает Никодимыч. – Каким-то затаенным. Про себя – так ничего, ни-ни. Не помню, говорит… Хотя человеком был он был хорошим, можно сказать, душевным. Тихо так говорил, со значением. Почти не пил. А выпьет, так его на разные истории тянуло.
Я киваю, продолжая хлебать желто – пшеничное горьковатое море.
– А мастер был рассказывать, у-у-у, непревзойденный! Когда разговорится… Все любил про этого сыщика рассказывать…. Ну. который с доктором все расследовал… И про страшную собаку….
– Шерлок Холмс, – подсказываю я пивному богу, рвущему на части и сосущему раков… – И про собаку Баскервилей!
Кивнув, закончив процесс и высыпав клешни, панцирь, обсосав лапки, усач продолжает.
– Эх, хорошо мы съездили в последний раз…. В Балаевском лесу были, на Камышёвке. Речка такая тихая… С ночёвкой поехали. Я даже думал еще Петренко взять для компании, нашего фрезера, да захворал он… Вот значит, Юра, мы и поехали с твоим отцом вдвоем…
Он хлебнул желтого варева, стукнул о лакированное дерево стола, вытерся платочком и продолжал:
– Так что мне запомнилось. Сидели мы у костра. Клевало хорошо, и ушицу мы сварганили славную…. Заправили лавровым листиком… Ах, как пахло… А он все молчаливый был… Я и говорю, Геннадьич, чей-то ты сегодня не в духе. А он махнул рукою, уху ложкой деревянной помешивает. Говорит, что мол, неприятное известие получил… Что за неприятное известие? Может помер кто? А он возьми, да и выйми конверт из кармана. Говорит «да гори оно все огнем» и в костер бросает. Тут же скукожился это конвертик, свернулся в пепельный цветок…
Я с удивлением слушал Никодимыча.
– Слушай, Никодимыч, а я ничего и не знал. Ничего такого не помню… Он конечно грустноватый был в последние месяцы жизни, но, я к этому привык…
– Ну, вот, что было – то было… – грустно завершил Никодимыч, и предложил: – А может возьмем по сто, помянем?
***
В нашем тесном дворике для обитателей первого этажа протянута белая паутина. На ней тяжело полощутся паруса сохнущего белья.
Тут я и застал тетку Василису, ловко орудующую хищными прищепками – крокодилами, тесно державшими в своих зубах крылья полотняных птиц.
Поздоровавшись, вдохнув свежесть выстиранного белья, я поинтересовался:
–Тетя Василиса, а вы, когда отца обнаружили, ничего лишнего или странного не находили? Ну, например, письма, иль конверта?
Василиса застыла на месте, бросив в миску мокрую наволочку, и убрала волосинки со лба.
– Да вроде нет, Юрочка, не припомню… Я ведь зашла тогда – дверь открыта, а он сидит в кресле, и рука свесилась бессильно так….
Она наморщила лоб, вытерла пот…
– Хотя, постой! Рядом с его креслом на полу какой-то конверт лежал.
Она устремила глаза в небо…
– Да, да, припоминаю, был конвертик…
– Какой конверт? Там было письмо? От кого – не глянули?
– Да, какой-то конверт… Вроде с чайкой… А письмо… Было ли письмо, даже не заглянула… Да ведь не до того было… Скорую надо вызвать, милицию… Тебя разыскать.
– А где этот конверт? Вспомните, пожалуйста…
– Ну, как где?
Она поморщила губы. Дернула острыми плечами.
– Сунула куда-то… Ой, куда же я его дела?
– Может выбросили…
– Вряд ли… Куда-то положила… Ты, поищи, Юрочка, наверное, где-то в доме на столике и положила…
В квартире я учинил настоящий обыск. Обшарил журнальный столик, рабочий стол отца, шкаф, осмотрел все закоулки вокруг кресла, даже заглянул в мусорное ведро.
Конверт исчез.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТАЙНА НОЧНОЙ СКРИПКИ И ЭДВИНА ДРУДА
Наташа – очень хорошая девушка. Можно сказать – очень душевная и добрая девушка. Но когда она приходит на свидание в брючном костюме, подчеркивающем ее слишком пышные формы, мне становится слегка не по себе.
– Для чего ты так обтянулась? – говорю я своей волоокой подруге, про себя отмечая, что ее волнистые, темные, словно обсидиановая смоль, густые волосы красиво спадают на кремовый, будто величественный замок, пиджак.
– Для тебя старалась, – говорит Наташа, и ее большие, спокойные, подернутые дымкой глаза быстро увлажняются.
– Да не для меня ты старалась. А для других. Теперь твои красоты все смогут лицезреть. Это нескромно!
Конечно! Ее пиджак кажется сейчас лопнет на амфорных бедрах, которые колышутся при ходьбе, как корабли в море.
– Ну, вот, ты опять не доволен. Тебе не нравится моя тонкая талия…Я возвращаюсь домой переодеваться…
– Де нет, дорогая, ты ослепительно роскошна!
Я успокаиваю подругу поцелуем в цикламеновые уста, потому, что возвращение не входит в наши планы…
Потому, что над нами плывет аромат медовой акции.
Потому, что вечер свежий, и липкая жара ушла, и чувствуешь в себе силы, и хочется так шагать и шагать по мраморной аллее вдаль …
И потому, что мы сегодня идем в театр.
Пойти в это не совсем милое для моей души место – идея Наташи. Она меня таким образом хочет отвлечь от всего горестного, что происходит в жизни.
Придется часика три поскучать! Изображать из себя великого знатока театрального искусства. Ходить с многозначительным видом по фойе. Глубокомысленно читать программку. Сидя в ложе, оглядывать в бинокль сцену. Слушать настройку оркестра. И поглядывать на мощное хрустальное царство люстры, удивляясь, как она до сих пор никому не свалилась на голову. Взирать с нетерпением на алую тяжелую занавесь, когда же она обнажит театральные тайны.
А потом еще долго глядеть на поющих, что-то декламирующих актеров, абсолютно не углубляясь в сюжет. И тайком поглядывать на часы, ожидая конца.
Это, только первое отделение закончилось? Сейчас в буфет пойдем? А потом еще дальше будет? Ого, как долго! Но, чего не сделаешь для культурного досуга любимой девушки!
Актер вышедший во втором отделении напомнил мне отца. Воспоминания нахлынули, и я задумался над его странной смертью.
Почувствовав на себе чей-то взгляд, я посмотрел налево. На меня глядел чернобородый человек с моноклем на глазу, сидевший через одно место. Другой его глаз презрительно щурился.
Я набычился и уставился на него в упор. Чернобородый отвел глаза. Я вновь смотрел на сцену, не понимая сути действия и вспоминал, где я видел этот взгляд.
Наташа, наклонившись вперед, внимала зрелищу. Ее грудь под пиджаком бурно дышала. На миг она взяла мою ладонь, а я не выдержав, глянул в сторону чернобородого.
На этом месте никого не было!
***
Когда мы вышли в прохладный вечер – крапали легкие капельки дождика.
Мы шли по аллее, вдыхая свежий запах лип, и каких-то пряно пахнущих цветов.
И лишь вдали от сиреневого фонаря, на скамейке, Наташа, наконец-то, разрешила мне поцеловать ее.
Волоокая богиня быстро задышала, а потом, положив голову мне на плечо, спросила:
– Вспомни, какой сегодня день?
Девушки иногда задают самые простые вопросы, тем не менее ставящие в тупик. Поэтому лучше не вдаваться в их смысл.
– Пятница, – говорю я.
– Да сегодня же пятнадцатое число, – многозначительно произносит Наташа, и, наверное, я должен был бы упасть, потрясенный этим открытием…
– Ну и что? – тупо говорю я, глядя на мелькание на далекой трассе веселых огней.
Наташа распахнула свои чудные глаза.
– Год назад мы познакомились с тобой! Ты забыл?
– Ах, да, точно! Действительно, забыл! Как-то из памяти стерлось…
– Подозрительно быстро стерлось, – осердясь сказала Наташа. – И ничегошеньки не помнишь?
Она отстранилась, села прямо, явно обиженно глядя на оранжевый цвет кафетерия, откуда доносилась ритмичная музыка.
Я решил изменить ситуацию.
– Я помню этот момент! Было уличное кафе, вот, то самое, которое сказочно светится вдали. Мне было грустно. А тут явилось чудо, посланное богами! Ты прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев, – решил я блеснуть цитатой из классики, чтобы вернуть внимание девушки.
Она тут же теплее посмотрела на меня.
– Милый, ты красиво умеешь говорить! Если бы тогда не остановил бы меня, словами «не уходите, иначе мне будет так одиноко, я уже влюблен в вас», мы бы сейчас не были счастливы!
И Наташа припала к моей груди, и капельки усиливающегося дождя, сокровенно зашумевшего в листве, смешались с капельками ее радостных слез.
***
Прелести Наташи просто ослепительны, поэтому моим глазам становится легче, когда ее округлое тело, будто вырезанное из каррарского мрамора, прячет под свою сень тонкий халат, расшитый по синему цветущими абрикосовыми ветками.
Спустя время на всю квартиру разносится запах крепкого чая, и мне представляются, что дом мой перенесся в индийский сезон дождей, музыка которого шумит за окном.
Кто-то в свежей ночной дали надрывно поет серенаду, не боясь дождевых струй, и мне кажется, что этот ночной бродяга испортит нам ночь. Но он умолкает в тот момент, когда мы бросаем белоснежные кубики сахара в тонкие персидские чашки, когда- то купленные отцом.
Мы вздыхаем с Наташей облегченно, но тут, откуда ни возьмись, возникает звук скрипки, и Наташа, напрягая слух, разбирает переливчатую мелодию, а потом и вовсе затыкает уши.
– Играет кто-то здесь рядом, через дорогу, – говорит она и вздыхает. – Окно открыто. Эта музыка будоражит меня.
– А меня нет, – говорю я, но все же поднимаюсь с постели, чтобы закрыть окно.
Музыка стала тише, только слышно, как в комнате стучат часы. Мне как-то непривычно в пустой квартире, где я живу с детства, где меня окружала забота матери и молчаливая поддержка отца. Сейчас никого нет, но все время кажется, что вот-вот войдет отец, возьмет с полок одну из своих книг, и привычно пролистает ее быстрыми, гибкими пальцами.
Мы выключаем свет и Наташа, прильнув к моему плечу, долго лежит в тишине, в которой далеко играет скрипка. Ветер с дождем колышет фонарь, он мигает, создавая сине-зеленую, призрачную атмосферу.
Так мы лежим, я обняв мягкоупругое тело девушки, уже пребываю в полудреме, когда вспыхивает маленькая лампа под лимонным абажуром.
–Ты чего? – раскрываю я глаза, жмурясь от света.
– Извини, миленький. Я тихонько. Не спится. Я что-нибудь почитаю.
Она, колыхнув халатом, встает, и достает с полки, над отцовским креслом, зелененький томик «Тайны Эдвина Друда», механически перелистывает его, задерживаясь видимо на графике Филдса, и внезапно ахает!
Из «Эдвина Друда» мотыльком вылетает конверт.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СТРАННОЕ ПИСЬМО
Сегодня ярко-оранжевый субботний день. Под шторы моих век пробиваются острые стрелы желто-горячего светила, а в открытую форточку стремительной птицей залетает свежий ветерок.
Автобус прыгает по бугристому асфальту, а вместе с ним танец на сидении выполняю и я.
Из головы не выходит странное, если не страшное письмо, найденное в конверте, который тщательно хранил исчезнувший в другом измерении, но пребывающий в этом мире на книжных страницах Эдвин Друд. После того, как персонаж Диккенса отдал мне загадочное послание, с содержанием которого тут же ознакомились мы с Наташей, предстояла тягостная ночь. Мысли вертелись в голове. В конце концов сны навалились безжалостным бременем, и лишь утром наступило желанное отдохновение.
Впрочем – для меня, а не для Наташи. В голове ее до сих пор пребывала мелодия невидимого ночного скрипача, и, посчитав, что моей волоокой подруге и так многовато впечатлений, я отвез ее домой.
И вот я еду, вглядываясь в проносящиеся мимо маленькие домики и рощи. Они расплываются, превращались в слова странного письма.
«Ты мерзавец! Ты убил мою жизнь, ворвавшись в нее непрошеным гостем! Отобрал у меня все самое ценное: забрал жену, лишил сына! Кроме того, ты подлец, раз не ответил на мое первое письмо. Еще раз настоятельно требую, мерзавец, расскажи сыну обо мне!
Помни, что ты – НИЧТО, ФАНТОМ, ФУК, ПУСТОЕ МЕСТО. И вся жизнь твоя, порожденная мной, пуста и никчемна!»
Р.
Странное письмо, если не сказать более! Кто его написал? Кто этот Р? За что он так ненавидит отца? Что это за странные слова «Забрал жену, лишил сына»? Это что, все из-за мамы?! И это странное требование – рассказать мне об этом загадочном Р! Но отец мне никогда ни о чем подобном не говорил!
Голова кружилась от этих загадок!
На конверте был штемпель Пустоозерска, но это ничего не давало! Так можно было искать иголку в сене… Фамилия начинается на Р, или имя? Возможны миллионы вариантов!
Я перебрал старые письма в шкафу. Их было мало. Вспомнил, что часть бумаг мама отвезла на нашу дачу в Выселках. Значит стоит отправиться туда! Стремление разгадать тайну смерти отца стало нестерпимым…
***
Я вышел на рассыпанный гравий, и углубился по протоптанной дорожке в темно-зеленый массив лесополосы, которая шумела словно оркестр. Кое-где на зеленых листьях были легкие подпалины, будто кто-то намеренно разбрызгал здесь краску.
Солнце оделось в серые одежды, начали свой хор лягушки…
Пройдя по узенькому мостику через заросшую камышом речушку, и распугав зеленых хористов, я, наконец-то, вышел на проселочную дорогу.
Тополя и акации возле нашего дома тоже шептались под ветром, будто передавали друг другу свои тайны.
В доме было пустынно и темно, но меня не покидало ощущение чьего-то присутствия.
Я остановился перед старым круглым столом и провел по нему пальцем…. Никакой пыли не чувствовалось, хотя в дом давненько не наведывались.
Стоп! На полу синели чьи-то ноги, а с диванчика свешивались руки…
В изумлении я отошел назад и, полуобернувшись к окну, рванул тяжелую штору. Залп светового луча, прорезая мириады пылинок, осветил комнату.
Я подобрал с пола лыжные брюки отца, а на уютном диванчике безжизненным телом лежала его куртка.
Кто-то явно здесь был! За диваном я обнаружил пустую бутылку водки…. Отец никогда не пил водки… Он любил коньяк!
В комнате чувствовался запах паленого…
Так и есть! В камине что-то жгли… Пошевелив кочергой, я обнаружил непереваренные ненасытным «агни» остатки журналов, газет и поленьев… Есть и конверты…Подобрал кисть с обгоревшей щетиной…
Я бросился из дома, и, спустя несколько минут, распугав цыплят, и спасаясь от лижущего мои руки хвостатого сторожа, взбежал на крыльцо соседней дачи.
– Тетя Зина! Зинаида Павловна!
Она, конечно же, была не в доме, а возле своих обожаемых георгин.
– Ой, Юрочка, приехал! Здравствуй! Как же я тебе соболезную, милый, – запричитала тетя Зина.
На мгновение я сделал скорбное лицо.
– Тетя Зина, а вы Станислава не видели?
– Стасика? Художника, что ли? Да видала вчера, как раз у тебя во дворе стоял… Он все у двери крутился…. Я ему говорю, Славка, чего ты там ищешь? А он, мол, Юру жду… Помянуть надо отца-то… А в руке бутылка водки была! А потом, пропал он… Думаю ушел…
– А сейчас где он может быть?
– Да в своей развалюхе, где же еще… Иль в лесу, опять природу малюет…
Я ему помалюю!
Станислав был известной личностью… Художник, поэт, и запойный пьяница в одном лице, он был изгнан женой за пристрастие к алкоголю и ничегонеделание… Никто не знал, на что он живет!
Я уже мчался по поселку, по смолистому гудрону…
***
Двор полуразвалившейся дачи Станислава представлял собою настоящие джунгли из темно-зеленых кустов, буйно разросшихся деревьев, бросавших синие тени, диких шипастых цветов и пряно пахнущего бурьяна.
Пройдя по колено в траве, раздвинув широкие разлапистые листья, я увидел сарай-развалюху, позеленевший стол с грудой запыленных книг, по которому расхаживали голуби. В петли дверей сарая была заложена деревяшка.
Продираясь далее, сквозь эти тропические дебри, по едва заметной протоптанной тропке, я наконец-то выбрался на полуразвалившееся крыльцо… Доски запели у меня под ногами, вынудив на минуту остановиться и прислушаться. Вокруг все гудело, ухало, стонало и трещало. Мириады диких существ освоили зелено-голубые джунгли Станислава, готовые броситься на меня в неистовом припадке.
Я открыл висевшую на одной петле дверь. В разбитых окнах гуляли сквозняки, а в углах застыли толстые пауки на канатных нитях. Исцарапанный, с подпалинами, стол украшали мутные бутылки, по виду – старинные.
В другой комнате, в которую мне удалось войти, переступая через вещи на полу, застыли полотна с глазастыми звездами, безумными ведьмами летевшими на метлах, с длинноносыми существами из ада, поджаривающими субтильных человеков, с уродами-великанами, жрущими пойманных детей, толстыми карликами, с кинжалами в заросших кольцеватыми волосами руках, с бледными скелетообразными мертвецами, с поднятыми вверх руками встающими из могил, с черными воронами, которые клевали насаженных на столбы окровавленных людей…
Вся эта страшная компания персонажей картин Станислава визжала и ревела, неистовство улюлюкая, казалось, была готова было растерзать вошедшего чужака. И меня спасло лишь явное отсутствие дирижера этого безумного оркестра, пребывавшего в неизвестности.
Разметывая палкой заросли, я, наконец-то, вышел на поляну, где застыл мольберт с натянутым полотном. Станислав работал на пленэре, но самого безумного живописца не было видно.
Пройдя несколько шагов, я с силой встряхнул паутинный кокон (так можно было назвать старый залатанный гамак), откуда тяжелой грушей выпал бородатый крепыш, возмущенно завопивший, но заткнувшийся, едва лишь увидевший меня.
– Станислав,– обратился жестко я, не здороваясь, к хозяину кокона. – Ты ночевал у меня на даче?
Потрясенный художник что-то заблеял, сонный, словно ленивец из амазонской сельвы.
– Ты не крути, тебя ведь видели, – сказал я и еще сильнее тряхнул живописца одной рукой, а другой взяв за яблочко. – Гад, ты зачем бумаги жег?
Он затрясся мелкой дрожью…
– Юра, прости, думал тебе они не нужны будут…. Х-хоолодно было, Юра, а твои родители ведь уже того….
– Чего – того?! – взревел я. – Признавайся, письма жег?
– Нее, – протянул он, пытаясь мотать головой. – Только газеты.
– Не ври, – ответил я, – видны обгорелые ошметки…
– Нет, я лишь пару…. Остальное в макулатуру хотел сдать.
– Где твоя макулатура? – вскричал я, чувствуя близкую удачу.
Я отпускаю гения живописи, и тот ведет меня через джунгли к своему сараю, ловко отмахиваясь от летающих тварей, убирая машущие лапы веток, да отшвыривая шипастые обломки досок с гвоздями.
– Вот, Юра, а ты переживал, – сказал он, указывая на белеющую бело-серой горой кучу газет, журналов и книг в центре строения.
Около получаса, извозившись в пыли, мы, с примирившимся Станиславом, искали в куче жемчужное зерно.
Отряхнувшись, мы вышли во двор и сели в старинные визжащие кресла, неведомо откуда принесенные вездесущим художником. Отодвинув груду грязных, рассохшихся книг, измазанных голубиным пометом, я выложил на потемневший от дождей, покрывшийся зеленой плесенью стол связку писем. Но осмотр конвертов ничего не дал! Никого похожего на Р среди адресатов не значилось. Неужели бездумный Станислав сжег письма? Или таковых вообще не было?
Отмахиваясь от глупых расспросов подобострастного художника, уже сгонявшего в дом и предлагавшего мне выпить остатки подозрительной мутной жидкости, я тяжело вздохнул, и выхватил из груды первую попавшуюся книгу.
Закладка выпала, книга открылась на странице, где мелькнуло знакомое имя.
– Это, я значит, почитать оставляю, – объяснил художник, кивнув на книгу.
На странице значилось:
«– А я, – ответил Друд, – я хочу видеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя».
И ниже:
«Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились – меж ними была целая жизнь.
Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд или «Двойная Звезда», проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим из тьмы».
«Что? Друд? … Стоп, опять за последние дни мне попадается это имя», подумал я, и перевернул книгу.
На обложке значилось: Александр Грин «Блистающий мир».
Что-то смутное мне припоминалось…. Читал в далеком детстве!
Я поднял с притоптанной травы закладку. Это был конверт с письмом, явно неотправленным. Я вынул пожелтевшие листки, написанные рукой отца.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ИСПОВЕДЬ ОТЦА
Первое, что помню после долгого забвения: сижу в старинном кресле, и какие-то люди в форме поднимают меня за руки, пеняя на то, что я надолго расселся, а время идет!
Один из них все пытался принудить меня рассказать о тайниках, в которых спрятаны шпионские материалы.
Я делал усилия, пытаясь понять, о чем идет речь.
Память возвращалась медленно, кусками, обрывками.
Вот я выступаю со стихами перед группой детей в пламенеющих галстуках, а вот – на каком-то заседании, очевидно, писательском. Потом в памяти возник торжественный прием в большом здании, роскошно убранный стол и почему-то подумалось, что это Кремль. Мелькают восторженные лица, аплодирующие руки, блистают вспышки фотоаппаратов…А тут рядом, в этом мире – люди в форме (как я потом понял, работников МГБ), которые что-то требуют от меня, чего-то домогаются!
– Простите меня, ради бога, – выдавливаю я из себя первые слова, удивляясь своему голосу и манере говорить. – Я ничего не помню!
В комнате беспорядок, разбросаны вещи – происходит обыск.
– Про бога вспомнили! – сказал главный в форме. Это был высокий, плечистый человек, с резкими чертами лица. – А о своих шпионских тайниках забыли! Ничего, холодная камера быстро развяжет вам память! В машину его!
Меня ведут вниз по лестнице, на площадках хлопают двери, в замочных скважинах – глаза любопытных. И я их чувствую на себе, эти десятки глаз.
Выходим в морозную свежесть, на покрытую серым снегом длинную улицу.
Я на мгновение гляжу в небеса, будто ищу там Бога, но синие, с багровым оттенком, тучи надежно скрывают его лик.
«Черный ворон» увозит меня, как казалось тогда – в неизвестность.
Сидя в машине между двумя крепкими оперативниками, я напрягал память, извилины своего мозга, пытаясь понять, кто я, откуда, и что со мной произошло.
Дальше была, как и обещано, камера, и тяжелые, ежедневные изнурительные допросы.
В конце концов сознание медленно прояснилось, появилось четкое понимание кто я и где живу. Я – поэт, живу в советской стране, пишу для детей, а теперь арестован и идет следствие.
На первом же допросе следователь, застенчивый и усталый человек средних лет в потертом костюме, прятавший тусклые глаза за стеклышками очков, приторно вежливый (сейчас уже забылась его фамилия), предъявил мне обвинение в «троцкизме», цитируя, наверное, мои же собственные строчки из сборника:
Когда запылает революционное пламя
Мы оружие в мозолистых руках сожмем,
И за Троцким, держащим красное знамя,
В бой за народную правду пойдем!
Я не знал, что сказать на это… Это я написал эту дребедень? Мне не верилось, но мое собственное имя на обложке, которое я как раз помнил четко, имя Романа Шарова, убеждало в обратном.
Я смотрел в окно, на красные черепичные крыши, покрытые островками синего снега, и пытался дать объяснение всему, что происходит.
Я заявлял, что возможно есть и другой поэт Шаров, и что все происходящее – какое-то недоразумение, что меня взяли по ошибке, и что я, наверное, болен и потому ничего не помню, и этим только разгневал вежливого следователя.
– В карцер! – следователь отдал распоряжение не свойственным его природе резким голосом.
Потом я сидел в холодной одиночной камере, размером в полшага, на хлебе и воде.
И вновь допросы.
Уже в камере у меня произошло очередное прояснение. Я вспомнил, кто такой Троцкий, о чем и заявил следователю на очередном допросе примерно в таких словах: «Стихи посвящены народному комиссару по военным делам, создателю Красной Армии товарищу Троцкому». Но этим вновь вывел его из себя, да так, что мне даже неловко стало.
Он грохнул кулаком по столу.
– Создателями Красной Армии являются товарищ Ленин и товарищ Сталин! И не разводите мне здесь антисоветскую агитацию!
И вновь тяжелая, изнуряющая пытка заключением. Мне двое суток не давали есть и пить. Но, самое тяжелое было то, что я с большим трудом сознавал свою личность, и крайне смутно помнил все события, связанные с моей жизнью. В бессилии я бился о стены моей тюрьмы, разбил себе лоб и расцарапал лицо. Но моя смерть не входила в планы очкастого дознавателя, и врывавшиеся стражники, сковывали меня, после чего я не мог приподняться с металлической койки. Врач с гибкими обезьяньими руками делал укол, и успокоение приходило ко мне. Как ни странно, пара таких уколов способствовала некоторому просветлению в памяти.
Впрочем, далее пошли дела еще хуже.
Мне стали инкриминировать шпионаж в пользу Германии.
Доказательством служили якобы мои же слова из стихотворения:
«Народ Германии
стране Советов,
окажет помощь,
если вновь…».
Дальнейший текст сочинения забылся, ибо мне окончательно вышиб мозги истеричный крик моего на вид вежливого следователя:
– Вы являлись немецким шпионом! Кто из членов писательской организации вас завербовал? Какие задания вы получали?!
Когда я в отчаянии, в сотый раз твердил, что я ничего не знаю, и не помню, страж государства заговорил более спокойно, но въедливо:
– Ах, опять память отшибло? Зато писатель Кунц все замечательно помнит. Вот его показания о том, как он завербовал вас, включив в свою шпионскую сеть.
И он вынул из папки и показал мне листок, очевидно, с показаниями этого неведомого мне Кунца.
Далее была очная ставка с Кунцем.
Сейчас, когда я пишу эти строки, он напоминает одного из персонажей Гофмана. Его физиономия с бегающими маленькими глазками, согбенное тело по сей день стоят перед глазами. К моему большому удивлению, хоть я видел этого человека впервые, он активно уверял, что давал мне задания вести подрывную деятельность путем проведения антисоветской пропаганды. Причем, не только в литературе – своими произведениями, но и оказывать посильную помощь другим «врагам народа», которые собирались взорвать писательский дом. Таким образом наша тайная организация хотела погубить нужных нашей культуре, преданных стране Советов литераторов!
Очная ставка немного поколебала мою уверенность в собственной непогрешимости. Я начинал лихорадочно вспоминать, не совершил ли действительно чего-то предосудительного, а вечером вновь рвал на себе волосы, стучал в железные двери моей тюрьмы, и все начиналось сначала. Успокоенный уколом, я лежал в бессилии. Утешением для меня и спасением от помешательства рассудка было видеть белоснежные тучки, да повторять строчки поэтов, проносящиеся и кипящие в голове.
Был помню еще один день, когда мне задавали вопросы, ни на один из которых я не знал ответа.
Следователь, рассердившись несуразному моему бормотанию, ударил ладонью по столу, когда вдруг прозвучал громкий голос, говоривший с едва-едва различимым акцентом:
– Да ладно, оставьте его. Вы что не видите, он действительно ничего не помнит…
Я с трудом повернул тяжелую голову, чтобы узнать, кому же принадлежали столь мудрые слова, и увидел, как из глубины комнаты поднялась фигура в костюме с головой орла. Острый клюв раскрывался при произнесении слов. Но, наверное, мне все это просто почудилось из-за темноты, царившей в кабинете.
В полосе яркого оконного света стало видно, что слова принадлежали не какой-то хищной птице, а всего лишь невысокому, чуть полноватому лобастому человеку. Его длинный нос украшало пенсне.
Он подошел ко мне, положил руку на мой разорванный пиджак, сказал «всякой судьбе есть предел» и вышел из кабинета.
До сих пор слова эти, интонация, с которой они произнесены, стоят в моей голове.
На следующий день вежливый следователь, более не кричавший, попросил меня подписать признание в антисоветской пропаганде и агитации.
Чтобы положить конец мучениям, я выполнил просьбу, и следователь, наконец-то выдавивший из себя улыбку, приказал меня покормить.
Разбудили меня на рассвете. Двое людей велели вставать и идти. Поглаживая давно небритый подбородок, подтянув повыше спадающие брюки, плохо понимая суть происходящего, я поплелся куда приказали.
Мы долго спускались вниз по выщербленным множеством ног ступенькам, я глотал затхлый запах, и все боялся споткнуться. Далее вел длинный коридор.
– Иди, – велели мне.
Делать было нечего. Я ступил несколько шагов по коридору, спиной чувствуя, что мои конвоиры оставили меня одного.
Щелкнули затворы. Я вздрогнул и внутренне сжался, опасаясь не столько потерять жизнь, а боли, которая наступает перед лишением жизни.
Но еще более изумил меня громкий Голос, раздавшийся и гулко прогремевший в пустом коридоре.
Этот потусторонний Голос зачитал мои прегрешения и наказание, которое следует принять.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. САМЫЙ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК (ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОВЕДИ ОТЦА)
Спустя несколько часов, со мной, едва оправившимся от потрясения, имел беседу носатый человек, похожий на горного орла. Он время от времени снимал пенсне и протирал его мягкой тряпочкой. Тогда его выпуклые глаза с круглыми зрачками поглядывали на меня цепко и настороженно.
Помню, что он говорил со мной, как с давним знакомым. Он сказал примерно следующее:
– Как видишь, советская власть гуманна. Она спасла тебя от расстрела… В твоем творчестве антисоветчина все же есть. За это ты получишь свои восемь лет. Тебя отправят в лагерь. Но советская власть предлагает тебе загладить роковые ошибки. Там в лагере сидит некий Щедров Рихард Константинович. Тоже писатель. И еще ученый, мыслитель. Но враг советского строя и социализма. Тебе нужно постараться войти к нему в доверие. Ты – писатель, он – писатель. Вы должны найти общий язык. Твоя задача – выведать у него, где он спрятал свои рукописи. Сможешь узнать где хранится его архив – можно будет скостить тебе срок, а до его окончания – перевести на более легкие условия заключения.
Сломленный и морально и физически всем произошедшим со мной, я вынужден был согласиться на это предложение.
Потом был долгий переезд в холодном, грязном и тряском вагоне.
Нас высадили на одной из станций, далее необходимо было добираться пешком.
– Шаг влево, шаг вправо, считается побегом! Огонь будет открыт без предупреждения! – строго объявил сопровождающий нас офицер.
Запомнились почти сказочные деревья, припорошенные снегом. Снежнобелый лес, лениво раскинувшись, уходил вдаль. Но любоваться его ослепительной красотой мешал постоянно донимавший холод, да и неизвестность.
Сначала мы шли и много говорили. Над колонной идущих поднимались вверх струйки пара. Рядом со мной шли, в основном, представители интеллигенции. Конвоиры не запрещали говорить, лишь посмеивались. Затем разговоры сами по себе прекратились. Горло обжигало холодными морозными иглами, и люди боялись застудиться. Заболеешь – пропадешь, это со временем поняли все зэки. Кроме того, надо было беречь силы.
Я шел, стойко держась, и пытаясь осмыслить свою жизнь. Признаюсь, иной раз охватывало малодушие, и я хотел броситься в сторону укрытых снежными шапками елей, и попасть под автоматную очередь. Но, все же что-то удерживало меня от безумного поступка.
Поздним вечером мы подошли к воротам лагеря и выстроились.
Под желтым фонарным светом стояло лагерное начальство. Началась перекличка. Легкие пушинки снега мягко ложились на наши плечи, холод не отпускал, и, казалось, что прием заключенных будет длиться вечно!
Но самое приятное было потом – санобработка… Кусочек мыла и горячая вода казались пределом счастья!
Затем распределились по баракам. Так началась моя лагерная жизнь.
Не буду описывать подробности. Не так давно публикации на эту ранее запрещенную тему, некоторые мемуары несправедливо арестованных стали появляться.
Скажу лишь, что я старался держаться с группой интеллигенции, подальше от уголовников, у которых была своя жизнь, и от издевательств которых мы здорово страдали. Моим другом стал скромный учитель словесности Титович, к сожалению, позже скончавшийся от болезни. Во время заключения мы старались во всем помогать друг другу.
Ранним утром наша колонна, в сопровождении конвоя, брела на трудовую вахту.
Поначалу работа эта наша казалась мне странной.
В глубине густого леса располагался большой покинутый город. Что случилось с его жителями, почему город, не носивший видимых следов разрушений, был брошен – оставалось тайной. Об этом ходило множество слухов и догадок!
Нашей задачей было разбирать постройки, очищать кирпичи от остатков раствора, сортировать, грузить на машины.
Вечером, утомленные работой, мы отдыхали, а я приглядывался к своим товарищам по несчастью, надеясь среди них различить того, кто мне был нужен, а именно – писателя Щедрова.
Как-то поздним вечером меня вызвали в оперативную часть. Старший майор (фамилия его была Кузнецов) долго и внимательно разглядывал меня, направив свет лампы, потом открыл портсигар, предложил закурить и напомнил о задании.
– Прошло уже две недели, как вы в лагере. Мы пока вас держали на обычных работах, чтобы не возникло никаких подозрений о вашей особой миссии.
Но, на днях, мы вас перебросим на другой объект. Там будет тот, кто вам нужен – писатель Щедров. Вы помните свою задачу? Вы должны сделать все, чтобы он доверял вам…
Стояли уже робкие весенние деньки, когда вокруг журчала, звенела талая вода, и природа бережно, и нежно просыпалась ото сна.
Меня и еще нескольких зэков откомандировали в бригаду, которая ехала расчищать теплотрассу для ремонта.
Прибыв на объект, я внимательно оглядывал работающих. Все одинаковые, в серых ватниках, они энергично махали кирками и лопатами.
Я присоединился к работающим, как вдруг среди зэков стал гулять удивленный шепоток. Они поглядывали куда-то в сторону.
Посмотрел туда и я. И вот, что увидел. Неподалеку находилась полуразрушенная невысокая башня. На ней сидел человек в одежде заключенного, с блокнотом в руках.
Он внимательно смотрел перед собою в небо, с краю покрытое пепельными тучами, и что-то записывал.
Стоящие вертухаи воспринимали эти наблюдательные действия человека, как должное, привычное, и лишь один из них, спустя время, проявил волнение.
– Эй, спускайтесь, хватит! – велел он и для острастки щелкнул оружием.
– Сию минуту – прозвучал ответ, и с башни по лесенке спустился ловкий и подвижный, чуть выше среднего роста человек с небольшой клиновидной бородкой.
Ему было лет за пятьдесят. В фигуре его было что-то военное. В его широких плечах и налитом теле чувствовалась большая физическая сила.
Казалось, что здесь к его манере поведения уже привыкли.
Он что-то спокойно объяснил охране и направился к нам. Молча взяв кирку, он начал интенсивно долбить еще мерзлый грунт, и казалось, что эта работа не доставляла ему особых усилий, что земля сама разлеталась в стороны, при соприкосновении с его орудием.
Это и был писатель и ученый Рихард Константинович Щедров.
Общеизвестно как тяжела, а порою просто невыносима жизнь в лагере. И охрана, и лагерное начальство, и уголовники так и норовили поиздеваться над политическими, всячески их унизить, выбить их них дух противоречия, непокорности. Мне об этом писать не хочется, об этом очень неприятно писать, хотя все мы ощутили на себе жестокость этой жизни.
Но многое из того, что сказано выше, менее всего касалось Щедрова.
Этот серьезный, очень сдержанный человек одинаково уважительно и ровно общался со всеми, и даже самые наглые, жестокие мерзавцы останавливались под взглядом его миндалевидных глаз на широкоскулом, почти монгольском лице. От всей его фигуры веяло добротой и ясностью, мудростью и простотой.
От него будто исходило сияние, которое ослепляло каждого, кто хотел занести над ним руку.
Держался Щедров практически со всеми ровно и дружелюбно, но одновременно, независимо, был, как говорится, сам по себе.
Я не решался подойти к нему близко и познакомиться, а он бывало окидывал меня внимательным взором, словно приглядывался, мог приветливо улыбнуться, но не заговаривал.
Сблизились мы после одного происшествия.
Нас отправили трудиться на отдаленный участок покинутого города, путь к которому лежал через бурелом и болото. Видимо ранее здесь была речушка, но теперь местность заболотилась, и только маленький деревянный мостик вел с одного берега на другой.
И один из переходов мостика, от опоры до опоры, возьми, да и подломись под моими ногами! Наверное, доски сгнили из-за дождей и снегов.
Я оказался по пояс в трясине, и она мгновенно засасывала меня.
Первым подскочил на помощь именно Щедров! Он протянул мне свою кирку и могучими рывками стал вытаскивать из вязкой жижи.
Вечером, после работы, я подошел к нему. Он держал в руке маленькую книжицу, тут же захлопнул ее и улыбнулся.
– Спасибо вам большое, – искренне сказал я ему.
– За что? – улыбнулся он.
– Еще немного, и я бы погиб!
– Ну, что вы, я просто выполнил свой долг, – сказал он. – А разве вы не сделали бы этого, случись подобное с мной?
Я кивнул и представился. Он назвал себя и стоял, помалкивая, поглядывая на меня, продолжая дружелюбно улыбаться.
Чтобы как-то заполнить паузу, я спросил:
– Вы не курите?
Сам не знаю, зачем я задал этот нелепый вопрос.
– Нет, я никогда не курил. А вы судя по всему начали?
– Начал здесь, в лагере. Потому, что перекуры.
Он вновь улыбнулся одними уголками губ.
– Ну вот, значит вы курите, а я вот предпочитаю читать.
И он протянул маленькую книжицу в синеватой обложке. На ней значилось:
Гете «Фауст».
– Не читали?
– Название знакомое. Честно говоря, не помню…
– Если не помните, забыли – перечитайте! Очень глубокое произведение. И вообще, я советую вам использовать любую возможность, чтобы читать, пополнять свои знания, а самое главное – облегчать душу! Ведь часто книга рождает отклик в душе и служит целебным, драгоценным бальзамом.
– Но откуда вы книги берете? – спросил я немного удивленно.
– А здесь неплохая библиотека. Благодарю бога, что здесь начальником лагеря человек – достаточно образованный. И когда разбирали старую библиотеку в брошенном городе, он послушал моего совета и книги не сжег, а приказал привезти сюда и сложить в коморке. Есть очень редкие издания.
И увлекшись, Щедров стал называть мне книги, названия которых, спустя много лет, я конечно не помню.
Эта недолгая беседа позволила нам сблизиться и часто проводить вечера вместе. И даже во время каждодневных обязательных работ он находил время подойти ко мне и поговорить. Охрана особенно не препятствовала этому – лишь бы это не бросалось в глаза и не было слишком долго. Наверное, она была предупреждена насчет моего задания.
Удивительно, как много замечал этот человек.
Его восторг перед миром казалось не имел предела! Он восторгался травинкой, кустиком, озером, облаками, птицами…. Даже в ежедневном тяжком труде он находил моральное удовлетворение и смысл.
Помню, как я говорил ему о железных кандалах неволи, когда сердце так тоскует по свободе. А он мне ответил:
– А я не в неволе. Я свободен и здесь!
– Как так? – спросил я, поразившись его ответу.
– Ведь главное в человеке – внутреннее ощущение свободы. Это только внешняя видимость, что я в заключении! Моя душа может летать где угодно…
И действительно он вел себя достаточно свободно и независимо. Он никогда не переходил черту дозволенного, не дерзил начальству, не нарушал общего четко установленного порядка и дисциплины, и, в тоже время, всегда говорил, что думал, и поступал, как велит совесть.
И грубое, жесткое слово в его адрес, готовое сорваться, застывало в горле, и уходило прочь, в глубь!
И когда он говорил что-то важное, выстраданное, свое, смело глядя в глаза самому жестокому офицеру, тот отводил взгляд и не наказывал его.
Я сам видел, как он ходил к уголовникам. Они орали матом, а он внимательно и спокойно слушал их и что-то говорил, и страшные заточки, занесенные над ним, опускались, все в конце концов переходило на миролюбивый разговор, и участники спора расходились умиротворенные.
К нему не раз приходили за советом, или за помощью. Обычно, он никому не отказывал.
Он мог лечить ладонями: просто прикладывал их к больному месту и человеку делалось легче. При этом он замечал, что не лечит. Он этого не умеет, а только лишь убирает боль, которая серой мышкой убегает далеко в подвалы телесной субстанции. Но, когда он болел, простудившись, то отказывался лечить ладонями, утверждая, что все это бесполезно. В тот день к нему явился сам начальник лагеря Гольц и повелел отправиться в лазарет.
Спустя четыре дня Щедров уже работал на участке наравне со всеми.
Немало было переговорено нами о жизни, об окружающем мире… Всего из этих разговоров я припомнить не могу, но кое-что врезалось в память навсегда.
Он говорил:
– Огромная сила таится в ощущении гармонии мира. Необходимо эту гармонию находить и чувствовать во всем, быть пропитанным ею, как окружающим нас воздухом.
Как-то мы с ним говорили о тяжелом времени, в котором мы живем.
Щедров утверждал, что добро и зло, счастье и несчастье чередуются, и в годину печали и неудачи необходимо надеяться на то, что счастливые дни придут.
Он процитировал из «Фауста» строчку, которую я запомнил:
Пусть чередуются весь век
Счастливый рок и рок несчастный.
В неутомимости всечасной
Себя находит человек.
Как-то работая на распилке огромных стволов дерева, я спросил Щедрова, как он оказался здесь?
Оставив взвизгнувшую пилу, он вытер пот со лба, и ответил:
– Он посадил меня. Я ведь знал его! Мы вместе были в ссылке в Томской губернии.
Я понял, что он говорил о вожде. Тогда многое становилось понятным. Я узнал, что Щедров – член партии большевиков.