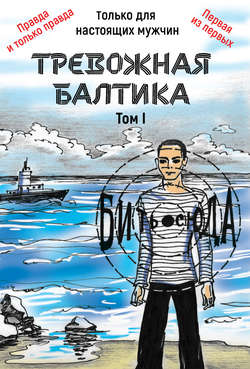Читать книгу Тревожная Балтика. Том 1 - Александр Мирошников - Страница 1
Часть I
Глава первая
ОглавлениеНочную тишину городской улицы разорвал гул автомобильного двигателя. Не обращая внимания на красные сигналы светофора, бортовая машина спешно везла группу моряков-новобранцев в шинелях без погон и неуклюжих бескозырках. Водитель торопился доставить груз к месту назначения, надеясь быстрее попасть в казарму и продлить себе сон. Ежась от сырого пронизывающего ветра, ребята в безмолвном отчаянии цеплялись руками за спасительные лавки подпрыгивающего на ухабах грузовика.
Машина въехала в распахнувшиеся ворота КПП и остановилась. Перемахнув через борт кузова, парни топтались на асфальте, разминая затекшие ноги; перешептываясь, скользили взглядами по темным фасадам угрюмых казарменных зданий. Из кабины вышел щеголеватый лейтенант со строгим лицом, вежливо предложил следовать за ним. Через слабо освещенный коридор новобранцы попали в полутемный зал с рядами деревянных кресел и большим белым экраном на стене. Расположившись у блеклой лампочки, которая казалась одинокой в пустом, не просматриваемом помещении, по указанию офицера, поставили вещевые мешки. Затем лейтенант предложил им временно разместиться и подождать дежурных, которые явятся за ними.
Трехсуточная бестолковая толчея на сборном пункте, тяжелая ночь в вагоне поезда, помноженные на страх будущего, отнимали последние силы. Лейтенант поинтересовался, есть ли у кого вопросы, тем самым первым нарушив затянувшееся молчание. Никто не ответил. Все же один робко спросил, куда они попали и чем будут заниматься в дальнейшем. Внимательно выслушав, офицер дал понять, что вопрос ясен.
– Вам выпала большая честь, – начал он торжественно, но тут же понял неуместную высокопарность слов и улыбнулся, понизив голос, – служить на Краснознаменном Черноморском флоте, в военно-морской школе города Николаева. В течение полугода будете проходить здесь службу, изучать разные морские специальности.
Но это никого не затронуло, все устало молчали.
В тишине неожиданно раздался смелый голос:
– А спортом мы заниматься будем?
– Спортом? – замялся лейтенант. – Знаете, основное время мы уделяем специальным предметам. Да… у нас и нет условий для спортивных занятий. Хотя… строятся спортивные площадки. Есть даже ответственный по спортивной подготовке, но, честно говоря, я его работы не вижу.
Мальчишки недовольно загудели.
Вскоре пришли важные дежурные, стали зачитывать по спискам фамилии и уводить людей с собой. Одутловатый сонный старшина 2-й статьи с боцманской свистулькой на груди, напряженный от прочтения незнакомых фамилий, произнес: «Мирков». Вперед шагнул серьезный широкоплечий юноша, стал шестым возле старшины. Тот окинул всех усталым равнодушным взглядом и повел за собой.
С детства Александр Мирков был наслышан о солдатской жизни: ранние подъемы, тревоги, бесконечные занятия, муштра и, конечно, старшина, который выматывает душу от подъема до отбоя. Друзья, которые уже отслужили, на проводах похлопывали его по плечу и приговаривали:
«Старшина тебе будет и отец родной, и мать. И накормит, и поднимет, и в баню сводит, – и добавляли, хихикая: –Ты спишь, а он, нежно склонившись над тобой, беспокоится о твоем здоровье, думает, что пора бы и тебе подыматься». Они излучали радость, что уже отслужили, громко хохотали.
Вновь прибывшие миновали строевой плац и подошли к длинной двухэтажной казарме из красного кирпича. Заслышав шаги на ступеньках, наголо бритый дневальный со штык-ножом на ремне и красными от бессонницы глазами напрягся, подобрался, готовясь к встрече с ночными гостями.
Вступив на этаж, новобранцы сразу ощутили спертый запах набитого людьми помещения. Неприятный дух от потных ног и плохо постиранных носков под храп и сопение спящих людей властно стелился по всему пространству полумрака. Освещенный блеклым красным светом широкий тридцатиметровый проход разделял на две стороны бесчисленное множество двухъярусных железных коек.
Скопище бритых голов и пяток, повсюду торчащих из-под одеял, привело вошедших в состояние абсолютного обалдения. Действительность превзошла самые худшие ожидания. Вчерашние школьники с тоской осознали, что стали частицей этого смрадного бытия, этой многоликой и обезличенной подневольной воинской массы.
«Вот и закончилась беззаботная юность, – сумрачно подумал Александр, – когда можно было спать сколько хочешь. Ни подъема, ни отбоя, и никакого старшины… Теперь все по Уставу: ходить только строем, а приказ командира – закон для подчиненного».
Старшина приказал расположиться на свободных койках. По команде «Подъем» разрешил не вскакивать, предупредил, что для новичков будет отдельная команда. В дальнем углу увидел свободную койку, ткнул пальцем в Александра. Тот снял шинель и осторожно взобрался на второй ярус. Припал к жесткой подушке и провалился в долгожданное беспамятство.
На рассвете пробудился от истошного вопля:
– Рота, подъем!!
Отвечая скрипами коек и ударами о пол голых пяток, со всех сторон молниеносно посыпались полуголые курсанты. Спешно одеваясь, мчались на зарядку.
Притаившись, Александр удивился строгости порядка:
«Вот это да-а… вот это му-уштра…» И тут же заснул.
Чуть позже прозвучала громкая команда подниматься вновь прибывшим.
Новобранцы торопливо попрыгали вниз, спеша одеться, путались в одежде, терялись от снисходительного взгляда дежурного, который глазел на них, и оттого только больше робели. Странно усмехаясь, дежурный доложил им о плане мероприятий на сегодняшний день, объяснил, что пойдут в столовую, а по возвращении приступят к доработке «непришитого обмундирования».
Возвратившись из столовой, расселись на деревянных табуретах, высыпали из мешков выданное интендантской службой тряпье, вооружились иголками, нитками и приступили к работе. Трудность состояла в подшивке погон к толстому плечу шинели; корпели над швом, по несколько раз переделывали кривые строчки.
Все сосредоточенно сопели, и трудовое дыхание изредка прерывалось истошным визгом неудачника, которому игла глубоко вонзалась в большой палец. Из окон доносился ритмичный гул, рвущийся от ботинок курсантов, которые до изнеможения печатали шаг на плацу.
Мирков обратил внимание на грустного худощавого паренька, сидевшего неподалеку. Отложив шинель, тот удрученно качал головой, а потом достал из внутреннего кармана военный билет и начал внимательно рассматривать.
Медленно закрыл его и обиженно прошептал: «Ну зачем мне какое-то СПС, три-и года… – и совсем потускнел лицом. – Служил бы дома… поступил бы в университет, а тут какой-то Николаев…»
К Миркову подошел небольшой, упитанный старшина 2-й статьи, спросив фамилию, велел идти за ним. Старшина уселся поверх одеяла, а Александру предложил место на табурете. Из тумбочки достал «Журнал для записей» и поднял широкое добродушное лицо. Смущаясь перед незнакомцем, назвал свою фамилию – Грищенко – и добавил, что является командиром отделения, в которое того зачислили.
Все, что отвечал Александр, он заносил в графы журнала.
– Год рождения?
– Шестьдесят второй.
Это удивило старшину:
– А я с шестьдесят третьего… – покачал головой, выразив сочувствие. – Да-а… – чмокнул пухлыми губами, – тебе, конечно, не очень повезло… Откуда призван?
– Из Харьковской области.
– Так ты из Харьковской области? – удивился вновь, словно не ждал встретить земляка. – А я из Харькова, – расплылся командир в доброй ухмылке. – Значит, земе-ля… – хотел добавить что-то, но застыл в лукавой нерешительности. Хитро сверкнув глазами, украдкой полюбопытствовал, есть ли у Александра сгущенка или тушенка. Тот добродушно признался, что имеется банка сгущенки в мешке.
Без доли смущения старшина потребовал принести ее немедленно, что было и сделано. Перед отправкой, собирая нехитрый скарб, Саша положил банку сгущенного молока в надежде открыть где-нибудь в укромном уголке после очередного марш-броска. Но сейчас не смог устоять перед неожиданным знакомым, бескорыстно исполнив просьбу. Издав одобрительный возглас, старшина довольно сжал банку и засунул в карман штанов, после чего подвел Александра к койке возле окна:
– Вот здесь будешь спать, – с этими словами он еще раз внимательно осмотрел нового подчиненного.
Следующий день стал началом долгой череды изнурительных курсантских будней. Нормальная человеческая жизнь заменилась сумятицей и оболваненным казарменным существованием. Восприятие мира сузилось до примитивно простого желания по первому же крику напыщенного старшины броситься исполнять приказ. Обвал команд, построений, передвижений, бессмысленные навязанные действия превратили жизнь в бесконечное броуновское движение, где не только подчиненные, но даже младшие командиры не всегда понимали смысл того, что вынуждены были делать.
Многократно звучащий от подъема до отбоя резкий окрик доводил всех до исступления. Попав во власть кажущегося порядка, новобранцы стали полностью зависимы от младшего командира, который не желал, а может, просто не умел разговаривать нормальным языком. Лишь грубые окрики да площадная брань с полным отсутствием любой информации. Часто курсанты ловили себя на том, что, запуганные непомерной строгостью и сухими параграфами Устава, превращаются в дрессированных тварей, которые своим беспрекословным подчинением и униженным раболепием ублажают звериные инстинкты властного меньшинства.
Холодная жестокость обращения, бесчисленное количество взаимоисключающих требований немедленно исполнять бредовые указания – все рождало в душе острое неприятие и лютую ненависть. К чему офицеры были абсолютно безразличны, так это к проблемам времяпрепровождения подчиненных. Но и свободное время целиком зависело от настроения старшины, который иногда мог разрешить пятнадцатиминутный перерыв в конце дня.
Казалось бы, чем можно занять людей на вдоль и поперек исхоженном плацу?
Правильно – строевой подготовкой. Но не просто подготовкой, а до кровавого пота, до стертых подошв кирзовых ботинок и потери чувствительности ног. Час? Два? – Три!! Под дикий рев старшины курсанты часами трамбовали асфальт, ненавидя свою долю. Устав орать, старшина принимал решение сменить поле деятельности.
Подумывая о каскадах новых препятствий, он давал указание взбегать на второй этаж ротного помещения, заставляя по нескольку раз мчаться туда и обратно и всегда оставаясь недовольным их рвением.
Терзаясь чувством собственного бесправия, курсанты обессиленно плюхались на табуретки, не успевая прийти в себя, как тут же вздрагивали от окрика отца-командира:
«Рота-а… построение на средней палубе!» Начальствен ный бас стал сущим проклятием для расслабившихся на табуретках невольников. В ответ они только зло цедили сквозь зубы: «Оп-пя-ять начина-ается». Но вскакивали и тут же мчались на грозный зов, вытягивались по стойке смирно.
– Объясняю новую задачу! – гремел перед строем старшина, широко разевая пасть и наблюдая за полным повиновением подчиненных, держал паузу. – Отработка элементов дня![1] – огласил он абсолютно идиотскую фразу, которую все не раз слышали. – Рот… а-а… к своим койкам, бегом ма-арш!..
Не успевали выполнить приказ, как он вновь заставлял занимать прежнее место, многократно повторяя команду бежать туда и обратно: «Рота-а-а, к своим койкам, бегом ма-арш!»
Пропитавшись потом, помещение превратилось в сплошной полигон бесконечных воспитательных действий, длящихся от подъема до отбоя.
«Отработка элементов дня» была ни чем иным, как заполнением дыр в распорядке дня, «солдатским дебилизмом», когда в полном смысле из ничего можно было сделать нечто, и это «нечто» раздувалось до таких размеров, что оставалось только гадать, кто научил командиров подобным дикостям.
Наивное мальчишеское понимание службы как преодоления реальных препятствий быстро разлетелось вдребезги, оказавшись среди запыленных стен с бесконечными рядами двухъярусных коек, напоминавших перилами тростниковые заросли. В беспределе беспорядка распорядок дня вовсе и не предусматривал занятий спортом, тем более что отсутствовал даже самый простой инвентарь.
Оторванные от бурной гражданской жизни, молодые парни оказались в совершенно диких условиях, где думать можно только по команде старшего и «согласно распорядку дня». Перед всеми была поставлена единственная задача: как можно меньше думать и не задавать никаких вопросов.
Мирков не помнил ни одной минуты, когда мог бы побыть в одиночестве. Не принадлежал самому себе: то он чувствовал в строю локоть соседа, то сопение тесно сидевших товарищей, то приглушенные недовольные голоса. Хо телось забиться в какой-нибудь укромный уголок и затаиться. Сумасшедший ритм жизни не позволял даже заводить знакомства, общение практически ограничивалось соседями по койкам. В этой скученной круговерти каждый был беспомощен перед мясорубкой армейской жизни.
Кажущийся порядок на самом деле представлял собою полную анархию и своеволие младших командиров, которые кроме распоряжений своего старшины были обязаны выполнять команды и требования еще шести вечно орущих старшин.
И когда казалось, что вот-вот наступит долгожданный отдых, эстафетная палочка переходила к другому желающему поразмяться командиру. И уже он привычно орал: «Рота-а-а!», что обязывало вскочить и слушать дальнейшие указания.
Все, что от них исходило, нельзя было назвать речью как таковой, скорее, криками, переходящими в дикий ор, именуемый «командирским голосом». Впервые столкнувшись с подобным явлением, курсанты дивились. Но если бы подобные звуки не существовали, то и не существовало бы того авторитета, которым, как заслонкой, прикрывались власть имущие. Это было чем-то таким же, что и оружие для солдата, умеющего защитить себя и других. И вовсе не важно, какой ты человек и что хорошего сделал в жизни, важно, какое у тебя горло. Мощностью голосовых связок оценивалась работа «товарищей-старшин», так как от этого зависели не только порядок и авторитет, но и получение знаков отличия, благодарностей и отпусков.
Больше всех докучал неуклюжий старшина 2-й статьи Забродский, человек с усталым лицом, открыто издевавшийся над подчиненными. Он словно радовался страданиям других людей, находя в этом прелесть. Деспотизм Забродского вмиг проявлялся, когда он обрушивал на беззащитных курсантов весь свой садистский арсенал. И тогда вокруг все кипело, превращая людей в бешеных собак со взмыленными спинами. В пылу страсти его крики были подобны звериному реву орангутанга. Врастая в пол, Забродский беспрестанно кричал, заставляя многократно повторять только что выполненное упражнение.
Словно иерихонская труба, обрушивал децибелы мощного баса на шеренги замеревших парней, приговаривая: «Вы – „душары“… и другого к вам отношения не будет!»
Его «душары» раскатывалось оглушительно гулко, выворачивая душу наизнанку. Любимое слово делил на двечасти: сжимающий сердце слог «ду!», рыком рвущийся из глотки, и тут же, вслед, змеиным шипением «ш-ш-ша-ары!», заставлявшим цепенеть ряды.
Служба распределялась на условные, неизвестно кем установленные периоды армейского существования со статусом, который определял сущность отношений старшего призыва к его обладателю. И первое, что открывалось новобранцам, – это то, что они пришли не пополнить большую семью, а принять тяжкий груз бремени, сброшенный другими. Во всем была какая-то огромная несправедливость, которую никто в мире не мог исправить.
Служба сопровождалась совершенно безобидными наименованиями, но чем больше отсчитывалось сроков, тем приятнее было их слышать и носить.
До присяги – «череп»…
Это запуганный нескладеха в одежде на вырост с наголо бритой головой, который обязан не рассуждая бро саться на каждый громкий окрик.
После присяги – «дух»…
«Дух» имеет право носить прическу «полубокс», терпеть все, что «любезно» навязывают ему старшие.
Полгода службы – «карась». Самый мерзкий срок и обидное прозвище.
Закончив учебное подразделение, можно было полагать, что наконец-то навсегда расстанешься с жестоким обращением, что вступаешь в новую жизнь взрослым и умудренным службой человеком. Но вместо казавшегося близкого освобождения курсанты встречали в местах службы еще более непримиримую враждебную среду. Вновь становились младшими и бесправными. Все грязные работы, приборки, унизительные поручения и перепоручения – всё падало на плечи презренных, унижаемых всеми «карасей».
Год службы – «борзый карась».
Почти что просто «карась», с той лишь разницей, что есть уже другие «караси», которые выполняют часть работ.
Полтора года службы – «полторашник».
Долгожданный срок, на котором заканчиваются запреты и унижения и начинается новая счастливая жизнь «подгодка», которому можно делать все что вздумается и как вздумается. Он повелевает и подчиняет, не гнушается физическим насилием и словесным унижением. Старший над презренными и ничтожными, а значит, требующий соблюдения установленного сверху порядка.
Два года службы – «подгодок».
Теперь можно не тратить силы и энергию на то, чтобы держать всех в подчинении; для этого есть старательный «полторашник». Как правило, «подгодок» совершенно ничем не интересуется в этой жизни; живет за счет других, весел, независим и никому ничем не обязан. Готовит фотоальбом и выходную форму одежды.
Два с половиной года службы – «годок».
Робкое почитание другими; возможность вторжения в любую, самую интимную область солдатского быта, готовность ни на йоту не допустить изменения того порядка и закона, который долго соблюдал, терпя муки и побои. Чист и свят перед всеми, все делает чужими руками. Теперь все скудные блага в первую очередь для него; перед ним трепещут и лебезят. Даже альбом выполнен нанятыми «карасями». Теперь он диктует свои правила в коллективе, он – «отец-закононоситель» этого закрытого сообщества.
Три года службы – «гражданский».
Это человек, который уже держится за ручку дембельского саквояжа. Оборачиваясь назад, он видит бесполезно потраченное время, ощущает ледяной холод, сковавший сердце. Три года службы заканчиваются, и ты остаешься ни с чем – беспомощный и сломленный, со страхом встречаешь вымечтанное «гражданское» будущее.
А пока – только начало, и в полном соответствии с существующими правилами измученные курсанты ждут спасительного вечера. Имея право на свободное время, после изматывающего маринования возвращаясь в роту, они на бегу срывают шинели, готовясь к другому элементу распорядка дня. Дожив до программы «Время» (единственного, что разрешалось), брали табуреты и усаживались по двое, устраивали паровозики по обе стороны большого прохода. Прижимались грудью к спине впереди сидящего и, обнимая соседа коленками, усталыми закрывающимися глазами смотрели под потолок, где был установлен телевизор.
Обыденный просмотр информационной программы превращался в обязательное мероприятие со всеми вытекающими отсюда условиями. Все напоминало тюремную обстановку, где любое неподчинение, малейшее отклонение от установленных правил пресекалось и жестоко каралось. Всем вменялось в обязанность молча смотреть на экран телевизора, и стоило отвести глаза в сторону, или пошептаться с товарищем, или просто склонить сонную голову на плечо впереди сидящего, как строгий старшина, призванный одергивать подчиненных, приказывал под яться и многократно издевательски командовал: «Сесть – встать, сесть – встать».
По окончании дня проводилась ежедневная поверка, и после личной гигиены и криков старшины, заставлявшего многократно выполнять подъем-отбой, курсанты наконец припадали к подушкам.
Радостью и разнообразием среди серых будней была возможность раз в неделю помыться в бане.
В назначенный день из расположения роты вышел взвод курсантов с банными принадлежностями в руках. Грищенко придирчиво осмотрел оживленных в предвкушении приятных минут парней и бодро поинтересовался, не забыл ли кто чего-либо.
По прибытии в баню, обнаружив, что она оказалась занятой, старшина распустил строй. Разбрелись по сторонам, пользуясь редкими минутами свободного времени, разбились на мелкие группы. Потянулся сигаретный дымок.
– Оцэ мы хлопци попалы… – посетовал Козлов, демонстрируя добродушную улыбку на круглом лице. – Я гадав, що тут однэ, а тут зовсим другэ, – вздохнул он печально.
– А что ты хотел? – отозвался Мирков. – Поначалу трудно, потом легче станет.
– А ты что, считаешь, что так и должно быть? – удивился Чунихин, выделяющийся худобой и ростом. – По-твоему, дальше будет лучше?..
– Да, – уверенно подтвердил Александр.
– Ну ты даешь… – изумился Чунихин, – да ты что, не видишь, какие вокруг люди? Здесь же ни одного умного мужика в старшинах, только прихлебатели и горлопаны – все, кто от службы увиливает. Ты, может, скажешь, что и служить хочешь?
– Да, хочу.
– А ты, Козлов?
– Я, – тот покраснел, глазами попросил у товарищей поддержки, смущенно улыбнулся. – Нэ знаю, мабуть, хочу.
– А ты? – поинтересовался у Курочкина.
– Я, – пожал тот плечами, держа улыбку интеллигентного простака, – хочу. Я даже в военное училище поступал.
– Что, хочешь быть вое-енным? – поразился Чунихин.
– Да.
– И ты хотел бы всю жизнь провести вот в этом, – он повел рукой, – бардаке? Я бы никогда добровольно не пошел в армию, если бы меня не призвали. Зачем же из за дураков жизнь себе портить? Дома их навалом, еще и здесь их терпеть. Ты посмотри, – обратился он к Александру, – что ни мичман, то бездельник. Все, кто не хочет работать, остаются в мичманах. Ни хрена не делают, а зарплата такая же, как на заводе, да еще и паек. Чем плохо? Пришел на службу, первую часть дня проходил, вторую – поспал, и домой. Хорошая пенсия в будущем, зарплата идет, одежда казенная. Двадцать пять лет отслужил, и можно на пенсию, а на заводе паши до шестидесяти лет. И для старшин тоже лучше здесь служить, потому что там «годковщина» до полутора лет, а здесь полгода отслужил, замена пришла, и ты уже сам себе хозяин, никто слова не скажет. Вот поэтому и стараются, рвут глотки, только бы их не отослали на корабли. Вот так. А ты говоришь – служить хочу. Где ты ее видел, нормальную службу?
Анатолий Чунихин
Виктор Страх
Весна 1983 года, г. Николаев
Мирошников, Грищенко, Семенихин
Александр сдержанно промолчал.
– Мне бы побыстрее срок оттарабанить, и-и… домо-ой… Дома всегда лучше, – не унимался Чунихин.
– Ничего: служба даром не проходит. Она воспитыва ет, делает другим человека, – не сдавался Мирков.
– Ой-ой! – улыбнулся Чунихин. – Воспитывает, закаляет. Что тут может воспитывать или закалять? Издевательства, унижения? Старшинам же заняться нечем, вот и развлекаются.
– Та правда, – перебил Козлов, – спортом нэ займаемся, ни чым нэ займаемся, та воно мэни и нэ надо, но все равно було б лучше, чем шагать по плацу или бигаты по роте. Цэ вжэ набрыдло.
– Да, тяжело, но нужно терпеть, – легко согласился Мирков, думая о чем-то своем, – перетерпим полгода, на кораблях другая жизнь начнется.
Неподалеку в одиночестве скучал Грищенко. Из всех старшин он выделялся обыкновением не драть горло, как Забродский, и не докучать подчиненным. Все больше молчал и был в стороне. Отличаясь мягкостью характера и голоса, Грищенко почти не «снимал стружку», лишь изредка показательно заходился в оре, как Забродский. Но даже тогда голос его звучал мягко и без ярости. Отработку «элементов дня» проводил вяло, будто исполнял неприятную обязаловку, тем и притягивал к себе подчиненных.
– Товарищ старшина 2-й статьи, а правду говорят, что вы служили на корабле? – неожиданно обратился к молчаливому Грищенко один из группы, привлекая к себе внимание командира.
Чуть поведя глазами, тот скромно поделился, что полгода нес службу на корабле. Все, любопытствуя, потянулись к нему, ждали чего-то интересного.
– Он мне говорил, – бормотал на ухо Александру Чунихин, – что работал на пивзаводе; хвастался, что пиво пил каждый день, – хихикнул по-детски. – Я, я… ему сегодня утром прыгнул на голову…
– А где лучше служить?
– Конечно, в части… На корабле одно железо: никуда не пойдешь… а тут простор; можешь идти куда хочешь, да и чайная есть. Там «годки» ходят как волки; «скворца» получаешь чуть не каждый день. Да одно бачкование[2] чего стоит.
Все были удивлены нормальной речью командира.
Невразумительное «скворец» иногда проскальзывало в старшинской речи. Не понимая значения этого слова, курсанты попросили растолковать.
– Вы не знаете, что такое «скворец»? – удивился тот и подозвал к себе ближнего. – Вот смотрите, – указательным пальцем очертил круг на груди матроса, – это «скворешня», – и ткнул пальцем в центр солнечного сплетения, – а это отверстие для «скворца»: сюда и бьют, чтоб синяков не было.
– А вы получали?
– Приходилось… – ответил смущенно.
– А за что дают «скворца»?
– За что дают? – пожал плечами. – Да ни за что, просто не так посмотрел; не сделал того, что приказали. Там бьют без разбора, для профилактики.
Слушали, но все казалось бредом из далекой нере альности.
– Какая у нас будет специальность?
– Со специальностью вам повезло, – ответил командир, будто давно ждал вопроса. – Жить и работать будете в каюте, всех вас будут называть корабельной интеллигенцией, потому что будете ходить с папкой и никому, кроме командира корабля и замполита, не положено знать, чем вы занимаетесь.
Курсанты загомонили, улыбаясь при мысли об отдельной каюте.
– Почему нас все время «духами» называют? – раздался сердитый голос. – Это же идиотизм! Спортом не занимаемся, ничем не занимаемся… А только одно: «отбой-подъем», «отбой-подъем».
– Почему? – удивленно повторил старшина и, немного подумав, пояснил: – Потому что из вас душу вытряхивают. А ваше безделье скоро закончится; после присяги начнется совершенно другая жизнь.
– И еще, – осмелел кто-то из группы. – Передайте Забродскому: если будет так выстебываться, то нарвется.
Старшина с улыбкой ответил, что никому ничего не собирается передавать.
– А ты что, хочешь побить его? Попробуй… Он хоть на вид и не силач, но заломить может любого, – добавил спокойно.
– Ничего, люди найдутся.
Из бани вышел дежурный, разрешил войти. Курсанты загомонили и бросились в баню.
1
«Элементы дня» – армейский лексикон: все то, из чего слагается быт.
2
От слова «бачок» – емкость, в которой военнослужащим доставляют еду к столу.