Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей
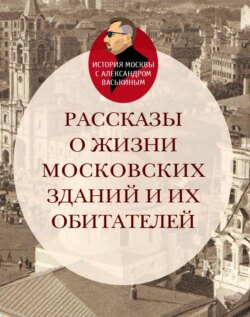
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Александр Васькин. Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей
1. Дом «под рюмкой» в Староконюшенном
2. Ярослав Смеляков на Арбате: «К врачам обращаться не стану»
3. Галерея на дому: у коллекционера Сергея Щукина в Большом Знаменском
4. У француза Шевалье в Камергерском
5. Ленинградский вокзал, бывший Николаевский
6. Усадьба Константина Станиславского в Леонтьевском
7. Дом тузов и шестерок в Романовом переулке
8. Живописная Кисловка: Поленов, Коровин и Якунчиковы
9. Отель «Националь». Приют московской богемы
10. У Щусева в Гагаринском
11. Дом советских писателей в Лаврушинском
12. У князя Шаликова на Страстном бульваре
Список источников
Об авторе
Отрывок из книги
Издавна в Москве было две Конюшенных слободы – Старая и Новая, как два автопарка, на телегах которых разъезжали не только царь-батюшка, но и его челядь, всякие там спальники да кравчие[1]. Староконюшенный переулок напоминает нам о самой первой по времени возникновения слободе, что стояла у Пречистенских ворот Белого города еще при Иване Грозном. После очередного большого пожара слободу со всем ее населением от греха отправили подальше, аж за Земляной вал, поближе к Новодевичьему монастырю, и стала она Новой Конюшенной. Было это в XVII веке. А старая слобода превратилась вскоре в весьма престижный район Первопрестольной, благодаря чему цены на землю выросли здесь в несколько раз (этот процесс, похоже, неостановим). Богатое дворянство охотно обживало район между современной Пречистенкой и Арбатом – то, что и сегодня мы называем Приарбатьем, место заповедное и аристократическое.
Существовало даже некое понятие «староконюшенной» жизни – «средоточия московской интеллигентской обывательщины», по выражению профессора и москвича Николая Давыдова. Среди жителей Приарбатья – герои Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, а также их старших коллег – Льва Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. «Мои ранние годы, – пишет Зайцев, – проходили в мирной, благодатной России, в любящей семье, были связаны с Москвой, жизнью в достатке – средне-высшего круга интеллигенции русской». Свой круг, свои люди, не меняющиеся десятилетиями семейные устои и традиции сытой и тихой жизни, передававшиеся из поколения в поколение, только не в усадьбах среднерусской полосы, а в самом что ни на есть центре города. И все это с определенным апломбом. Недаром у Петра Боборыкина в романе «Китай-город» (1882 г.) находим фразу: «Вы вобрали в себя всю добродетель нашего фобура». Фобуром в те годы называли арбатские переулки в подражание Faubourg Saint-Germain – сен-жерменскому аристократическому предместью Парижа.
.....
Ну а кто же жил в этих роскошных апартаментах? Явно люди небедные, ибо на каждом этаже предусматривалось лишь по две квартиры, каждая площадью несколько сотен метров и чуть ли не по десять комнат. Например, в квартире № 8 обитал известный московский хирург и уролог Петр Дмитриевич Соловов. Родился он в 1875 году в Скопине Рязанской губернии, после окончания в 1898 году Московского университета работал в его госпитальной хирургической клинике, а затем в земских больницах Воронежской, Пензенской и Екатеринославской губерний. В 1908 году, защитив диссертацию, Соловов стал доктором медицины. Немало пациентов поставил Петр Дмитриевич на ноги, он лечил людей и в Пироговской больнице, и в Боткинской, и в других клиниках Москвы. Пользовал он и Льва Толстого, был домашним врачом в семье Третьяковых.
На Арбате Соловов поселился в 1913 году, пациенты приходили к нему прямо домой, бывало, что по 30–40 человек в день. Женщин и мужчин он принимал в отдельных просмотровых комнатах, были и помещения для ожидания, где больные ждали своей очереди. Можно себе представить, как осложнялась жизнь членов семьи доктора – фактически квартира превратилась в проходной двор, куда приходили даже ночью с разными болячками. У Соловова была жена, три дочери и сын, жившие в этой же квартире. Так что сравнивать Соловова с профессором Преображенским из «Собачьего сердца» можно лишь с некоторой условностью. Вот почему вскоре Соловов приобрел на Большой Молчановке участок земли под хирургическую лечебницу, где он предполагал и жить со своей семьей. Но обстоятельства сложились по-иному. Во время Первой мировой войны лечебницу занял госпиталь, ну а после 1917 года – знаменитый родильный дом Г.Л. Грауэрмана, где появилось на свет немало замечательных москвичей. Февральскую революцию жильцы дома встретили восторженно. Узнав об отречении царя, они вместе со всеми москвичами участвовали в стихийной демонстрации, когда на улицы Москвы вышло более полумиллиона человек – четверть городского населения! Получивший свободу народ сразу принялся ловить городовых, олицетворявших старую надоевшую власть. Кого-то из пойманных просто побили, кого-то сбросили в ледяную Москву-реку. Вместо полиции придумали народную милицию, в которую записывали всех подряд, лишь бы с оружием. Дворники бросили метлы и веники и пошли организовывать профсоюз с требованием увеличения зарплаты. Один митинг сменял другой. Все бросили работу и говорили, говорили, говорили…
.....