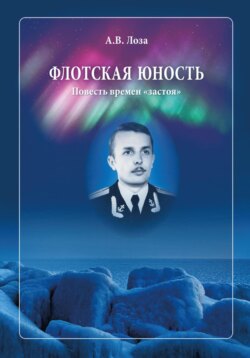Читать книгу Флотская Юность - Александр Витальевич Лоза - Страница 1
ОглавлениеОт автора
Успех книги о судьбе офицера российского императорского флота, написанной в едином душевном порыве, длившемся в общей сложности 4,5 года, заставил меня поставить точку в литературно-исторических изысканиях, так как я не был ни историком, ни литератором. Я сделал то, что, видимо, было предначертано мне судьбой, и с легким сердцем поставил точку!
Но прошло немного времени, и я почувствовал, что что-то в той книге оказалось не высказано, ибо формат исторического романа о конкретных людях не позволил разгуляться эмоциям и фантазии. Наверное, и правильно, автор обязан иметь чувство такта и меры, берясь за подобные исследования.
А вот теперь, вы держите в руках книгу, где нет подлинных героев, нет фамилий и адресов и нет ссылок на архивные документы. Все события в ней вымышлены, совпадения, если они и происходят, случайны, и автор приносит свои извинения, если кто-либо узнает себя в той или иной ситуации.
Повесть написана от первого лица – это литературный прием, позволяющий упростить повествование, сделать его доступнее для читателя.
В повести все, что касается ее героев – чистый вымысел, но вместе с тем подобные события могли быть, потому что действительность порой куда изощренней, чем самая буйная фантазия автора, описывающего необычные житейские ситуации, тем более что жизнь никогда не повторяется, ее картинки, как в калейдоскопе, у всех разные.
С другой стороны, исторические события происходившие в стране и в мире, упоминаемые в повести, имели место. К сожалению, я не вел дневников – это не в моем характере, поэтому воспоминания мои о том времени спонтанны, разрозненны и не претендуют на полноту. Память, по одному ей известному принципу, формирует то или иное воспоминание, и оно, подернутое флером времени, ложится на бумагу. Но, недаром говорится, что историю нельзя уничтожить или переделать, пока живы те, кто был ее свидетелями и участниками. Ну, а время описываемых событий – с середины 1960-х по конец 1970-х годов, к которым приклеили ярлык – «период застоя» – по моему мнению, самое золотое в нашей истории.
Начиная эту работу, я как-то неожиданно для себя осознал, что никогда больше не будет ни пионерии, ни комсомола, не будет надписей «Слава КПСС!», не будет очередей за вареной колбасой по 2 рубля 20 копеек и за водкой по 2 рубля 87 копеек, не будет культа науки и дешевых книг, не будет споров между «физиками» и «лириками»… Все это никогда не повторится. Все это – уже прошлое, наше, мое прошлое…
Именно это прошлое наложило свой неповторимый отпечаток на людские судьбы и может быть интересно читателю, ибо прошедшие без малого 50 лет для нескольких поколений молодых людей уже далекая история, хотя, кажется, что все было как будто вчера. И я зашагал по улицам воспоминаний…
«Период застоя», «эпоха застоя» – назвать так лучшее время в истории нашей страны
– это вранье, это очередной миф, который распространяют о нашей стране наши «друзья-недруги». Еще Екатерина Вторая, урожденная немка, говорила: «Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский». Так что нам не привыкать.
Слово «застой» впервые появилось в докладе генерального секретаря партии, которого на Западе называли «Горби», на последнем в истории съезде: «…в жизни общества начали проступать застойные явления», ретивые журналисты мгновенно подхватили и превратили в «эпоху застоя», превратили в штамп, хотя время это давно закончилось и уже принадлежит истории.
В официальных советских источниках того времени период с середины 1960-х годов до середины 1980-х именовался «развитым социализмом». Время это было отмечено отсутствием каких-либо серьезных потрясений в политической жизни страны, социальной стабильностью и относительно высоким уровнем жизни населения.
Действительно, «застой» – это время, когда ничего не происходит, все стоит.
Но человеку, жившему в то время, трудно принять всерьез вздор о том, что в стране ничего не происходило. Это было время интересных и разных событий… и внутри страны и за рубежом.
Именно в «годы застоя» наша страна окончательно превратилась в мировую сверхдержаву. В 1970-х годах страна производила внутри себя почти все необходимое для жизни – от ракетоносителей и самолетов до одежды и нижнего белья. В науке работал миллион специалистов, что в 1975 году составило четверть научных работников мира. У нас были получены элементы таблицы Менделеева 104, 105, 106, 107 и 108 и синтезированы сверхтяжелые элементы с атомными номерами со 112-го по 118-й. Наши ученные произвели фундаментальные открытия в ядерной физике, создали лазер, расшифровали письменность индейцев майя.
Реальные доходы людей выросли более чем в 1,5 раза, население увеличилось на 12 миллионов человек. Бесплатным жильем было обеспечено 162 миллиона человек, а квартплата не превышала 3% дохода средней семьи. Здравоохранение было всеобщим и бесплатным, как и образование. Отсутствовала безработица.
К концу 1970-х годов мы занимали 1-е место в Европе и 2-е в мире (после США) по объемам промышленности и сельского хозяйства. Это было время строительства новых городов и целых промышленных районов. Это было время торжества Большой науки. Это было время могучего Океанского атомного флота…
Время наивысшего созидания, взлета страны, ее расцвета, и вдруг «застой» – смешно!
В этой книге можно найти многое – и смешное, и грустное, но только не «застойное». Время было такое… Для себя эту повесть я считаю неоконченной.
И все же, почему неоконченная повесть? Да потому, что каждый, кто жил в то время, при желании может продолжить повесть или даже закончить ее.
Глава 1
Приморский город. 1967 год
…Актовый зал в бликах искусственных снежинок от вращающегося под потолком зеркального шара наполняли танцующие пары. Школьный вечер, посвященный новому, 1968, году, был в разгаре. Только что закончился твист, и мы, слегка запыхавшись, стояли у эстрады. Я очень любил твист – это мой танец.
В зале приглушили свет, и зазвучала медленная завораживающая мелодия Сальваторе Адамо «Tombe la neige» («Падает снег»). Ко мне подошел приятель из бывшего параллельного класса, он был невысокого роста и, по-моему, несколько комплексовал по этому поводу.
– Слушай, пойди, пригласи вон ту «герлс», а я посмотрю, какая она ростом.
Он перевел взгляд на девушку, стоявшую с подружками недалеко от эстрады.
Я видел ее впервые, хотя проучился в этой школе несколько лет. Мы выпустились летом, но пришли в родную школу на новогодний вечер, потанцевать. В те годы в городе было не так много танцплощадок – одни считались «матросскими», а на других «блистала» в основном городская шпана.
Я кивнул приятелю и пригласил девушку на медленный танец.
Тогда мы много и с удовольствием танцевали… Вообще-то я мог и любил потанцевать и поухаживать. Мне нравился сам процесс. Разговор у меня легкий, для девушек интересный – я был достаточно эрудированным и начитанным молодым человеком.
Школьный актовый зал навеял воспоминания о годах учебы, проведенных в школе.
Наша школа, построенная еще до революции, расположенная на вершине холма и обращенная к бухте большими и высокими окнами, была украшением Северной стороны города.
Казалось, будто вчера, окуная перо в чернильницы-непроливашки, мы писали в тетрадях в косую линейку первые слова… Затем на смену перьевым ручкам пришли ручки шариковые, а на смену фантастики Жюль Верна и Конан Дойля пришло увлечение новыми советскими фантастами и их произведениями: «Двести двадцать дней на звездолете», «Магелланово облако», «Туманность Андромеды»… Как много мы читали тогда! Чтение было повседневной, бытовой нормой. Не читать было примерно так же стыдно, как не чистить зубы.
Мальчишкой я всегда восхищался техническим прогрессом – символом мощи нашей страны. Сначала для меня его олицетворял реактивный самолет «МИГ-15». Стремительные очертания которого – короткая обрубленная спереди сигара фюзеляжа, колпак кабины, откинутые назад крылья и высокий скошенный хвост – я часто рисовал в своих тетрадях. Затем – первый реактивный пассажирский лайнер – красавец «ТУ-104», потом пошли ракеты, спутники и, наконец, взлет человека в космос! Первый человек в космосе наш!
Газеты писали о первом в мире советском атомном ледоколе! Первенство нашей страны в космосе, в атомной энергетике, в авиации было для меня, школьника, естественным и неоспоримым.
А какие замечательные, пронзительные фильмы выходили тогда: «Чистое небо», «Тайна двух океанов», «Человек-амфибия» – с голубыми красками неба и голубыми красками подводных съемок и песенкой про «морского дьявола». Невероятные технические достижения вливались в мою жизнь и становились привычными – атомная энергия, телевидение, электроника, кибернетика, полимеры, полупроводники…
На уроках мы писали сочинения: «Какой я представляю жизнь при коммунизме?» С уверенностью, свойственной безоглядной юности, я писал: «При коммунизме основным смыслом жизни станет наука, познание безграничной и бесконечной Вселенной…»
И вот школа уже позади…
В 1967 году на меня обрушились песни. Обрушились внезапно, как тропический ливень. Сначала Городницкого:
У Геркулесовых Столбов
Лежит моя дорога.
У Геркулесовых Столбов,
Где плавал Одиссей…
Затем Высоцкого, еще альпинистского:
Парня в горы тяни, рискни!
Не бросай одного его.
Пусть он в связке с тобой одной,
Там поймешь, кто такой…
Почему я ничего не знал об этих песнях раньше, объяснить уже трудно. Что-то слышал, конечно, о самодеятельных авторах. Но поглощенный книгами и учебой, не обращал внимания. И вдруг эти песни… Они стали для меня откровением, открытием… Открытием бардовской песни, оказывается, существующей тут, рядом со мной, но какой-то как бы незаконной, вернее живущей по своим, особенным законам.
Ни один походный костер, непременный атрибут туристского палаточного лагеря, вокруг которого проходило общение, а в 1960-х – 1970-х годах в походы ходила вся страна, – не обходился без песен под гитару самодеятельных авторов. Ходили в походы ученые – доктора и кандидаты наук, студенты, учащаяся молодежь. Песни у костра были о странствиях, о природе, о чувствах, о том, что, несмотря на «палаточный неуют», после нескольких дней, проведенных в походе, по сути в другом мире, так тяжело возвращаться в задымленный и запыленный город…
Эти песни произвели на меня удивительное впечатление, не только своим содержанием, но
и тем, что, оказывается, можно вот так, под гитару, читать – петь их. В этих песнях «просто жить», не ставя перед собой цели, считалось недостойным творческого человека и даже неприличным. «Бездуховное мещанское существование» всячески высмеивалось. Нормой жизни считалось не просто работать, а обязательно гореть, вкладывать в любимое дело всего себя, не думая о материальных благах.
Бросить большой город и ехать работать на целину, в малообжитые районы Сибири, – представлялось овеянным флером романтики. А покорение Севера, героизм первопроходцев стали главными темами песен.
Бардовская песня обожгла меня, опалила сердце. Песни Визбора, Клячкина, Кукина, позже Татьяны и Сергея Никитиных – интеллигентные, романтичные – вошли в мою душу.
Звон гитарных струн ударил по струнам моей души, вошел в резонанс и перевернул всю душу… То, что мне тогда казалось лишь данью романтики, с годами обернулось твердой жизненной позицией.
Сейчас я понимаю, бардовская песня – это русский феномен, которому суждена долгая жизнь.
Мне всегда нравился наш южный приморский город, красивый в любое время года и при любой погоде. Особенно хорош Приморский бульвар с изящным каменным мостиком с барельефами драконов по бокам арки, с красивыми белокаменными зданиями, обращенными фасадами к морю, – Биологического института, Дворца пионеров, Драматического театра.
Наш городской Драматический театр очень красив. Интерьеры здания – чудо «сталинского ампира», много великолепной лепнины, росписей, позолоты.
Прекрасна белая колоннада пристани, построенной еще при императрице Екатерине II, позже названной «Графской» и ставшей символом города. Красив, в своих развалинах, возвышающийся над городом Владимирский собор – усыпальница четырех адмиралов.
Иногда, по настроению, я любил побродить среди величественных руин древнего Херсонеса, с остатками крепостных стен, колоннами базилик и ступенями амфитеатра, вызывавшими восхищение греческими колонистами, выходцами из Гераклеи Понтийской, создавшими удивительный город на берегах Понта Эвксинского.
Седая древность притягивала и завораживала бездной времени, пролегшей между мной и
жителями Херсонеса, ступавшими две с половиной тысячи лет назад по этим мостовым, по этим, сейчас уже истертым временем, каменным плитам…
Здесь крестился князь Владимир, отсюда пошло православие на Руси.
Мне нравился низкий голос огромного херсонесского колокола, когда брошенный камушек ударял о его край. У этого колокола своя история. После Крымской войны французы вывезли колокол в качестве трофея, и он несколько десятков лет висел в соборе Парижской Богоматери в Париже, а когда в 1913 году отношения улучшились, его вернули обратно. Колокол много лет выполнял роль звукового маяка. Во время тумана монахи звонили в него, предупреждая корабли об опасности.
Наш город – город особенный, морской форпост на юге страны. Его история – история
побед русского оружия, русского духа, о чем зримо свидетельствуют многочисленные
памятники города: от скромного – подвигу экипажа брига «Меркурий», вышедшего победителем в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, с дерзкой надписью «Потомству в пример» и стройной колонны с орлом на вершине, венчающей рукотворную скалу в бухте – «Затопленным кораблям» в Первую оборону, до величественного монумента матросам и солдатам Второй обороны.
Наш город – город-форпост, преданный и переданный по пьяни руководством СССР в конце ХХ века одной бывшей республике, в одночасье ставшей «самостийной и незалежной» страной, правда никогда до этого не знавшей государственности, невзирая ни на что, через много лет все равно вернулся в родную гавань.
Скажу о себе. Я никогда не сомневался, что рано или поздно это возвращение произойдет.
Но то, что все произошло так бескровно и неожиданно для всего мира, ставит это деяние в один ряд с деяниями Великой императрицы Екатерины Второй.
Мне всегда нравились улицы нашего приморского города с белоснежными красивыми зданиями, возведенными из инкерманского камня, с тенистыми балконами увитыми виноградом…
В советские времена на улицах было изобилие наглядной агитации: плакаты с лозунгами «Слава КПСС!», «Вперед к победе коммунизма!» висели в каждом городе. В каждом городе, и в нашем тоже, была улица Ленина. На одном из домов этой улицы висел огромный плакат, на котором Владимир Ильич Ленин, глядя на пешеходов, вытягивал руку в характерном жесте, и, если смотреть вдоль его руки, взгляд упирался в пивной ларек у стены
соседнего дома, а на плакате слова Ильича: «Верной дорогой идете, товарищи!»
Ничего, кроме смеха это не вызывало, но плакат висел на улице несколько лет.
В свободное время частенько бывал в кино. У меня вызвали сильные чувства трагические судьбы героев ставшего позже культовым французского фильма «Мужчина и женщина», где в главных ролях снимались Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме. Он – мужчина, профессиональный автогонщик. Она – красивая, умная женщина. У каждого из них было свое, с привкусом печали, прошлое. Эмоции и переживания героев этого фильма как будто проникали с экрана в мою жизнь, в мою душу…
Фильм завораживал чистой красотой в каждом своем моменте – в развевающихся на ветру волосах героини, в пересекающихся взглядах, в руках, робко тянущихся навстречу друг другу… Этот фильм – повесть о любви, реалистично поставленный и смотревшийся на одном дыхании, был созвучен моим переживаниям, в те дни.
Очень нравился мне и другой французский фильм – «Искатели приключений» с Аленом
Делоном, Лино Вентуро и Джоанной Шимкус, ошеломивший тогда советских зрителей.
Иногда мы слушали новые пластинки в гостях у моего приятеля – души нашей компании – студента-медика, мы его так и звали Студент, когда его мамы не было дома. Студент слыл большим знатоком английских и американских рок-групп, коллекционировал пласты, и у него была отличная стереоаппаратура. Он водился с «фарцой» и через них доставал новейшие «не запиленные» пластинки.
Их уютная однокомнатная квартира, обставленная с большим вкусом, с огромным ковром на полу, являлась для нас тогда теплым и интеллигентным прибежищем, где можно было спокойно покурить (ребятам – на балконе, девчонкам – в комнате), выпить вина, потанцевать, сняв обувь, босиком. Танцы босиком, в полумраке настенного бра, это совсем другие танцы, чем на танцплощадке.
Студент брал пласт, так называли тогда граммофонные (виниловые) пластинки с записями зарубежных групп и исполнителей, как правило, средним пальцем одной руки и одним пальцем (средним же) другой и аккуратно ставил на стереопроигрыватель. Алмазная игла автоматически на микролифте медленно опускалась на пластинку, раздавалось легкое шуршание, если пласт был «не запиленный», и из разнесенных колонок звучала музыка со стереоэффектом от которого мы, расположившись на полу, на ковре, «кайфовали» больше всего.
Это слово – «кайф» («кейф») – было в те годы очень популярно. Тогда в десятках вариантов говорили: «кайфовать», «получать кайф», «в кайфе», «под кайфом», «кайфовый»… Слово это было похоже на английское, хотя появилось в русском языке еще в начале XIX века, из рассказов путешественников по Востоку и Египту: «Путешественники знают, сколь многосложное значение имеет выражение кейф на Востоке. Отогнав все заботы и помышления, развалившись небрежно, пить кофе и курить табак называется делать кейф. В переводе это можно было бы назвать наслаждаться успокоением».
Действительно, мы наслаждались и табаком, и вином, и музыкой и общением.
Музыкальные новинки бешено модных «Битлов», «Роллингов» и других групп придавали
нашим посиделкам «богемный» оттенок.
Обычно на журнальном столике располагалась открытая пачка «БТ» – для ребят, а для
девчонок – «Марлборо» или «Мальборо» – кому как нравится. Сигареты «БТ» были лучшими,
среди поставлявшихся тогда в Союз болгарских сигарет, таких, как « Шипка», «Опал», «Интер».
Пили в основном красное крепленое вино, иногда белое… Предпочтение отдавалось портвейну «Южнобережному», портвейну «777» – в народе «три семерки»,
«Агдаму» или, в крайнем случае, шел «Вермут» – «вермуть», с ударением на втором слоге
«муть», как мы шутили. Под сигареты и вино, кружившие головы, велись интересные,
временами задушевные разговоры…
Заканчивался 1967 год. Год моего окончания средней школы. Год, когда страна
грандиозным парадом отметила 50-летие Октябрьской революции, официально перешла на
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными, когда началось телевещание с Останкинской башни – самого высокого на тот момент сооружения в мире, когда из телецентра на Шаболовке стало вещать цветное телевидение и был налажен серийный выпуск цветных телевизоров, а на экраны вышла веселая кинокомедия «Кавказская пленница», до сих пор пользующаяся у зрителей фантастической популярностью…
К слову сказать, именно в этом 1967 году на Западе в закусочных «Макдоналдс» впервые появился бутерброд «Биг-Мак». Он стал настолько популярен, что по нему со временем стал
определяться паритет покупательной способности в мире – индекс «Биг-Мака».
Быстро пролетела недолгая южная зима 1968 года, и наступила весна. Я начал готовиться к поступлению в Военно-Морское инженерное училище. С детства я знал свое призвание. Отец мой был морским офицером. Жизнь моя проходила в приморских городах, где базировались корабли, на которых служил отец, а когда чтение стало любимым занятием, книги о море и кораблях стали моим любимым чтением.
Родился я в городе, который раньше назывался Императорская Гавань, на берегу Татарского пролива, отделенного островом Сахалин от просторов Тихого океана. Родители вспоминали, что после выписки из родильного дома маму и меня – новорожденного – доставили домой на полуостров Меншиков командирским катером. В каюте было душно, и мама, держа меня на руках, вышла на палубу подышать. Погода была ветреная, катер качало, и брызги, срывавшиеся с гребешков волн, попадали на меня. Так, во время своего первого в жизни путешествия я, как шутили мои родители, «оморячился» – омыло меня, что называется, в морской купели тихоокеанской волной.
В этом было что-то мистическое. Не каждому новорожденному суждено первые в своей жизни часы провести на командирском катере, по пути к дому – базе торпедных катеров. Не «судеб ли морских таинственная вязь» уже тогда начала плести узоры, сплетая из них мою будущую, связанную с флотом, судьбу?
Вырос я в семье флотского офицера, поэтому вопроса «кем быть?» для меня не существовало. Еще в дошкольном возрасте я уже бывал у отца на корабле и отлично помню, какое впечатление произвел на меня эскадренный миноносец.
Вообще, первое, что поразило меня – мальчишку – на корабле, это то, что все самые обыденные предметы были огромных размеров: литую телефонную трубку я еле мог поднять, она весила как гантеля. Один из гаечных ключей, которым работали матросы, был с меня ростом, а огромные звенья якорной цепи, казались цепочкой великана.
Я не боялся высоты и вместе с матросами, которые меня, конечно, подстраховывали, взбирался по скоб-трапу на верхотуру командно-дальномерного поста. Моряки усаживали меня в металлическое кресло и начинали гонять по кругу башню КДП, катая меня словно на карусели.
После команды по корабельной трансляции: «Провернуть механизмы вручную, электрическую, гидравликой!» я спешил в рубку торпедного аппарата. Внутри было два металлических кресла, одно из которых при проворачивании бывало свободным, так как матрос проверял что-то снаружи. Я усаживался рядом со старшиной, он разрешал мне надеть на ребячью голову настоящий шлемофон, в наушниках которого слышались шорохи, какие-то звуки, команды… Я брался руками за штурвал управления торпедным аппаратом, представляя, что веду бой.
С ютом эсминца у меня были связаны самые лучшие мальчишеские воспоминания о времени пребывания на корабле, потому что здесь показывали кино. Для этого разворачивали башню кормового орудия стволами на правый борт, вешали на башню большой полотняный экран. Киноустановка была узкопленочной, установленной на треноге, звук шел из ящика размером с чемодан. После каждой части фильм останавливали, перезаряжали новую бобину с пленкой и опять запускали фильм.
По праздникам в кают-компании собирались семьи офицеров с женами и детьми
возрастом от трех лет и старше. Я чувствовал себя почти школьником и не любил засиживаться за офицерским столом. К тому же надо было пользоваться ножом и вилкой, а с этим были проблемы. Я любил обедать с матросами, из общего бачка, выгребая «макароны по-флотски» из алюминиевой тарелки алюминиевой ложкой, облизывая ее до блеска.
На «Вспыльчивом» был строгий боцман, и я, мальчишкой шести лет, уже знал, что нельзя садиться на крашеный кнехт, нельзя облокачиваться на леера, нельзя плевать за борт, ронять сор на палубу. Я любил миноносец своей мальчишеской любовью, потому, что быть на боевом корабле, это возможность попасть в другой, серьезный мир моряков, которые и говорили со мной по-взрослому, и где я узнавал множество новых интересных вещей.
Так что «кем быть?» – было для меня совершенно ясно, а споры тех лет между «физиками» и «лириками», я решил в пользу «физиков», задумав поступать на факультет ядерных энергетических установок в военно-морское инженерное училище – «Систему», как говорили тогда люди, имевшие к этому отношение.
Весенние дни, с балдежными запахами сирени и зацветающей вишни, кружившими голову и будоражившими кровь, становились все теплее и теплее. Под стать весне бушевала среди молодежи и новая мода. Расцветшие буйным цветом в шестидесятые годы хиппи , «дети цветов», принесли в западные страны идеи мира и любви. Кумиры миллионов – Джимми Хендрикс, Элвис Пресли и другие их единоверцы – подхватили эту идею, и слухи о грядущем равенстве и братстве взбудоражили западный мир. Молодежные волнения охватили всю Европу. Общество пошло на компромисс, и пуританство католической морали уступило мест хиппующей молодежи, бурлящей гормонами, благими намерениями и любовью. Молодежная революция 1960-х сделала свое дело, сняла запрет на секс вне брака. Девушки до неприличия оголяли ножки, коротко стриглись «под мальчиков», а мужчины отращивали бороды и длинные волосы. Короткие юбки и брюки-клеш стали мировым поветрием в моде. Отблески этого пришли и в нашу моду. Мини-юбки, женские брючные костюмы и туфли-лодочки на шпильке, а у мужчин – белые нейлоновые рубашки и плащи болонья стали подлинным символом эпохи. Именно шестидесятые, это беспокойное десятилетие, заронили зерна нравственного раскрепощения и приоткрыли двери западной моде в нашей стране.
Я ходил в коротком шуршащем болоньевом плаще зеленого (бутылочного) цвета, расклешенных от колен брюках и остроносых туфлях. Плащи болонья, из капрона, обработанного акрилосодержащим полимерным составом, придающим ткани водоотталкивающие свойства, были тогда в большой моде. Их носили непременно с поднятым воротником и подпоясанным кушаком из той же болоньевой ткани, что делал и я. Так одевались герои Алена Делона во французских фильмах той поры. Достать болонью было сложно, плащи продавались только на барахолке.
Надо сказать, что «политическая оттепель», наступившая в стране в середине 1960-х годов, и приморское расположение нашего города привели к возникновению в нем рынка – «барахолки», где продавались привезенные моряками торгового флота из-за границы «шмотки»: нейлоновые рубашки, плащи -болонья, настоящие джинсы «Levi Strauss», «Wranler», женское нижнее белье, капроновые чулки без стрелки и безразмерные носки с «резинкой». Там же можно было приобрести фирменные пласты-«гиганты» для стереопроигрывателей и магнитофоны зарубежных фирм «Philips», «Grundig», «Sony».
Но, скажу честно, приобретать вещи на барахолке было очень дорого. Несмотря на это, новый пласт британской рок-группы из Ливерпуля «The Beatles» – «Битлов», под названием «Back in the U.S.S.R.» («Снова в СССР»), изданный в одной из скандинавских стран, наш друг Студент прокрутил нам почти сразу после появления пластинки в городе.
В конце марта произошла трагедия, потрясшая всю страну, да и весь мир. Погиб великий сын Земли, первый советский космонавт Юрий Гагарин вместе со своим инструктором, разбившись во время тренировочного полета на самолете МИГ-15 в небе над Владимирской областью. Из жизни ушел символ мировой космонавтики, отличный летчик и замечательный человек. Тысячи людей скорбели о погибших. Похоронили их в Кремлевской стене.
Как непредсказуема и скоротечна человеческая жизнь!
В те весенние дни я открыл для себя Эриха Марию Ремарка и его роман «Три товарища». На меня, на мое сознание роман произвел сильнейшее впечатление… Эта книга о дружбе, любви, о преданности, о хрупкости человеческой жизни потрясла меня. Мне кажется, «Три товарища» – самый красивый роман о любви, самый увлекательный роман о настоящей мужской дружбе, самый трагический и пронзительный роман о человеческих отношениях, который я читал.
Любовь и трагедия на страницах романа шли рядом, и рядом же с героями постоянно были рюмка с ромом, бокал с вином, стакан с джином или целая батарея бутылок, и мне казалось, что пойти на танцы, перед этим выпив пару стаканов вина, вполне естественно. Нет, это не было слепым подражанием. Это был стиль поведения – свободный, раскрепощенный, в чем-то вызывающий, что свойственно молодости, подкрепленный и, что греха таить, оправдываемый для себя примерами из классики. Да, пили мы тогда много, но в основном вино, поэтому сильно пьяными не бывали.
Теплыми весенними вечерами, расположившись на скамейке во дворе, мы нашей дружной компанией, а ее составляли четыре неразлучных еще со школьной скамьи товарища: я, Студент, и два наших друга, из которых один здорово пел и играл на соло-гитаре, а второй ему подыгрывал на ритм-гитаре, под переборы гитарных струн, пуская по кругу бутылку вина, часто не одну, вели разговоры далеко за полночь, мечтая и строя планы…
Мы втроем, понятное дело, кроме Студента, задумали поступать в «Систему», твердо решив заниматься на подготовительных курсах и серьезно готовиться к вступительным экзаменам, но наступившее лето, а вместе с ним и пляжный сезон спутали наши планы.
С утра до вечера проводили мы на городском пляже, валяясь на горячем песке, купаясь, загорая и изредка перекидываясь в карты в «буру». Конечно, тогда я не знал и не мог предположить, что воспоминания об этом южном солнце, об этом горячем песке помогут мне в будущем, на Севере, преодолевать и пронизывающий ледяной ветер, и жгучий холод.
Пляж был полон, но когда наша орава, в припрыжку, мчалась к воде, народ шарахался в стороны и мы с возгласами и смехом прыгали в воду, поднимая тучи брызг.
…Жара стояла неимоверная. В такую жару особенно приятно было выпить холодной газированной воды с апельсиновым сиропом из автомата, стоящего здесь же на пляже, для чего бросить в щель автомата трехкопеечную монету, подставить стакан и ожидать пока он наполнится шипучей, искрящейся пузырьками газировкой.
Перед этим, стакан нужно было помыть, для чего опрокинутый вверх дном поставить в углубление автомата, нажать на него, после чего стакан омывался изнутри струйкой холодной воды. Несколько граненых стаканов всегда стояли в углублении автомата и, что характерно, не пропадали. При этом никакие хвори никого не одолевали, никто из нас не заболевал и никаких эпидемий не происходило.
…После пляжа наша компания любила заглянуть в чебуречную на Малаховом кургане, возвышающемся на Корабельной стороне над городом и морем, с вершины которого открывается великолепный вид на бухту и корабли.
Спускаемся по лестнице под землю. Летом, в глубокой штольне времен Первой обороны, где разместилась чебуречная, прохладно. Вкусные, горячие, с пылу с жару караимские чебуреки сами просятся в рот. Надо аккуратно взять горячий чебурек, осторожно надкусить его, выпить мясной сок, по сути бульон, а потом есть хрустящее тесто с мясной начинкой, запивая холодным пивом «Жигулевским». Вкуснотища!
Вечерами засиживались в кафе-кондитерской «Снежинка», стены которой украшала лепнина в форме снежных сосулек и белых снежинок выделявшихся на голубом фоне стен и создающих уютную и своеобразную атмосферу. Мороженое нескольких сортов с вареньем и шоколадом, эклеры, профитроли с кремом и вино отлично поднимали настроение.
В один из веселых и беззаботных летних дней решено было пойти в поход на Южный берег, пока у нас есть время до вступительных экзаменов и пока, как пошутил кто-то: «Нас не забрили в «Систему» окончательно».
Надо сказать, что летом мы часто ходили в походы не только на Южный Берег, но и в пещерные города. Особенно любили Мангуп-Кале. Сборы были недолгими. В рюкзак бросались КЛМН – известное каждому советскому туристу сокращение, обозначавшее «кружка, ложка, миска, нож», без которых в походе никуда, продукты, на ноги – китайские кеды «Два мяча» – прочные, удобные, и в путь…
Тропа, по которой проходил подъем на горный утес Мангуп-Кале, очень крутая. Ноги впереди идущего – прямо напротив твоего носа. Путь долгий. Одежда на спине очень быстро промокала насквозь. В конце подъема на огромном валуне надпись – «С легким паром!» Сразу становилось весело и усталость куда-то улетучивалась. Привал делали у родника, вода которого – чистая и прохладная – казалась в тот момент самой вкусной.
Склоны горы Мангуп-Кале отвесные, труднодоступные, поэтому там в стародавние времена возвели крепость, развалины стен и башен которой сохранились до наших дней. На протяжении веков на вершине Мангуп-Кале укрывались тавры от скифов, скифы – от сарматов, сарматы – от готов и гуннов, а готы и русские – от татар.
Кого только не видела в своей истории земля нашего полуострова.
На плато Мангуп-Кале удивительный, особенный горный воздух – терпкий, пропахший медом и травами, густой, словно им не дышишь, а пьешь его. Лучше, чем сказал об этом поэт, пожалуй, и не скажешь:
Южный воздух
В баклагу налей.
Да, он льется,
Как льется вода,
В этих крымских
Безводных местах.
Он цветами и медом пропах,
Я такого не пил никогда…
Ночевали мы в пещерах древнего города – жутко и интересно.
…В поход на Южный берег мы собрались быстро – палатки, рюкзаки и подводное ружье взяли в «Прокате», ласты и маски были у каждого свои. Тушенку, макароны, рис, чай, сахар, хлеб и вино закупили в магазине «Продтовары». На Южный берег в турпоходы мы начали ходить давно, поэтому все было отработано. Походы длились две-три недели.
У нас было свое место – маленькая уютная бухточка, окаймленная огромными, скатившимися с прибрежных гор валунами, облюбованная несколько лет назад, в восточной части залива, имеющего древнее греческое название Ласпи. Мы сложили каменный очаг, а на одной из глыб выбили знак – ступню туриста, подтверждающий, что место это наше.
По приходе на место разгрузили рюкзаки, поставили палатки, развели костер… «Дикий» туристский отдых, подобный нашему, отлично показан в веселом и правдивом фильме «Три плюс два». Это было время в истории нашей страны, которое позже назовут «периодом застоя», а для нас это было золотым временем юности, временем, когда девушки, без охраны, могли спокойно путешествовать по Южному берегу.
На пути к Южному берегу остановились передохнуть на вершине перевала. Отсюда открылся потрясающий вид: склоны гор, поросшие реликтовыми соснами, амфитеатром спускались к морю; бескрайнее море, лазоревое у берега на мелководье и становящееся темно-синим на глубине, плавно терялось в мареве горизонта. Слева – гигантские глыбы, в доисторические времена скатившиеся с вершины горы, застыли в фантастических позах. От этой красоты захватило дух! Простояли несколько минут, любуясь чудесным видом, затем стали спускаться по едва заметной татарской дороге-тропе вниз, к морю…
Весь день наша компания купалась и загорала на камнях. Кто-то нырял за крабами и мидиями, кто-то охотился с подводным ружьем на прибрежных рыбешек.
Мне нравилось ловить крабов. Плавно скользя по поверхности моря, словно паря над безмолвным голубым миром, высматриваешь внизу зазевавшуюся добычу. Интересовали меня только крупные, с большими клешнями, крабы, которых мы называли «каменными». «Травяхи» – темные, верткие, с тонкими клешнями крабики, в расчет не принимались. Завидев на дне краба, через трубку делаешь сильный вдох воздуха, резкое движение ластами, и ты уже на дне в прохладной глубине. Осторожно заводишь правую руку под заднюю часть краба, левой рукой отвлекая его боевые клешни, сжимаешь пальцы правой руки и… – краб в сетке, привязанной к поясу. Позже пойманную таким образом добычу варили на костре и лакомились, запивая вином.
В вечерних быстро сгущающихся на юге сумерках мы ужинали тем, что приготовили нам «поварихи», и рассаживались плотнее вокруг костра, слушая и, кто как мог, подпевая нашим бардам. Песни были туристские, походные: «Все перекаты да перекаты…», «Если друг оказался вдруг…»… Эти песни, этот дым костра, это звездное небо над головой остались в душе и памяти навсегда, по крайней мере, пока мы живы….
Конечно, перед этим пили чудесное вино, разлитое, правда, не в бутылки, а в трехлитровые банки с металлическим крышками, которые открывали консервным ножом. В те годы так продавали и томатный сок, и виноградное вино. По кружкам его разливали по звуку бульканья – «по булькам», потому что в темноте было плохо видно кромку кружки. Пили под гитарный перезвон, сидя вокруг костра. Тесно очерченный световой круг высвечивался только лицами, и все они выглядели, по-моему, счастливыми…
Поутру особенно приятно было нырнуть с камня в прохладную прозрачную, зеленоватую воду, держа в зубах щетку с болгарской зубной пастой «Поморин», вынырнуть и, отфыркиваясь, чистить зубы, ощущая во рту вкус соленого «Поморина» и соленой морской воды.
…Несколько оставшихся дней похода пробежали быстро: играли в футбол «на котлеты» со старшими ребятами из расположенного недалеко пионерского лагеря, посетили, оставшись незамеченными для охраны, дачу «Тессели», где в свое время великий пролетарский писатель Максим Горький писал «Жизнь Клима Самгина», ходили в Форос за вином и хлебом.
Отдых промелькнул, как говорится, «на одном дыхании», и все завертелось: у нас начались вступительные экзамены в «Систему».
Экзамены мы сдавали через три дня, на четвертый. Иногородние ребята жили в казарме, а мы после очередного экзамена возвращались домой, с нетерпением ожидая результатов и решения приемной комиссии о допуске к следующему. Экзамены я сдавал легко, потому что хорошо усвоил школьную программу – в аттестате у меня были пятерки и несколько четверок.
Конечно, во время сдачи экзаменов отключаешься от внешнего мира – некогда смотреть телевизор, тем более читать газеты, но одна новость июля врезалась в память. По сообщениям газет, на пик Ленина десантировалась группа наших парашютистов, но погода резко изменилась, подул ураганный ветер и четверо человек погибли. Их тела завернули в парашюты и похоронили там же на пике.
Какой отчаянной смелости молодые парни!
Нам, абитуриентам, успешно сдавшим вступительные экзамены, предстояло пройти еще одно серьезное испытание. От его прохождения зависело поступление в «Систему». Предстояло испытать свой организм в барокамере. Как будет происходить процесс испытания, никто толком не знал, поэтому говорили всякое. Говорили, что если нет гайморита и других заболеваний ухо-горло-носа, то барокамеру можно выдержать.
Наконец, нас, большую группу абитуриентов, привели на станцию легководолазной подготовки, где располагалась барокамера. Барокамера – это металлический толстостенный
цилиндр, с иллюминаторами и входным люком в торце цилиндра. Внутри его вдоль по стенам установлены две длинные скамьи. В барокамеру компрессором подается воздух, создающий давление в пять атмосфер, что соответствует погружению на глубину 50 метров.
В барокамеру помещались шесть человек во главе с инструктором, у которого в руке был деревянный молоток. После начала подъема давления в барокамере,температура в ней тоже повышалась. Я держался. По достижению давления в три атмосферы одному парню стало плохо, и инструктор ударами молотка о корпус камеры просигналил об этом.
Давление сбросили, и абитуриент, которому стало плохо, покинул барокамеру.
По достижению давления в пять атмосфер мы в барокамере испытали азотное опьянение. Всем стало весело, наши голоса стали тоненькими, писклявыми, и мы без устали болтали этими кукольными голосами.
Наконец испытание было окончено. Я лично прошел его легче, чем ожидал.
…Ура! Мы поступили! Толпа озабоченной абитуры как-то быстро поредела и рассосалась. Казармы опустели. Мы поступили, но я и два моих друга оказались в разных ротах. А дело было так: нас, зачисленных, несколько сотен человек, выстроили на плацу перед казармами. Офицер объяснил, что будет называть рост, при этом имеющий такой рост, должен выйти из строя и встать на правый фланг, рядом с ним.
– Два метра десять сантиметров, – прозвучал первая цифра. Строй не шевельнулся.
– Два метра пять сантиметров. – Строй не шевельнулся.
– Два метра. – Вышел один парень.
– Один метр девяносто пять сантиметров, – продолжал называть цифры офицер. Вышло несколько человек, и пошло… Отсчитав первые 120 человек, из них сформировали 1-ю роту. В нее попали высокие ребята – мы их прозвали «столбы». В 1-й роте рост заканчивался на цифре один метр семьдесят пять сантиметров, и в нее попали два моих друга. У меня был рост 1 метр 74 сантиметра, и когда назвали цифру 1 метр 75 сантиметров, я мог бы выйти и стать замыкающим, то есть самым маленьким в роте «столбов». И я уже было собрался сделать этот шаг, вслед за своими друзьями, но что-то меня удержало. Я решил стать первым во 2-й роте.
Офицер снова выкрикнул:
– Один метр семьдесят пять сантиметров.
Я сделал шаг вперед. И так… следующие 120 человек, все почти одного роста, сформировали 2-ю роту. В 3-ю роту вошли ребята ростом 1 метр 60 сантиметров и ниже. Их сразу назвали – «клопы». Но, как всегда, не обошлось без курьеза. На построении отсутствовал один парень, он был в санчасти. Никто не знал его роста, поэтому решили, что лучше его определить в роту со средним ростом, то есть к нам. Но он оказался очень высоким, портил наш строй, и его определили в знаменосцы училища.
Так началась моя служба в «Системе».
Вначале меня многое поражало в «Системе». Само здание было большим, величественным, с длинными коридорами, с огромным читальным залом библиотеки и чертежным залом, со светлыми с высокими окнами классами. Огромное здание училища выходило своим фасадом на берег бухты с непонятным названием – «Голландия», которая в свою очередь, являлась частью огромной Северной бухты. Здание был старинным, явно дореволюционной постройки.
Нас переодели в робу темно-синего цвета с биркой – боевым номером, на котором указывался номер класса и порядковый номер по алфавитному списку класса, переобули в тяжелые яловые ботинки-«говнодавы» и выдали береты. Начался «курс молодого бойца». Строевые занятия, проводимые на плацу под палящим солнцем, а температура тем летом в нашем южном приморском городе достигала 35 градусов жары в тени, были для нас, вчерашних школьников, настоящей тяжелейшей работой.
– По разделениям! Дела-ай раз! – командовал старшина роты, и все высоко вскидывали одну ногу.
– Выше, выше! – звучала команда старшины, а тяжелый яловый ботинок тянул ногу книзу, и липкий пот заливал глаза и стекал между лопаток, оставляя белые соленые следы на синей робе.
Горячий асфальт жег ступни даже через подошвы грубых ботинок. Не все такое
выдерживали – случались и тепловые удары прямо на плацу.
Это были мои первые уроки повиновения, первые уроки воинской дисциплины.
Нас муштровали на строевых основательно. Но на что я сразу обратил внимание, курсанты третьего-четвертого курсов считали, что курсант «Системы» должен иметь вид весьма независимый, несколько расхлябанный, честь отдавать нечетко, одним словом – быть подчеркнуто небрежным. И скажу, мне это в чем-то импонировало…
Но не только строевые занятия мучили нас. Просыпаться по команде – первое, с чем
сталкивается любой новобранец, было очень тяжело психологически. Но именно с этого и начинается дисциплина, в том числе и самодисциплина.
Навсегда сохранил я в своей памяти щемящее ощущение горечи и досады, когда с командой «Подъем!» чувствуешь, как уходит, улетучивается блаженство, единственное доступное курсанту блаженство – блаженство сна, пусть даже на тощей казенной подушке.
Сон – это сказка!
Дежурный по роте, старшина и дневальные обходили роту, покрикивая на тянущих с подъемом, но, конечно, находились особо ленивые, которые делали вид, что встают, но, как только дежурный проходил, сейчас же опять заваливались в койку.
После сигнала «Подъем!» роты строились на плацу у «Шлюпочной базы» по форме: «Трусы – ботинки». По команде обувь снималась и ставилась рядом. После этого мы гуськом взбирались на вышку для прыжков в воду и прыгали, вернее нас с нее сгоняли криками, а иногда и силой, дежурный офицер или командиры рот, мы плыли вдоль берега метров двести и выходили из воды, чертыхаясь, отфыркиваясь и вытряхивая воду из ушей. Затем строились, каждый у своих ботинок, и надевали их. В этом был глубокий смысл: «Если обувь стоит нетронутая, значит, человек утонул и его надо срочно искать». На этом физзарядка заканчивалась.
После завтрака шли занятия по уставам, изучение устройства автомата и противогаза, потом строевые занятия, чередовавшиеся с уборкой помещений и подметанием строевого плаца. Во время подметания плаца пыль над ним стояла столбом, но мы старались поднять ее еще больше – просто так, назло всем!
«Курс молодого бойца» включал в себя не только строевые занятия. Офицеры кафедры «Морской практики» обучали нас вязанию морских узлов, флажному семафору, клотику и азбуке Морзе. Запомнилась поговорка одного из офицеров кафедры «Морской практики»: «На корабле не плавают, а ходят. Плавает говно в проруби!» и «Веревок на корабле две – бельевая и та, на которой вешают провинившихся. Остальные лини, концы, канаты, швартовы…»
Несколько раз мы ходили на училищное стрельбище, расположенное за пределами территории «Системы». Нам выдали по три патрона, и каждый пытался поразить мишень тремя одиночными выстрелами из «калаша» – автомата Калашникова. Не сразу и не у всех это получалось.
Как-то раз, утром, нас подняли по тревоге и бросили марш-броском по пыльному, покрытому желтой выжженной травой плато, в противогазах, с автоматами и подсумками. Тяжелый автомат и подсумок оттягивали бока, коробка противогаза била по бедру… Дышать было очень трудно. Многие сразу нашли выход – отвинчивали трубку противогаза от фильтрующей коробки – дышать становилось легче. Но в пылу бега, когда пот заливал под маской глаза, а очки маски запотевали, сложно было заметить как гофрированный шланг откручивался от маски и падал в траву.
После марш-броска еще долго бродили по плато отдельные фигуры, разыскивая шланги от своих противогазов, так как противогаз необходимо было сдать в собранном виде.
Загружали нас не только делами внутри училища. Были и погрузочно-разгрузочные работы на флотских минно-артиллерийских складах и на складах вещевого снабжения. Но особенно тяжелыми были работы в подвалах здания училища, где строились тогда помещения для новейшего учебно-тренировочного комплекса, имитирующего работу ядерной энергетической установки атомных подводных лодок второго поколения. Нам поручали выносить битый кирпич, камень и щебень, после демонтажа старых стен и пробивки новых проемов. Работали в жару, в клубах пыли, от которой слезились глаза, першило в носу и пересыхало в горле…
Не менее тяжелым было бетонирование полов в подвалах, куда мы, с трудом передвигаясь в узких проходах, вручную на носилках перетаскивали бетонный раствор. Нормы были немаленькие, и к концу дня я выматывался до предела.
Такая работа сгоняла лишний вес и лишний жир, у кого они были, очень быстро. Постоянно хотелось есть. Еда в столовой сметалась со столов, как говорится, в «мгновение ока», хотя кормили нас неважно. Курсантские названия блюд: «рагу по-бухенвальдски», «щи язвенные» – говорили сами за себя. Частенько дежурные старших курсов брали со своих столов бачки с первыми и вторыми блюдами, нетронутые старшекурсниками, и передавали их на наши столы. Мы съедали все, не заставляя просить себя дважды.
Меня и еще двух моих новых товарищей из класса – иногородних ребят – выручала моя мама, приезжавшая в «Систему» каждый день, ближе к вечеру, когда становилось прохладнее. Мы втроем быстро опустошали привезенные ею, уложенные в еще теплые кастрюли, домашние котлетки или отбивные, жареную курицу или рыбу, уплетая все это «за обе щеки» вместе с гарниром и салатом из свежей зелени, огурцов и помидоров, запивая потом домашним компотом из персиков. Это здорово поддерживало силы наших молодых организмов. Спасибо тебе, мамочка!
Август подходил к концу, но до присяги было еще далеко.
В один из дней августа, если быть точным, 20-го числа в 23 часа прозвучал сигнал боевой тревоги. Нас подняли по тревоге, выдали автоматы, противогазы. Всю ночь мы ожидали посадки, в качестве десанта, на пришедший накануне и стоявший в глубине бухты гигантский круизный лайнер. Его бело-черная громадина выделялась на фоне корабельных огней и в ночной темноте…
Так, мы с оружием, еще не принявшие военной присяги, чуть было не были втянуты в начавшуюся заваруху в Чехословакии.
Я знал из газет, что компартия этой республики пыталась идти по своему, отличному от всего социалистического лагеря, пути и что страны Варшавского Договора расценили это как контрреволюцию. События, длившиеся в Чехословакии почти год и получившие, с легкой руки журналистов, название – «Пражская весна», закончились стремительным и согласованным вводом армий стран Варшавского Договора и установлением полного контроля над чехословацкой территорией.
Но для нас все обошлось. Наутро мы вернулись в казармы.
«Курс молодого бойца» продолжался. Мы много и часто работали на камбузе нашей столовой. Выносили пищевые отходы, мусор, мыли посуду, чистили картошку – на то он и «курс молодого бойца». Основным местом нашей работы был овощной цех. Рассаживались на банках вокруг лагуна с очищенным в картофелечистке картофелем и в ручную, ножами, вырезали в картофеле оставшиеся глазки и потемнения, кидая затем чистую картошку в четыре ванны, прикидывая, скоро ли они наполнятся. Картошки было очень много, работы хватало на полночи.
Работа была грязная и тяжелая, но и в ней мы находили положительные моменты, когда в два часа ночи жарили на камбузе картошку – это было объедение! Жареной картошкой мы должны были накормить и сокурсников, не заступивших в наряд, потому что старая традиция гласит: «Поел сам – накорми голодного товарища!»
Постепенно втянулись, руки и ноги ныли меньше, но есть все равно хотелось. Правда, мы приноровились посещать магазинчик, расположенный в подвале дома, неподалеку от училища, и покупали там «сгущенку», пряники, реже конфеты. Был в роте случай, когда на спор, один парень выпил без остановки 10 банок сгущенки. Все думали, что ему станет плохо, но он только облизнулся и попросил еще… А сгущенку все-таки было жалко.
Дни бежали за днями. Есть хотелось постоянно. Запомнился случай: моему другу пришла посылка с копченой и соленой рыбой из города рыбаков – Керчи.
– Пойдем, посолонимся, – пригласил он меня. Мы выбрались за территорию училища, уселись на траву. Перед глазами расстилалась голубая гладь бухты. Приятель доставал из посылочного ящика, одну за другой, обалденно вкусно пахнущие копченые рыбины. Мы вгрызались в рыбные спинки, сочившиеся янтарным рыбьим жиром, и лакомились этим рыбным чудом, как сладкими пирожными. Хлеба у нас не было. Ели так. Незаметно съели всю крупную сельдь, потом перешли на рыбу поменьше. Посылочный ящик опустел…
Конечно, если бы у нас был еще и хлеб, трапеза была бы вкуснее…
Через час меня обуяла страшная жажда. Губы обсохли, во рту – сухой ком. На камбузе не мог удержаться и выпил весь компот с нашего и соседнего стола – 8 стаканов, но пить захотелось еще больше… Только после вечернего чая жажда понемногу утихла.
Да, посолонились…
Постепенно мы привыкали к казарме, в которой жили, к нашему ротному помещению, где стояли двухъярусные койки, сдвинутые между собой так, что оставался центральный проход, который называли «средней палубой» и который регулярно драили провинившиеся по пустякам курсанты. Я спал на втором ярусе койки, стоявшей у окна, – считал, что воздух тут свежее. У кроватей стояли деревянные прикроватные тумбочки, на которых мы должны были аккуратно сложить свернутое определенным образом, обязательно гюйсом наверх, обмундирование. Правильность и аккуратность укладки проверяли вечером комоды – командиры отделений.
В казарме находились: рундучная для хранения обмундирования; оружейная комната с нашими автоматами; сушилка, где сушились постиранные «караси», гюйсы и тельняшки; Ленинская комната, где стоял телевизор; бытовка и места гигиены, куда подавалась холодная вода.
Утром, сдернутый с койки командой «Рота, подъем!», еще полусонный, натянув брюки, с полотенцем в руках я спешил в умывалку. Там была распахнута на ночь форточка и гулял свежий воздух. Отвернув кран, подставлял руки под холодную воду (горячей у нас не было) – по коже шли мурашки. Потом плюнул на то, что вода холодная, начал плескать ею на руки и шею щедрыми горстями. Растеревшись до красноты полотенцем, чувствовал себя свежим и бодрым. Одним словом – человеком.
Постепенно я привык к этой ледяной процедуре. Наверное, это и есть закаливание.
Жизнь вошла в свою колею и тянулась обычным, строго размеренным темпом, чередуясь занятиями, строевыми учениями, едой и сном. Один день походил на другой как две капли воды и оттого пробегали не оставляя в памяти следов.
Со временем, стали проявляться черты характера того или иного нашего сослуживца: кто-то оказался неуживчивым, кто-то откровенным грязнулей, кто-то с хитрецой, а кто-то с ленцой. Что касается меня, то все приказания и поручения я выполнял, но без особой инициативы и рвения. От тяжелых работ не отлынивал, но знал и помнил флотскую мудрость, которой со мной делился отец: «На флоте бабочек не ловят, опоздавшему – кость», и что на флоте самое страшное – дурак с инициативой. Многие придирки старшин я считал пустыми, но рвать горло из-за этого не собирался. Вообще, как выяснилось, дисциплина меня не тяготила, но разгильдяйства в характере моем было предостаточно, поэтому частенько уборка «средней палубы» и гальюна были моими, как говорится: «За наглый взгляд и непочтение».
Особо «зверствовавшим» комодам – командирам отделений – мы отплачивали своей особенной монетой: связывали им шнурки ботинок между собой, прибивали гвоздями носки к полу, подставляли под койку перевернутую к верху ножками табуретку. И когда человек с размаху валился на кровать, ножки больно, даже через матрац, ударяли его по спине. Одним словом – отдавали дань…
За время «курса молодого бойца» мы освоили и особенности разговорного языка, которые были присущи только «Системе», подчеркиваю, не военно-морскому сленгу вообще, а именно курсантскому сленгу «Системы», поэтому для удобства понимания его читателями привожу несколько примеров:
абитура – претенденты (кандидаты) на поступление в «Систему»;
академик – курсант, не сдавший сессию (двоечник);
академия – период сдачи сессии (отдельных экзаменов) во время отпуска;
банка – табуретка;
беска – бескозырка;
гальюн – туалет;
губа – гауптвахта;
дралоскоп – стол со стеклом, с лампочкой внутри, для копирования (передирания) чертежа;
дучка – унитаз;
камбуз – столовая;
караси – носки;
класс – учебное помещение;
комод – командир отделения;
краб – кокарда (эмблема) на фуражку;
мица —мичманская фуражка;
обрез – тазик;
паровоз – устройство для натирки полов мастикой, весом 20 кг с четырьмя щетками;
палуба – пол;
политический – курсант, не отпущенный в отпуск за грубые нарушения дисциплины;
развод – построение суточного наряда;
режим – секретная часть (библиотека, спецаудитория, спецлаборатория) «Системы»;
самоход – самовольная отлучка из училища;
сампо – самостоятельная подготовка;
средняя палуба – центральный коридор в ротном помещении;
стасик – таракан;
сквозняк – увольнение с вечера пятницы до утра понедельника;
«Система» – училище;
фанера – неправда, шутка, слух;
шара – бесплатно, без усилий, халявно;
шило – спирт-ректификат;
шланг – хитрый, ленивый, отлынивающий курсант;
шкентель – окончание строя (последние ряды)…
«Курс молодого бойца» длился уже второй месяц, поэтому мы с тоской смотрели в дни увольнений на уходящий от пирса в город катер, переполненный белыми форменками старшекурсников. Нас, «молодых», не увольняли, потому что мы еще не приняли присягу.
Конечно, любой гражданский в любой момент, при желании, может подняться с дивана и отправиться на улицу наслаждаться быстролетной жизнью. Мы же, проходившие «курс молодого бойца», хотя и были еще гражданскими, так как не приняли присяги, фактически уже подчинялись военному распорядку жизни «Системы», приказам и приказаниям начальников и не распоряжались собой.
Оставалось идти смотреть кино в зале училища или телевизор в Ленинской комнате.
Наконец стало известно, что в конце сентября будем принимать воинскую присягу. Началась усиленная подготовка, ведь присяга является и клятвоприношением и торжественным обязательством. После ее принятия мы станем законными защитниками своей страны, с оружием в руках. Мы учили назубок текст присяги, статьи уставов караульной и гарнизонной службы. После принятия присяги предстояло первое увольнение в город. Готовили выданную нам форму первого срока: пришивали погончики, курсовки, полировали бляхи на ремнях. Одним словом, готовились.
Глава 2
«Система». 1968–1973 годы
В конце сентября 1968 года мы приняли воинскую присягу. Конечно, я волновался. Стоя лицом к строю, с автоматом на груди, держа в руке текст присяги и от волнения не видя его, я говорил по памяти. После присяги было разрешено первое увольнение в город. Погода стояла теплая, тихая, солнечная. В увольнение мы пошли по форме «два» – белые форменки, черные брюки и бескозырки с белыми чехлами. Как ни перешивали свою форму, сидела она на нас все равно мешковато, особенно на некоторых. Умение щеголевато носить флотскую форму не приходит за пару месяцев «курса молодого бойца».
Дома меня уже ждал накрытый в честь этого события праздничный стол. Отец, поставив на скатерть запотевшую «Столичную», сказал: «Принял присягу – дал клятву защищать Родину, значит – вырос, а раз вырос – имеешь право и выпить». Так я впервые, официально, при родителях поднял рюмку и выпил вместе с ними за столом.
Я поступил на первый факультет по специальности «эксплуатация ядерных энергетических установок». Два первых курса у нас были общеобразовательные, а с третьего
начиналась специализация. «Система» располагала прекрасной лабораторной базой с первоклассной техникой. Кафедра «Ядерных реакторов и парогенераторов подводных лодок» – первая в военных учебных заведениях, с лучшей в стране научно-экспериментальной базой. В этом была заслуга командования и профессорско-преподавательского состава.
Но обо всем по порядку…
Командовал «Системой» в те годы вице-адмирал К. Боевой офицер, воевавший в годы войны командиром боевой электромеханической части подводной лодки «Малютка», затем подводного минного заградителя «Фрунзенец», после войны успешно окончивший адъюнктуру и защитивший кандидатскую диссертацию. За годы его командования в училище были созданы новые учебные лаборатории, построены казармы и дома для проживания курсантов и офицеров. Им написаны десятки учебников и учебных пособий.
Крупный специалист по управлению и живучести подводных лодок, он написал более 40 научных трудов. Адмирал был интересным, талантливым человеком, глубоко одаренным композитором, имевшим несколько изданных сборников музыкальных фортепьянных произведений. Вокруг себя он сформировал сильный профессорско-преподавательский коллектив и развернул исследования по многим перспективным направлениям.
Осмотревшись и обжившись немного в «Системе», мы, курсанты, сразу же стали присваивать некоторым офицерам прозвища: так, нашего командира роты – сухощавого немолодого капитана 3 ранга прозвали «Пеца», видимо, по созвучию с его именем и отчеством. Начальника факультета капитана 1-го ранга, высокого, дородного, крупного мужчину с абсолютно лысым черепом, прозвали понятным и совсем не обидным прозвищем – «Фантомас». Так звали героя нашумевших тогда французских кинокомедий «Фантомас» и «Фантомас разбушевался» с Луи де Фюнесом, Жаном Маре и Милен Демонжо в главных ролях.
В классе ребята тоже как-то сразу приклеили кое-кому смешные прозвища. Появился «Фунтик» – так прозвали парня, очень щуплого на вид, появился – «Мастер», но не потому, что умел что-то мастерить, а по созвучию со своей фамилией, появился «Крошка» – не потому, что самый маленький, а потому что, наоборот, был самым высоким в классе. Давали и другие прозвища. Одни быстро исчезли, другие закрепились на долгое время.
В классе я сдружился с соседом по парте – «конторке», как мы называли длинные столы с откидывающимися крышками, за которыми сидели по трое. Он был родом из города в восточной части нашего полуострова, на месте которого в стародавние времена находился древнегреческий город Пантикапей – столица Боспорского царства. Увлекался древностями и, вообще, был интересным парнем. У нас было много общего: общие взгляды на мир, общее увлечение историей. В один из отпусков я побывал у него в гостях. Поднялся на гору Митридат, понырял до боли в ушах в море в районе древнегреческого города-полиса Ольвия в поисках остатков амфор и других древностей. Очень важно, когда у тебя есть друг, на которого можно положиться и в службе, и в учебе, и в жизни. Мы и стали такими друзьями. Это ему позже, на пятом курсе, я помогу написать дипломный проект, пока он женился и играл свадьбу. Третьим другом был наш одноклассник, сидящий также с нами за конторкой, который поддерживал все наши начинания и все наши планы в «Системе» и за ее пределами. Это с ними во время «курса молодого бойца» мы опорожняли принесенные моей мамой кастрюли с домашними обедами, что здорово поддержало наши молодые, вечно голодные организмы.
Постепенно учеба в училище вышла на первое место, но вместе с тем особенностью и, если хотите, спецификой нашей курсантской жизни было то, что приходилось осваивать науки с одновременным несением воинской службы. На первом курсе было очень много нарядов: суточная дежурная служба – дневальные и дежурные по ротам, дежурство по курсу, дежурные по контрольно-пропускному пункту (КПП) у входа в училище, рассыльные дежурного по училищу, караульная служба – караул и боевой взвод, дежурство в рабочем взводе – уборка в курсантской столовой, чистка картошки, мойка посуды. Тяжелая и неприятная работа.
Дневальство по роте было дежурством нетрудным. Стой у тумбочки, следи за порядком в роте, одним словом, служба в тепле и уюте. Как тут не вспомнить стихотворение курсантского поэта, написанное в 1948 году и точно отражающее особенности несения службы дневальным и в мое время:
Я дневальный, наряженный
Эти сутки прослужить
И правами наделенный
За курсантами следить.
Целый день за распорядком
Строго-настрого слежу, -
На прогулку, на зарядку
Вместе с ротой не хожу.
Чистота – закон на флоте,
Вся ответственность на мне,
Соблюдаю ее в роте
И особо в гальюне.
Чтобы в роте не водились
С паутиной пауки,
Чтобы мухи не садились
На винтовки и штыки.
Будь всегда одет опрятно,
На посту нельзя курить.
Как легко и как приятно
По инструкции служить!
Наряд на КПП тоже был не слишком тяжелым, открывай ворота да проверяй пропуска. Было два места несения дежурства – «северные» ворота и «южные» ворота. Самым спокойным считалось дежурство у «южных» ворот, так как место было удаленное и чувствовали мы себя там вольготно. Можно было даже вздремнуть вполглаза. Главное было не проспать машину проверяющего. Обязанности простые: открыть ворота выезжающему автотранспорту или взводу курсантов, следующему на стрельбище. В хорошую погоду – вообще лафа! Другое дело «северные» ворота. На этом КПП постоянно толпились знакомые и родственники курсантов, было шумно, сновали какие-то люди, приехавшие кого-то проведать, многие без документов, требующие вызывать того или иного курсанта. Наряд был нервным и тяжелым. За время дежурства из тебя выпивали «море крови»
Пожалуй, самым серьезным нарядом в «Системе» было несение караульной службы. В карауле выдавали автоматы, заряженные боевыми патронами. Перед заступлением в караул проводился строгий инструктаж. Посты караула располагались, как внутри здания «Системы» (пост у Знамени, помещения секретной библиотеки и пр.), так и на территории (водохранилище, к которому приходилось подниматься по трапу, склады и пр.). Особенно почетным, но одновременно и тяжелым в карауле считался Пост № 1 у Знамени. Знамя училища хранилось в стеклянном футляре на постаменте, напротив рубки дежурного по училищу.
Караульный с автоматом стоял рядом с постаментом. Автомат находился в положении «На плечо». Стоять приходилось по стойке «смирно». Максимум, что можно было – это медленно, незаметно переминаться с ноги на ногу. Конечно, ноги очень уставали. Но с «незапамятных времен» в стене за спиной караульного кто-то проделал углубление. При определенном навыке, прислонившись спиной к стене, выступ затвора автомата можно было пристроить в выемку и, что называется, «повиснуть» на ремне автомата, ослабив ноги. Некоторые виртуозы в таком положении умудрялись даже поспать урывками, не рискуя упасть.
Вот какие мы были находчивые! Клубу веселых и находчивых такое и не снилось!
Особо следует сказать о сдаче караула. Принимающая сторона всегда шла на принцип, припоминая старые обиды, и начинала придираться: здесь грязно, здесь тулуп порван, а здесь вообще пуговицы не хватает.
В месяц на каждого из нас приходилось по четыре – пять суточных нарядов, не считая дежурной роты. Кроме того, мы сами поддерживали порядок в классах и в ротных помещениях, следили за чистотой своей формы и своего оружия. Каждую субботу после занятий производили чистку личного оружия – автоматов. В «Системе» мы постоянно находились под прессом дисциплины, приказов, приказаний, правил внутреннего распорядка и требований уставов: «Строевого устава», «Устава внутренней службы», «Устава караульной службы», в том числе и под прессом дисциплины внутренней, дисциплины самоограничений. Иногда, лежа после «отбоя» в койке, думал: «Мое ли это все?» Я видел, как многих коробит, корежит дисциплина, как некоторых ломает через колено, то, что называется «военщина» – самодурство, глупость, умноженная на данную уставом власть, иногда просто дурной, мстительный характер пусть маленького, но начальника. У меня лично все, что называется «Система», не вызывало отторжения. Но юношеский максимализм не позволял опустить голову. Были вещи, которые я делал сознательно, в противовес общепринятым понятиям, считая, что не сделав этого, потеряю самоуважение. Молодость, молодость! Ничего, выжил.
На первом курсе старшиной роты у нас был главный старшина с четвертого курса. Среднего роста, подтянутый, молодцеватый, в идеально подогнанной форме. Глядя на него, строгого, но справедливого старшину, в лихо надвинутой фуражке с небольшим «нахимовским» козырьком, я ловил себя на мысли, что вот такой парень будет отличным офицером, и кому как не ему быть адмиралом. После выпуска мы с ним не виделись и не пересекались. И вот, спустя несколько десятков лет, жизнь свела нас в одном бизнес-проекте, и, вы не поверите, оказалось, что он действительно дослужился до адмирала!
В «Системе» на завтрак, обед, ужин и вечерний чай мы ходили строем, всей ротой. Были, конечно, отдельные опоздавшие курсанты, которые пробирались на камбуз, петляя как зайцы, чтобы не попасться на глаза заместителю начальника факультета по строевой части, который записывал опоздавших и передавал командиру роты для наказания.
Придя в столовую, мы по команде рассаживались за столы, на которых уже были расставлены бачки с первым, вторым блюдами, лежал хлеб и стоял чайник с чаем или компотом. По окончанию приема пищи также по команде поднимались из-за столов и строем шли в роту.
По субботам и воскресеньям разрешалось увольнение в город. В день увольнения дома я не задерживался, хотя родители, особенно мама, иногда и корила меня за это.
…Быстро пролетало увольнение. Действительно, я не раз замечал, что минуты в увольнении почему-то бегут быстрее обычных во сто крат. Потом для меня начиналась гонка со временем. В «Системе» я должен был быть к двенадцати ночи, ни минутой позже. Опоздание из увольнения наказывалось неделей «без берега». Правда, и без этого я мог уволиться лишь тогда, когда у меня не было учебной задолжности, если я не был назначен в наряд или в караул, если не имел дисциплинарных взысканий, содержал личное оружие в идеальном порядке, не имел замечаний по чистоте своего объекта приборки и если, уже став в строй увольняемых, я не получал замечаний по своему внешнему виду или форме одежды от дежурного офицера.
При такой системе, уволиться в город порой было очень сложно, а то и невозможно. Попал как-то в подобную ситуацию и я. Уже не помню, по какой причине, но получил «две недели без берега». В список увольняемых мою фамилию даже не включали.
В один из вечеров, стоя в классе у распахнутого окна, вдыхая дивный воздух «бабьего лета» и видя вдали огни недосягаемого для меня города, я вдруг почувствовал, что очень хочу в город. Не просто хочу, а «загорелось»! В этом «загорелось» было все: и тяга в город, и злость на себя, и обида на «Систему» – все вместе, комок! Решение пришло мгновенно.
На самоподготовку я не пошел, сказав старшине класса, что буду заниматься в библиотеке. Парня из класса, предупредил, что на вечернем чае меня не будет, пусть скажет, что видел меня за столом в соседней роте.
Я рванул в самоволку прямо как был в синей робе, не переодеваясь. На первом курсе мы ходили по училищу в синем рабочем платье (робе) под ремень, с номером на груди. На территории училища и близь него в городке это могло помочь не вызвать подозрений, что я в самоволке, но городской патруль… Для него курсант в синей робе – верная добыча.
Мне повезло. Окольными путями, через «Братское кладбище», я проскочил мимо патрулей и уже через час был дома. Повезло мне и на обратном пути. Я не опоздал к вечерней поверке в «Систему», когда вся рота стоит в строю и старшина, проверяя поименно наличие личного состава, называет фамилию, а названный лично отвечает «Есть».
Моя первая самоволка окончилась для меня благополучно. Я получил от старшины наряд «вне очереди», всего лишь за «отсутствие на вечерней прогулке». Недаром говорится, что новичкам везет.
Дисциплина в училище была жесткой, но мне она каких-то моральных и нравственных проблем не доставляла. Я знал, что выбрал для себя службу, которая немыслима без твердой воинской дисциплины, воспринимал ее как должное и не комплексовал по этому поводу. Я просто жил и служил…
Каждый раз, возвращаясь из увольнения, с возвышенности соседнего холма видя красивое, белокаменное здание нашей «Системы», я поражался удачно выбранному месту для этого величественного огромного здания, в плане напоминающего орла, раскинувшего свои крылья на высоком мысу бухты. У меня, курсанта, всегда вызывало сомнение, что это длинное, более полукилометра, белокаменное здание, спроектированное профессором архитектуры Венсаном в классическом стиле, с портиком и колоннадой, было построено просто так. Все в этом здании говорило о более высоком его предназначении, чем быть обычным утилитарным строением. Тогда мы не знали, что в этом здании учились будущие офицеры Российского Императорского флота, и должен был учиться наследник цесаревич Алексей.
Из окон училища открывался захватывающий вид на рейд и корабли. В бухте стояли на бочках невиданные ранее корабли. Сабельные изгибы палуб, острые носы, ни труб, ни мачт. Вместо них пирамидальные надстройки, увенчанные чашами и параболоидами решетчатых антенн. Спаренные и счетверенные огромные цилиндры пусковых контейнеров ракетных установок вздымались на палубах. Это были новейшие корабли советского океанского флота. Корабли, спроектированные и сошедшие со стапелей именно, как стали позже говорить, в «период застоя». Вот тебе и «застой»!
Октябрь в нашем приморском городе – время желтых акаций, когда их огромные плоские, напоминающие большой горох, стручки с хрустом лопаются под ногами. Время, когда на бульварах падают, продираясь сквозь листву, колючие каштаны. Падают, бьются об асфальт и разламываются…
Учеба занимала все большую и большую часть моего времени. На первом курсе занятия шли очень напряженно. Несмотря на большую учебную загрузку, в середине октября мы всей ротой не отходили вечером от телевизора в Ленинской комнате, следя за всеми перипетиями борьбы на ХIХ летней олимпиаде в Мехико. «Высокогорная», как ее прозвали журналисты, олимпиада проходила на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. К сожалению, в командном зачете победили американцы -107 медалей, мы – на втором месте – 91 медаль.
В «Системе» методика изучения общеобразовательных дисциплин в корне отличалась от привычной мне, школьной, методики – подготовил материал, ответил на следующем уроке. Нам несколько месяцев без перерывов читали лекции по десятку предметов, и лишь затем проводились контрольные по начитанному материалу. Тем, кто «запускал» материал, было весьма сложно наверстать упущенное, потому что по некоторым предметам учебников вовсе не было, а мы не сразу освоили конспектирование лекций, да и самоподготовка часто срывалась из-за нарядов или караулов.
Не скрою, главным стимулом к учебе у нас, местных, в том числе и у меня, было увольнение в город – домой. Практически у всех местных курсантов были знакомые девушки, а иногородним ребятам приходилось сложнее. Девушками они пока не обзавелись, и многие из них неделями не выходили из училища – ни к чему было… Тем более что нас, местных, отпускали на субботу и воскресенье в сквозное увольнение – с ночевкой, а иногородних на первом курсе так не увольняли.
В субботу днем многие, не идущие в город, курсанты смотрели в Ленинской комнате телевизор. Все новостные каналы, как и газеты, были заполнены сообщениями о крылатых ракетах и «Першингах», нацеленных на нашу страну. На этом фоне промелькнувшее сообщение о том, что в ответ наши подводные ракетоносцы подплыли к берегам Америки, не получило должного освещения. Никогда еще, с шестьдесят второго года, не ощущалось в воздухе такой угрозы.
Но жизнь продолжалась. В 1968 году впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных». Она выходила по субботам и пользовалась большой популярностью у курсантов «Системы», находящих много общего между своей жизнью в «Системе» и звериной жизнью, особенно обезьян. Нужно заметить, что программа «В мире животных» выходила в течение 37 лет!
Закончилось «бабье лето», зарядили дожди… Северо-западный ветер стучал в наши окна, наводя грусть и тоску. Учеба чередовалась дежурствами, караулами, нарядами на камбуз и дневальством по роте. Иногда, стоя в карауле, под проливным дождем, в дождевике до пят, у какого-нибудь овощного склада, исхлестанный дождем и продрогший, я думал:
Зачем и кому все это нужно? Ведь наша задача – учиться, изучать атомные реакторы и уметь их правильно эксплуатировать. И, честно сказать, не находил убедительного ответа, кроме одного слова – «надо». Кстати, поиск ответов на «идиотизмы» флотской жизни, где «круглое тянут, а квадратное катят», привел меня в дальнейшем к серьезным стычкам с командиром роты, и я подумывал даже об уходе из «Системы». Но сейчас не об этом.
Наступил 1969 год. Новогодний праздник я встретил в «Системе». Мы заступили дежурной ротой. Погода была ветреной и холодной, минус два-три градуса, но снега не было.
В начале января в газетах промелькнуло сообщение о первом в мире полете сверхзвукового пассажирского лайнера ТУ-144 с крейсерской скоростью 2500 километров в час. Это крупнейшее достижение советской науки и техники в авиастроении. Здорово!
После Нового года началась горячка нашей первой зимней экзаменационной сессии.
Именно тогда, перед первой в своей жизни сессией, я начал писать шпаргалки. Да, да, не удивляйтесь. Написание шпаргалок систематизирует знания, позволяет вспомнить материал и разложить его в памяти по полочкам, позволяет на экзамене застраховать себя от «случайностей». Шпора находилась со мной – это придавало уверенность. Но написанное не означает, что шпаргалку следует применять. Здесь каждый действует на свой страх и риск. Хотя находились виртуозы, которые использовали «самолеты» – написанные вкривь и вкось листы с ответами, которые подкладывались, вынимая из-за пазухи сразу на стол. Были любители шпаргалок, которые писались очень крупно на больших листах и показывались через окно, если экзамен проходил в аудитории на первом этаже. Были специалисты по микро-шпаргалкам, для чего нужно было обладать острым зрением…
С горем пополам переползли через свою первую сессию… Кто-то остался в «академиках» – так называли курсантов, не сдавших экзамены и оставшихся в училище пересдавать их в отпуске. Сессия была очень тяжелой – и от непривычки, и от того, что многое было запущено, и от того, что одна высшая математика или начертательная геометрия чего стоила. Так, мой одноклассник не мог несколько раз сдать экзамен по начертательной геометрии. Остался в «академии» и, выкрасив белой краской переплеты десятка высоких полукруглых в верхней части оконных рам чертежного зала, все-таки получил выстраданный, вернее «выкрашенный» зачет.
Класс наш, в общем-то, дружный. Конечно, как и в любом коллективе, в нем имелись группки по интересам. Скажу о себе: человек я не конфликтный, со всеми поддерживал ровные отношения. Но были ребята, с кем я общался больше, чем с остальными. Одноклассник, сидевший за конторкой впереди меня, которого все звали Камо, по созвучию с его фамилией, и чей стриженный затылок я наблюдал все пять лет, был одним из них. Отличный парень. За товарища, как говорится, «последнюю рубаху отдаст». Интересный факт – по его рассказам, в историческом музее их республики было выставлено старинное седло его пращура. Их род вошел в историю. Не каждый может этим похвастаться. Не знаю почему, видимо по какому-то связанному с историей их народа наитию, я сам себе вроде бы в шутку говорил: «Быть Камо адмиралом».
Пройдет несколько десятков лет, и он, всей своей многолетней службой, отношением к делу, требовательностью, честностью, проницательностью и дальновидностью доказавший, что заслужил, станет адмиралом военного флота своей уже страны, на Каспийском море.
Другой одноклассник – умный, начитанный, открытый парень, с кем мне было интересно общаться, сидел за конторкой позади меня. Через много-много лет мы, случайно встретившись в городе на Неве, разговорились и выяснилось, что он морячил больше нас всех. После службы на флоте много лет управлял реакторами современнейшего атомного ледокола, не раз ходил к Северному полюсу…
Вот такими стали во взрослой жизни мои училищные товарищи.
Тепло расплывалось в природе, давая жизнь траве, цветам, деревьям. Южная весна благоухала ароматами цветущей вишни и черешни…
В марте 1969 года дважды прогремели короткие и страшные бои с китайцами на реке Уссури. В газетах и журналах, среди будничных статей, появились фотоснимки наших солдат, идущих в атаку на дальнем, вообще неизвестном доселе, островке Даманский. Печатались списки награжденных, среди которых много фамилий было с пометкой «посмертно».
Меня поразили тогда те газетные фотографии, где впервые после Великой Отечественной войны пригнувшиеся фигурки наших солдат в шинелях и ушанках, с автоматами, бегут по снежной целине под обстрелом… и кого? Китайцев – наших «друзей навек»… Китайцев, которым передавались военные технологии и оружие, которым строились заводы и фабрики, которые учились в наших вузах, которых Сталин ввел в Совет безопасности ООН, которые вышли победителями в войне с Японией именно благодаря нам, нашей стране…
Слава богу, быстро закончились и эти пограничные бои.
Много лет спустя стали известны подробности боев и причина их скоротечности – применение новейших, секретных тогда, установок залпового огня системы «Град». По китайским товарищам – по нескольким тысячам солдат и офицеров, бывших на островке, – наши установки «Град» открыли шквальный огонь, при этом плотность огня была таковой, что около девятисот человек было убито и более трех тысяч ранено в считанные минуты. Хотя стоил ли таких жертв клочок суши, который во время паводка на реке Уссури вообще скрывается под водой? Не знаю.
Однажды у нас на первом курсе работали военные психологи. Они раздали карточки с вопросами и коробки с металлическими рукоятками, похожими на «джойстики» в центре, подключенные к розеткам. Перемещая рукоятку вправо или влево можно было отвечать «Да» или «Нет», то есть давать правильный или неправильный ответ.
Если испытуемый отвечал на вопрос правильно – «Да», через металлическую рукоятку его било током. Сначала не сильно, но чем больше правильных ответов давалось, тем сильнее был разряд тока.
Ты имел право отвечать «Да» и продолжать получать все более сильные удары током или мог ответить «Нет», хотя знал правильный ответ, но зато не получить разряд током по руке. Я отвечал на все вопросы правильно. Честно скажу, удовольствие было ниже среднего, тем более что у меня был выбор, дать неправильный ответ и не получить удара.
Об этой комиссии в «Системе» говорили всякое, в том числе и то, что отрицательные результаты психологических тестов могут привести некоторых к отчислению из училища. Не знаю, комиссия уехала, и никаких последствий не было. Но я проверял лично себя, сколько выдержу – добрался до последних ответов.
В это время на пятом курсе шло дипломное проектирование. До защиты дипломов у них оставались считанные дни. Я хорошо чертил еще со школы, поэтому, хотя и был на первом курсе, помогал одному дипломнику-пятикурснику чертить схему атомного реактора. На столе «дралоскопа» – так назывался специальный стол со стеклом и подсветкой снизу, для перечерчивания («передирания») чертежей, – лежал чертеж и я, наклонившись над ним, обводил линии тушью, держа рейсфедер в правой руке, а крышечку, наполненную тушью, – в левой. Пятикурсник, которому я чертил, неожиданно вошел в класс и крикнул: «Ну, как? Чертеж готов?» Я, распрямился, повернулся к нему всем телом и ответил: «Да», при этом моя левая рука, разворачиваясь вместе с телом, непроизвольно наклонилась, и тушь, вытянувшись огромным черным пятном, разлилась по готовому чертежу. Немая сцена!
Всю ночь я срезал высохшую тушь лезвиями безопасной бритвы и снова чертил. Пятикурсник защитился на «отлично», но если бы преподаватели посмотрели его чертеж на просвет, то увидели бы, что он был как решето.
Весь первый курс мы привыкали к особенностям существования в «Системе». Даже, казалось бы, такое простое дело, как помывка в бане, имело здесь свои особенности. В «Системе» настоящей бани не было. Было старое здание, переоборудованное для мытья курсантов. Помывка осуществлялась или рано утром или поздно вечером. Именно ранним утром младшие курсы плелись мыться в баню, превращая нормальный гигиенический процесс (недаром говорится: «Помылся, как вновь народился») в преодоление тягот и лишений воинской службы. Идти мыться в шесть часов утра было тяжело и физически и морально, но командование составило именно такой график.
Весь процесс проходил очень быстро. Помыв голову и окатив себя несколько раз теплой водой, мы заканчивали процесс помывки. Теперь главное было заменить грязный тельник на постиранный, а затем, держа под мышкой банные принадлежности, строем идти обратно в казарму.
Командирами отделений – комодами – на первом курсе у нас были назначены люди, как выяснилось, вообще не соответствовавшие возложенным на них задачам. Они упивались возможностью командовать и наказывать. Как говорится: «Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». За малейшую провинность (плохо поглаженный гюйс, недостаточно блестящая бляха или не слишком белый чехол бески, а то и непочтительный взгляд) нас, первокурсников, наказывали нарядами на работу. Как правило, эти работы проводились после отбоя и отличались постоянством, как замкнутый круг – уборка гальюна, гальюна, гальюна.
…Три часа ночи. Я дневальный по роте с повязкой на рукаве и штык-ножом на поясе. Стою у тумбочки напротив входной двери. Спать хочется до одури, наверно, еще и потому, что в роте душно и спящие своим подхрапыванием убаюкивают меня. Я облокотился на тумбочку, ногам стало легче, но глаза слиплись, и на мгновение сознание замутил сон. Встрепенувшись, чтобы не заснуть, прошел в умывальник и ополоснул лицо холодной водой. Возвращаюсь – дежурный по факультету с проверкой. Огреб я, что называется, по полной: три наряда на службу вне очереди. Отстоял, как говорится, «Через день – на ремень».
Ничего, пережил.
Начались зачеты на допуск к летней сессии. Неожиданно сложно для некоторых оказалось получить зачет по физподготовке. Требовалось пробежать дистанцию в один километр, уложившись в заданное время. Я в школе занимался легкой атлетикой, и бег для меня не был проблемой. Но у нас в классе был один товарищ, полный парень, как сейчас бы сказали – с избыточным весом, который никак не мог пробежать дистанцию и уложиться в норматив. Бегали мы вокруг здания «Системы». Длина здания – полкилометра. Поэтому, обежав его вокруг, получался как раз нужный километр.
Преподаватели кафедры физо с секундомерами стояли по торцам здания, чтобы видеть, не сокращает ли кто дистанцию, пробежав под аркой здания. Что делать? Придумали. Товарищ стартовал, потом как только забегал на тыльную сторону здания, четыре человека из класса подхватывали его за руки и за ноги и бегом несли. Это время он отдыхал, а потом продолжал бежать сам. Так, ему удалось уложиться в нужное время. Вот такой дружный у нас был класс.
Подкатила летняя сессия. У меня она проходила по плану. В учебу я втянулся и сдавал зачеты все легче и легче. Конечно, в период сессий требования внутреннего распорядка в училище смягчались. Командование, как говорится, смотрело сквозь пальцы на то, что мы учили предметы в коридорах, в курилках, в подсобных помещениях, задерживались с конспектом после «отбоя» или, наоборот, вставали задолго до побудки.
Я сам часто во время сессии занимался подготовкой к экзамена, даже стоя дневальным или дежурным по роте. Устав запрещает дневальному на посту читать, петь, спать, курить, принимать пищу, но я умудрялся читать учебник, быстро убирая его в тумбочку при первых звуках шагов проверяющего офицера.
Иногда, при подготовке к экзаменам, практиковалось следующее: на самоподготовке в классе кто-либо из ребят, хорошо знавших тему, выходил к доске и разбирал экзаменационные вопросы, а остальные записывали. Нужно сказать, что так действительно запоминалось лучше и, главное, требовало существенно меньше времени. Несколько раз и я выходил к доске. Когда объясняешь слушателям и пытаешься ответить на их вопросы, собственные мозги работают интенсивнее, в итоге сам вникаешь в тему глубже и другие усваивают быстрее. К тому же в подготовке к экзаменам и в сдаче экзаменов у меня уже выработалась определенная собственная система. Я шел сдавать экзамен первым, или в первой тройке, или в первой пятерке, в зависимости от аудитории, но обязательно первым, пока была «светлой» голова, пока нервы не устали от напряжения ожидания и пока преподаватели не «озверели» от наших дурацких ответов.
Но были и ребята, наоборот, сдававшие экзамены последними, при этом рассчитывающие на то, что педагоги устали, вымотались, что, понаставив троек, а то и двоек, выпустили пар и, чтобы быстрее закончить экзамен, не слишком долго бы их мучили.
В день экзамена я не завтракал, поэтому чувствовал себя собранно, как перед спортивными стартом, уверенно и приподнято.
Оставался последний экзамен летней сессии первого курса – «Тактика морской пехоты». Принимали его офицеры с кафедры «Морской пехоты», как мы их тогда называли, «черные полковники», по аналогии с «черными полковниками» греческой хунты. Вообще, офицеры этой кафедры обладали своеобразным чувством юмора. Если курсант произносил слово рожок у автомата, то в ответ звучало поучительное: «Рожок у бычка на головушке, у оружия же – магазин».
Так вот, экзамен начался в 8 часов утра. Как только я вошел и представился, меня сразу же выгнали с экзамена за длинную прическу, сказав: «Пострижетесь и будете допущены к экзамену».
Я вылетел пулей. Туда-сюда! Парикмахерская училища еще закрыта, в роте никого нет, чтобы обрезать мне волосы сзади. В общем – «засада»! Через полчаса, смочив волосы водой и тщательно причесавшись, снова вошел в аудиторию и четко доложил: «Товарищ полковник, ваше замечание устранил!»
«Молодец! Совсем другое дело! Бери билет!»
Сессия закончилась. Впереди была морская практика, а после нее долгожданный и заслуженный летний отпуск.
Моя первая морская практика проходила на Черноморском флоте, на крейсере «Слава», ранее называвшемся «Молотов». Название ему сменили после известных событий с антипартийной группировкой, в которую входил В. Молотов. На флоте шутили: «Вячеслав сменил имя на Славу», намекая на имя Молотова – Вячеслав.
Крейсер – в само это слово вложено могущество. Этот корабль был на море убедительной силой. В длину – 190 метров, в ширину – 18 метров, водоизмещение – более 17 тысяч тонн. Три башни по три ствола 180-мм орудий и экипаж – более 1000 человек.
Поднявшись на его борт, мы тут же погрузились в специфический уклад флотской жизни огромного корабля, с бесконечными приборками – большими и малыми, постоянными построениями и сигналами ревуном и боцманской дудкой. Обедали в кубрике, в котором и жили. Бачковой, ответственный за обед курсант, в назначенное время прибывал к раздаточному окну камбуза, получал бачок с первым, бачок со вторым и чайник компота. Все это приносил в кубрик, где мы на расставленных на время обеда столах ели из алюминиевых мисок алюминиевыми ложками и запивали из алюминиевых кружек компотом.
В годы войны крейсер получил повреждение кормовой части. Вражеская торпеда, сброшенная с самолета, оторвала более 20 метров корпуса. В ходе восстановительного ремонта кораблю приклепали корму от другого крейсера, которая была шире. Стоя у борта и глядя в корму, это расширение было хорошо заметно. Так и проплавал крейсер с чужой кормой до конца своей многолетней службы.
В один из дней начала июля нас вместе с матросами построили в форме первого срока на палубе крейсера вдоль борта. Солнце палило немилосердно. Стояли мы несколько часов. Потом выяснилось, что это было прощание с бывшим командующим флотом, который в годы войны руководил флотом и обороной нашего города. Он был обласкан властью, имел высокое звание Героя, но, как стало известно в послевоенное время, его недальновидные и бездарные приказы привели к огромным потерям во время эвакуации наших войск с полуострова.
В середине июля 1969 года на крейсере «Слава» мы попали в жесточайший летний шторм. Крейсер швыряло как щепку, и все курсанты, за редким исключением, укачались в лежку. Носовая часть крейсера вздымалась над волной, зависала на мгновение и с большой скоростью рушилась вниз. Как раз в момент движения корпуса вниз возникало приторное чувство на дне желудка и казалось, что весь твой организм стремится вывернуться наизнанку и догнать ныряющий вниз корпус крейсера.
Старпом «Славы» дал указание распределить курсантов по отсекам и потребовал докладов о состоянии междудонного пространства крейсера, на предмет наличия течи воды. Приходилось в паузе между волнами стремглав бросаться по вертикальным трапам вниз, протискиваться в узкие лазы попадая в придонное пространство, и в тусклом свете ламп, осматривать влажные, сочащиеся конденсатом, броневые плиты корпуса. Затем бросок обратно вверх и доклад.
Работа была, очевидно, не нужной, но требовала значительного напряжения сил, поэтому качка отошла куда-то на второй план и мы меньше укачивались.
Практика на крейсере шла своим чередом…
В один из дней, когда мне обязательно надо было уволиться, по рейду объявили штормовое предупреждение «Ветер -1», и увольнение с кораблей личному составу и нам, курсантам, запретили. Сама Природа стала у меня на пути!
Что я предпринял, чтобы уволиться, не буду описывать. Но я получил увольнительную на берег и был единственным курсантом на баркасе, который шел с офицерами на Минную стенку, в город. На мне была белая форменка с двумя курсовками, хотя мы формально еще не были второкурсниками, но до окончания практики осталось всего две недели в морской пехоте, и все мы – второкурсники, убеждал и оправдывал я сам себя, пришивая две курсовки на рукав белой голландки. Офицеры на баркасе не обратили на две мои курсовки никакого внимания. У корабельных офицеров совсем другой угол зрения, чем у строевых офицеров «Системы».
Крейсерский баркас, переваливаясь с борта на борт, шел по вспененной воде Северной бухты. С баркаса были хорошо видны причалы Инженерной пристани, Северной пристани, а за ними вдали белели развалины Константиновского равелина.
Оглянувшись, я бросил взгляд назад, в глубину бухты, где виднелось длинное здание нашего училища, расположенное на высоком берегу бухточки с необычным названием – Голландия. Наверное, его дали в память о голландских корабелах или купцах… Кстати, именно поэтому иногда наше училище называют «Голландия», а курсантов – «голландерами».
Баркас повернул и прошел мимо Павловского мыска, качка уменьшилась. Мы шли в Южную бухту к Минной стенке. Минной стенка называлась с дореволюционных времен, когда к ней швартовались миноносцы, а теперь она служила пристанью, куда доставляли увольняющихся на берег матросов с кораблей, стоящих на рейде.
С крейсера мы убыли в полк морской пехоты. Там практика началась с утреннего марш-броска под палящим солнцем по выжженной степи, с полной выкладкой на два километра.
Обратно еле доплелись, и завтрак уже не лез в горло, но надо было продержаться. Зато постреляли мы в морской пехоте сразу на все пять лет вперед. Патронов не считали и не жалели.
В морской пехоте несколько раз отрабатывали метание учебной гранаты и один раз – боевой. …Разрыв, цоканье осколков, сотрясение земли, ощущаемое в окоп, – все это произвело должное впечатление.
Жутковато прошла обкатка нас, молодых и зеленых, танками. До сих пор помню то подсасывающее ощущение внизу живота, когда, сотрясая землю, на тебя, сидящего в окопе, движется, грохоча и жарко дыша дизельным перегаром, махина танка. Окоп сразу стал узким и жалким укрытием. Втягиваешь голову в каске в плечи и сжимаешься весь, стараясь превратиться в «точку». Тело танка закрывает солнечный свет, его тень надвигается неотвратимо и неумолимо, за шиворот летят комья сухой земли, и, кажется, сейчас эта махина сползет в окоп и раздавит тебя, как таракана, даже не заметив.
Незабываемое впечатление!
На этом первый курс заканчивался…
Курсантский фольклор, через десятилетия донес нам стихи курсанта Каспийского училища, написанные в 1948 году и удивительно точно передавшие особенности нашей жизни, жизни курсантов первого курса даже спустя 20 лет после написания стихов.
I курс
Сначала острижены, службой унижены, строгостью выжжены.
И не любящие, вечно стоящие, вечно ходящие, вечно бегущие,
В город хотящие и не идущие.
Вечно голодные, злые, несмелые и благородные и неумелые.
Ничего не изменилось! Надо сказать, что в «Системе» курсантов первого курса называли «без вины виноватые». Как это точно!
В отпуске основное времяпрепровождения – пляж, пляж и еще раз пляж…
У нас, у курсантов, отпуск уже начался, а у моего друга Студента, который учился в медицинском институте в соседнем городе, еще шла учеба. Я приехал к нему в мединститут.
Меня снабдили белым халатом, белой шапочкой, и я, за компанию, поприсутствовал со студентами-медиками на лекции и практических занятиях по гистологии, наблюдая в микроскоп и зарисовывая строение каких-то клеточных структур. Я неплохо рисовал, и мой рисунок быстро разошелся по рукам студентов-медиков как образцовый.
Последним в тот день было занятие в анатомическом театре. Студент потащил меня туда. Я с бодрым видом пошел, но как только в нос ударил запах формалина, каюсь, не смог пересилить отвращение, не смог преодолеть себя и приблизиться к препарированному трупу. Да, медик из меня никудышный…
После занятий побывал в общежитии студентов, вспомнив незабвенные «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова с их общежитием имени Бертольда Шварца, а вечером хорошо посидели, отметив нашу встречу в модном студенческом кафе.
В июле 1969 года наши газеты и телевидение без особых восторгов сообщили, что после нескольких облетов, американские астронавты наконец высадились на Луне. Запомнилась статья в одной из газет, где говорилось, что освоение лунной поверхности дистанционно управляемыми аппаратами дешевле, целесообразнее и правильнее, чем посылка туда человека.
Хотя где-то в глубине души ощущалась горечь: «Жаль, что не наши». Но все равно первое время как-то странно было смотреть на Луну, зная, что по ней ходили люди.
В кинотеатрах нашего приморского города зрители хохотали над приключениями Юрия Никулина и Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука». А дурашливая песенка про зайцев «А нам – все равно!..» мгновенно стала популярной в народе. Нашему народу, по-моему, всегда импонировал «пофигизм».
Как водится, побывали в походе на Южном берегу. Добирались правда не пешком, а часть пути проделали в душном, пахнущем бензином, битком набитом людьми, рюкзаками и палатками «львовском» автобусе, с завистью наблюдая за обгонявшими нас сверкающими экспрессами «Икарус-Люкс»…
Во период отпуска время летело незаметно изредка вспоминалась «Система», но как-то в тумане, и к ней пока не тянуло. Но к концу отпуска «Система» все чаще стала вспоминаться.
В отпуске перспектива снова оказаться за партами не особенно радовала, но то, что мы уже курсанты второго курса, а значит, не самые младшие, было приятно сознавать.
Наконец пролетел первый летний отпуск, и я возвратился в «Систему». Чертовски приятно оказалось встретиться с товарищами, окунуться в ротную атмосферу, поделиться друг с другом впечатлениями об отпуске.
Вот и сентябрь 1969 года. Мы перешли на второй курс… Как-то незаметно и быстро мы вошли в обычную колею жизни и учебы в «Системе», но некоторые перемены оказались заметны в нас самих – мы стали относиться ко многому более сознательно, что ли.
На втором курсе появилось много новых учебных дисциплин, а вместе с ними и новых преподавателей. Так, «теоретическую механику» – один из очень сложных и трудных предметов – читала молодая интересная женщина, лет тридцати. Запах ее духов «Пани Валевска», тягучий, завораживающий, кружил и дурманил курсантские головы. На ее лекциях галерка пустовала, все стремились на первые столы, чтобы быть ближе. Не знаю, как это сказывалось на успеваемости по предмету, но преподавательницу обожали все…
Мы занимались в лаборатории и учебных кабинетах кафедры «Теории механизмов и машин», в лаборатории электротехники, в лаборатории электронно-вычислительной техники.
Несмотря на сложную учебную программу, именно тогда я запоем читал морские произведения Сергея Колбасьева, бывшего гардемарина, служившего в Рабоче-Крестьянском Красном флоте, книги которого были запрещены еще в тридцатые годы.
В «Системе» книги Колбасьева передавались из рук в руки. Ко мне его книга попала, когда я стоял рассыльным дежурного по училищу. Дали почитать на одну ночь. Это была повесть «Арсен Люпен». Я проглотил ее, читая запоем, не таясь, а когда дежурный по училищу капитан 1-го ранга увидел ее у меня в руках, то только улыбнулся и отослал меня из рубки дежурного, с глаз долой. Потом пошли «Капитальный ремонт» Леонида Соболева, «Синее и белое» Лавренева…