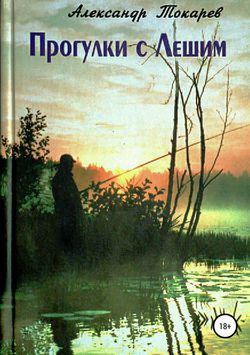Читать книгу Прогулки с Лешим - Александр Владимирович Токарев - Страница 1
Копченый и Шаман
Оглавление1
День уходил. Солнце, краснея от мороза, зацепилось за Паленый бугор, осело и скрылось в дрожащей дымке. На синий жестяной наст опустился туман, пахнущий застоявшейся в оврагах прелью и нагретой за день еловой хвоей.
Копченый, сутулый, одетый в две рваные телогрейки и мягкие заплатанные валенки, спустился с высокого лесного берега и пошел по льду к островам, где его, может быть, ждали тепло и еда. Он был не один. За ним, царапая наст тупыми когтями, осторожно и устало трусил Шаман – старая дворняга.
Они понимали друг друга в простой и единственной цели – прожить ночь и встретить утро, которое дает силы и надежду. Дома у них не было, и поэтому Копченый иногда задумывался над тем, что держит рядом с ним Шамана? Тот, наверное, тоже задумывался. Ведь в собачьей несложной жизни, кроме хозяина, должны быть дом, будка, миска с выбеленной фарфоровой костью. Все это надо охранять и рваться в злобной хрипоте на стук открываемой калитки, мерзлый скрип сапог пьяного ночного прохожего. А морозным утром, когда шерсть индевеет и сладко спится в щелястой будке, хозяйского пса должно будить свежее и вроде бы грубое: «Я тебе, кобелина вислобрюхая!.. Спишь?!». Не обмануть дворового сторожа напускной злобностью. Он знает, что все это для соблюдения порядка – извечного договора между собакой и человеком. Стукнет мятая дюралевая миска, и в нее плюхнутся остатки простой деревенской еды, остро пахнущей на морозе.
Шаман сейчас этого не имел, но жил рядом с Копченым, тоже лишенным своей будки и фарфоровой кости. Почему? Копченый обычно думал об этом недолго, вскользь, но, не признаваясь себе в благодарности за собачью преданность, отдавал Шаману последний хлеб.
Копченым Алексея прозвали местные люди за печную гарь на лице и руках, проникшую в кожу. Пришлого, его недолюбливали. Может быть, из-за молчаливой скрытности и какой-то непростоты под внешностью бродяги. Отгораживаясь от пьяного глумливого запанибратства, принятого в обиходе местных людей, он, бывало, глотая слюну, отказывался от протянутой ему в кружке водки, чувствуя за этим издевку и нехорошее любопытство. Но не мог отказаться от еды. Терпеливо ждал, останется ли в котелке пустая похлебка из концентратов? Если оставалась, то он доедал ее своей деревянной ложкой, кормил гущей и хлебом Шамана из своей же тарелки. Потом, молча, ложился на пол у печки. На нары его не пускали, нарочито зажимая нос. К нему приходил Шаман, грел его худую спину своей вытертой и теплой спиной. Пес тяжело вздыхал до полуночи, пуская с хлеба «злого духа», как старый больной человек. Тогда его, покорного, выпинывали на улицу, и Копченый, молча, стискивал зубы.
Они ночевали, где придется. Больше – на островах, в низких рыбацких землянках-норах, которые шел почти каждый остров.
Острова эти проклятием человеку торчали из нездоровой воды водохранилища, которое покрыло на корню боровой живой лес, заливные луга, церкви, кладбища. Зимой водохранилище превращалось в немеряные километры прожилистого двойного льда. Если пробить лед, то из-под него тяжело выдыхало гниющей древесиной.
Светлыми ночами, когда при луне мертвые деревья, казалось, двигались, бросая на лед ломаные тени, Копченый и Шаман проверяли морды. В них попадались скользкие ротаны-головешки. Тогда друзья пировали – ели уху с картошкой и пористым пшеничным хлебом. Мясо у ротанов белое и сочное. Разварная рыба остывала в миске Копченого. Шаман косил на нее блестящим от печного пламени глазом и раздувал пупырчатые влажные ноздри.
Рыбу Копченый отдавал за продукты и ночевку в деревне. Если на флажки-жерлицы попадалась щука, то можно было взять на обмен картошки, хлеба, вина, помыться в бане. Но это бывало редко. Копченый не умел ловить рыбу.
Этим морозным вечером землянки были заняты. Обойдя их впустую, Копченый и Шаман пошли ночевать в осиновое и берёзовое густолесье на высоком острове.
Становилось холоднее. Шаман, фыркая, вырыл в снегу яму и, свернувшись, лег, ожидая костра. Копченый завалил топором насколько берез. Пробив наст, докопался рукавицами до земли, выложив рядом со снеговой стеной нары из березовых стволов. Сходив в низину у кромки острова, он наломал там тонких деревьев, подмытых по открытой воде прибойной волной и омертвевших на корню. Почти на ощупь отыскал сухой пенек – след звонких сосновых боров, когда-то шумевших здесь. Расщепив его, он принес остро пахнущее смолье к нарам и разжег костер. Отблеск пламени лег на снег и зажегся недобро в глазах Шамана. Пес зевнул, отряхивая снег, и пошел к костру, лег на нары, грея мерзлое дерево.
Они поели умятой в котелке вареной картошки с солью и хлебом. А потом Копченый, знобясь от томительного нетерпения, повесил над костром маленькую задымленную кастрюльку с проволочной дужкой. В воздухе повис терпкий дух чая-чефиря. Шаман скучно отвернулся. А Копченый, обжигая треснувшие губы, жадно проглатывал горький чайный отвар, от которого жгло в желудке, билось учащенно сердце, и подходила нездоровая, но почему-то желаемая легкость. И вновь, как это случалось обычно вечерами, когда уже не надо было куда-то идти, чего-то искать, Алексей вспоминал обидное, больное, но свое, кровь от крови. Бередил, щипал заросшую рану в душе, и от этого ему было слезно и приятно. Он машинально подбрасывал в угли шипящие сырые березовые обрубки, чтобы обсохли, и возвращался к своим мыслям, в которых становился вновь Алексеем.
«Эх, братка-братка. Как же ты меня под сердце, больно… Ты, конечно, начальник, с пистолетом. Мент, как зовут оглоеды. Я что, вы с мамкой меня за полчеловека держали, за пьяницу. Мол, урод в семье – работать не хочет, жениться не хочет. Все бы только в подворотне сигареты стрелять, в магазине отираться. Так и есть. Права мамка, и ты, брат, не промахнулся. Согласен. Но только пойми, не пропил я еще свою совесть, не дошел до подлости последней – у мамки похоронные деньги из-под подушки вытянуть. Кто это сделал, не знаю. Пойми ты это, братка… Да разве тебе понять при твоей-то работе? А мамка тебя послушала и поверила, что это я… Она тебе с детства верила. Ты всегда рос такой воспитанный, послушный. Братка-братка, зачем тебе это? Пистолет мне под нос, убью, мол, уезжай, шантрапа, на все четыре стороны, не позорь меня. Уехал… Где только я не был. Сейчас бы ты меня не пристращал. Сейчас не боюсь, но и домой не поеду. Все, кончился Лешка, стал Копченым. Все…».
Он всхлипнул и расслабленно ткнулся головой в собачью спину, блестевшую инеем. Шаман вздохнул и завилял хвостом,
А Копченый все ворошил заветное, старое. После дома и мутной ленивой жизни были вокзалы, косящиеся подозрительными взглядами скоробогатых и сыскных, грязные продымленные туалеты с разбитыми писсуарами и молодящимися педерастами.
Шаман увязался за ним в маленьком провинциальном городке. Почуял ли такого же беспородного и одинокого среди множества существ, сплетенных между собой жизненными нитями, или просто хотел есть?
Алексей впервые и неожиданно радостно ощутил свою нужность кому-то, пускай и этой дворняге с большими блестящими глазами. Шаманом он назвал пса случайно. Купив на улице сморщенных пирожков с несвежим липким мясом, он завел дворнягу во двор и положил пирожки на снег. Пес смешно подпрыгнул и, не решаясь притронуться к ним, вдруг забармил, забрехал низко и торопливо, выгнув спину с черными подпалинами и кося глазом на Алексея. «Ну, ты Шаман! – засмеялся тот. – Били тебя, что ли?». Пес заколотил хвостом и осторожно взял желтыми зубами остывший пирожок.
Вскоре Алексей завербовался в лесной поселок вальщиком. Взял с собой и Шамана. Были сначала и свой угол в общежитии-избе, и работа. Но не удержался Алексей, привык к птичьей жизни, и понесло его дальше. «Ленивый я, видимо, – извиняясь, говорил он Шаману, – пропащий». Тот, кажется, понимал его.
Здесь они жили третью зиму. И каждый год Копченый собирался строить дом, да хоть не дом – землянку, но чтоб с печкой, нарами и окошком. Он представлял ее обязательно на высоком бугре, окруженной молчаливым лесом, рядом с оранжевой зеленоглазой сосной. Копченый уже видел свое жилье: сверху на скате крыши лежит пушистый сугроб, а из-под него попыхивает дымком труба; мигает в маленьком оконце свечной огонек, теплый такой, домашний; тропинка вьется к двери среди искрящихся при луне сугробов. Здесь бы жить бабке-ведунье с черным котом. Но и Копченый похож теперь на облезлого бородатого лешака, хотя ведь он еще не старый…
Дом все откладывался. Дни начинались, гасли, и как-то обходилось все с едой и ночлегом. Летом были ягоды: черника, малина, клюква. С них на вино хватало и на жизнь. Зимой приходили высокомерные, но не жадные городские рыбаки.
Копченый все вздыхал, качался зыбкой тенью у костра, а Шаман чутко дремал, время от времени вскидываясь на треск сухой ветки, осторожный лисий шаг, писк голодной мыши под снегом. Звоном доносился из деревни всполошенный лай собак. Стервенясь на их пустой брех, синими тенями скользили в ельнике волки, еще на гону и поэтому злобно веселые. Они задирали оскаленные морды к луне, глядевшей черными неживыми глазницами.
2
С утра они раскопали в снегу двух щук, снятых с крючков дней пять назад, вымерзших и твердых, как поленья. Это был припас к банному дню.
Шаман по-стариковски неуклюже засуетился рядом с рыбинами, щелкая на них зубами и оглядываясь на Копченого. Подняв верхнюю губу, он вдруг, совсем по щенячьи, затявкал тонким проказливым подголоском.
То ли оттого, что заря выдалась в румяном бодрящем морозце, то ли потому, что к жилью им было идти сегодня, имея рыбу, – и Копченый развеселился. Он шаркнул валенком по снеговой крошке, присыпав Шамана. Тот волчком закрутился вокруг себя, пытаясь зубами ухватить свой хвост.
– Давай-давай! – со сна хрипло засмеялся Копченый, всем нутром, кожей ощущая жаркий восторг от рождения Начала – звонкого утра.
Солнце было еще за островами, но настовая корка, под берегом синяя, в открытых местах розовела, заливаясь теплым светом безраздельно. Весна, еще молодая, уже слышалась, билась «цвирканьем» синиц, дышала землей, теплым лесом и одновременно снегом.
«Морозом теперь не обманешь, – думалось Копченому, легко шагающему по насту. – Теперь живем». И – вслух:
– Живем, Шаманка!
Пес оборачивал седую индевелую морду и улыбался верхней губой.
Они поднялись крутояром и по тропе пошли в деревню.
Их пускали Худяковы, что жили с краю у оврага. В этот овраг, бывало, и скатывался Копченый, если вдруг «сам» осерчает с перепойной раздражительности. Худякова Катерина тоже не привечала их, но за рыбу, которая по зимнему времени на столе появлялась не часто, позволяла помыться в бане и там же переночевать. Ихняя дочка, Санька – любопытная разноглазая двадцатилетняя дуреха – задирала Копченого вопросами: «А ты, правда, из тюрьмы сбежал?», или: «Говорят, ты из монахов, бессилен по этому делу…». Один глаз у Саньки был обычный, а второй – словно сшитый нитками – раза в два меньше и смотрел куда-то в сторону. Чем уж она переболела – неизвестно, но женихи ее обходили. И поэтому в любопытстве ее и жаркой нескромности вопросов видел Копченый, нет – Алексей, тридцативосьмилетний холостяк, скрытую тоску зрелой женщины. Он, молча, обходил ее, а Санька смеялась вслед: «Бирюк-бирюк, а сзади как мужчина!».
Копченый и Шаман прошли по обледенелому мостику через овраг и остановились перед каменным домом Худяковых с каменными же воротами, подпертыми витыми столбиками.
Стукнув в ворота, Копченый взглянул в окошко. Там отдернулась кружевная занавеска, потом по деревянным перекрытиям двора застучали быстрые шаги. Калитка скрипнула, и высунулось смеющееся лицо Саньки.
– Чего тебе, мужчина?
– Мамка или отец дома?
– Нет, и неделю не будет. В городе они, торгуют.
– А-а, – Копченый повернулся и, свистнув Шамана, задиравшего хозяйского пса, пошел обратно.
– Эй, мужчина, а я тебе не хозяйка что ли? – послышалось вслед задорное. – А ну вернись, может, договоримся.
К полудню Копченый натаскал воды, раскалил осиновую баньку до одуряещего жара и, сняв с себя задубелое обветшалое белье, с закрытыми глазами кинулся в это пекло. Вначале только стоял в пару, чувствуя, как влажное тепло проникает в него, в самую глубину усталого и вымерзшего тела. Он сладко крякал, постанывал, гладил ладонями закрасневшую кожу. Потом капроновой сеткой, намыленной обычным хозяйственным мылом, принялся ожесточенно тереть себя, словно бы решив про запас и намыться, выдраить кожу впрок.
Вымывшись, он просто сидел и наслаждался теплом, слушая, как у баньки накормленный Шаман лязгает зубами на бегающих по двору кур.
Пар медленно расходился. Копченый потянулся и лениво встал, находясь в благостном, почти счастливом состоянии, и вдруг в щели двери увидел блестящий любопытный глаз. Прикрывшись ладонью, он распахнул дверь и едва не стукнул ручкой отпрянувшую Саньку, Минуту они стояли молча.
– Ты чего? – не выдержал Копченый,
Санька хохотнула бесстыдно.
– Проверить хотела. Говорят, ты вроде евнуха, который в гареме за ханскими женами приглядывает, а сам не может, без оружия…
– Ну и как?
– Да все на месте.
Они замолчали. Алексей шагнул вперед и, взяв за плечи неожиданно вспыхнувшую Саньку, посмотрел ей в лицо. Больной глаз молодой женщины был неумело закрашен, подведен тушью под соседний, здоровый. «Для меня», – понял Алексей. В блестящем глазу Саньки, наливавшемся слезой, за показным бесстыдством притаилась такая женская внутренняя боль, что он вздрогнул и, чувствуя невесть откуда прилившую нежность, никогда не испытанную, прикоснулся к ее влажным и полураскрытым губам. Санька задышала. Полушубок медленно сполз с ее плеч, а за ним мелькнула птицей, прошуршала тонким полотном рубашка, и вспыхнуло белизной роскошное тело Саньки.
– Мой! – жарко припала она к Алексею,
Несколько дней они жили как муж и жена. Санька словно бы затуманилась, осунулась, но заметно похорошела. И ночи их были словно в тумане, в горячем сплетении тел и душ. Лишь рассвета они ждали воровски, не говоря друг другу, но со страхом ожидая приезда старших Худяковых.
К концу недели Алексей пошел на почту, отправить весточку матери. Редко, но сообщал он ей, что жив, здоров, остепенился. Брату привет передавал, кривясь, когда писал эти строки. И чтоб не искали, адреса не сообщал. Да и какой у него адрес? Волчье логово на гнилом острове.
У сельсовета его окликнули из зеленого «уазика».
– Слышь, земляк, не торопись, подойди-ка сюда.
Он, не оборачиваясь, шел дальше, зная, что ничего хорошего от этих «уазиков» ждать нечего, пусть и зеленых. Бродячая жизнь научила осторожности.
– Алексей, брат! – ударило его сзади.
Он резко обернулся. К нему шел Влас, одетый по форме и при портупее. «И тут зацепил…», – мелькнуло у Копченого.
Брат приближался, меся хромовыми сапогами снеговую кашу,
Алексей, сразу устав, сел на бревно, лежащее у обочины, отчужденно глядя на Власа. Молча поздоровавшись за руку, словно недавно виделись, они закурили.
– Ну чего, как ты здесь? – Влас внимательно, искоса, со стороны, изучал Алексея.
– Живу… Как нашел-то? Я, вроде, визитной карточки не оставлял?
– Это не проблема. Слушай, брат, давай не будем словами сорить, времени в обрез. Мамка плоха у нас совсем, при смерти, можно сказать.
– Мама?! Что с ней?!
– Сердце, да и стара уже. Просила она тебя найти и привезти, хоть напоследок увидеться. Так что, давай в машину, а по дороге поговорим.
В этом, что ли, ехать? – Алекей тряхнул ворот драной телогрейки.
– Там переоденешься. Садись!
– Подожди, Влас. Заедем только кое-куда…
Машина, скользя по наледи, выкатилась на бугор и остановилась у дома Худяковых.
Алексей бросился в дом,
– Саша! – толкнул он дверь. Санька бледная стояла у стены и со страхом смотрела на него.
– Ох, я думала… А чего там машина?
Они забылись в долгом сильном объятии. Алексей, отдувая ей пушок над розовым ухом, шептал жарко и сбивчиво;
– Саша, я обязательно приеду, обязательно! Ты только у меня есть и Шаман, больше никого. Да вот мама… Плохо ей, умирает… Брат за мной приехал. Я быстро, туда и обратно. Ты только дожидайся и Шамана сбереги.
– Езжай-езжай, родной! – сыпала горячими слезами Санька, еще крепче обхватывая его. Алексей, поцеловав ее, кинулся к двери.
– Шамана придержи-и! – уже с улицы крикнул он и сел в машину.
3
Мать они уже не застали. Даже увидеться с ней наедине Алексею не пришлось. Черными галками обступили ее старухи, ухватив, закружив в нескончаемом тягостном ритуале. Словно бы репетируя свой уход, впадали они в какой-то мрачный экстаз у мертвого тела. Только прощаясь, и поцеловал мать Алексей да шепнул ей в сомкнутые навек глаза: «Мама, не виноват я, а в чем виноват –прости…».
С поминок он ушел. Начинались они, как всегда, елейно скорбно, и потом, расходясь за водочкой, оттаял народ, разговорился. Иная черная старушка, тяпнув лихо стопочку и раскрасневшись, вдруг, словно бы на привычной дворовой лавочке, начинала бойко сыпать: «А Люська-то, бесстыжа морда, опять с животом, и без мужа, стерва!». И черная ее товарка-галка кивала согласно, блестя разгоревшимся глазом. Жизнь брала свое.
Алексей, помянув мать, не обращая внимания на шипение старух, вышел и дотемна бродил по городу, узнавая улицы, людей. А дома его ждал тихий и трезвый брат.
– Выпьем, Лешка?
– Давай.
Они сели на кухне, чтобы не мешать словно бы послепраздничной уборке, которая царила сейчас в комнатах.
– Ну, будем, – Влас пододвинул Алексею наполненную рюмку.
– Мне со стакана привычнее.
– Одичал ты, брат.
– Одичаешь…
Влас перелил водку в граненые стаканы, дополнив их до краев. Выпили, хрустя вдогонку мелкопорубленной капустой.
– Пельменей хочешь?
– Нет.
Помолчали, дожидаясь, когда жаркая волна, прошедшая по желудку, закружит мягко и голову.
– Ударь меня, Лешка! – неожиданно оказал Влас.
– За что?
– Ударь, Лешка! – настойчиво повторил Влас, нездорово блестя глазами. – Не могу я. Мамке обещал насчет тебя, что привезу, жить снова будем вместе. Я ей не говорил, кто взял деньги. Думал, при тебе ей скажу. Видишь, не успел. Лешка, как жить?! Это ведь я тебя подставил, чтобы не портил ты мне карьеру. Тут, сам знаешь, все на виду. Я, слышишь, взял мамкины похоронные! Лешка, не жить мне так! Ударь! Сделай, что хочешь!
Алексей слушал, опустив голову. Потом встал, скрипнув старым лакированным стулом с гнутыми ножками, и подошел к Власу. Тот тихо ждал.
Алексей сильно взял Власа за плечи и прижал к себе, притерся загоревшейся щекой, чувствуя, как забилась какая-то жилка на виске брата. А потом, вроде бы, сыро стало. Или показалось?
Ночь они говорили – не могли наговориться, поминали мать, тихо пели. Чокались гранеными стаканами и ели сладкую капусту, пахнущую укропом и деревянной старой кадкой. Влас, положив тяжелую руку на плечо Алексея, хмельно и настойчиво уговаривал его остаться навсегда. Но Алексей мотал головой, чувствуя сквозь ту же хмельную оглушенность, как бьется где-то под сердцем: Санька!.. Обнявшись, плакали они, уже не стесняясь, высвобожденные водкой и облегченные откровением.
Обратно его подбросили на том же зеленом «уазике». Не доезжая до дома Худяковых, Алексей остановил машину и отправил ее, попрощавшись с Власом.
Еще издали он услышал крики и собачий смертный визг во дворе Худяковых. «Шаман!» – охнул Алексей и, разбрызгивая оттепельную хлябь, кинулся к дому. Рванув калитку, он увидел Шамана, привязанного к хлеву, и Николая Худякова, целящегося из одностволки в собаку. В два прыжка он подскочил к Худякову и ударил снизу под ружье. Выстрел снес снеговую шапку на хлеве и поднял тучу галок в прилегающем осиннике. В доме тоскливо завыла Санька.
– Уйди! – захрипел пьяный Худяков. – Уйди, Копченый, бродяга! Приоделся, глянь-ка, наворовал где-нибудь, шпана! Люди сказали, как вы тут собачью свадьбу справили! Как собак вас теперь и стрелять надо!
Он потянулся к ружью, но Алексей, отшвырнув его в снег, поднял одностволку и раздробил ее об угол хлева. Худяков пьяно матерился в сыром сугробе, пытаясь встать.
Алексей отвязал Шамана, ползающего от страха на животе, и пошел в дом. Дорогу ему преградила Катерина.
– Уйди, – твердо сказала она. – Опозорил дочь. Думаешь, раз ущерб у нее на лице, так и попользоваться можно без зазрения совести?
– Жена она мне.
– Уходи, а то хуже будет и ей, и тебе!
Под Санькин жуткий вой вышел Алексей со двора.
… На льду уже кое-где чернели лужи, появившиеся в последние теплые дни. Копченый и Шаман осторожно обходили их, проверяя раскисший путь крепким сосновым шестом.
Землянки на островах были пусты. Не каждый рисковал сейчас забираться в протоки и мелководные заливы, уставленные гнилыми пеньками, где промоины появлялись в первую очередь.
Они выбрали самую теплую землянку с большой сварной печкой и закрывающейся трубой. Растопив буржуйку до алого румянца на жестяных боках, Копченый сел на нары, располовинил бутылку, сунутую ему впопыхах Власом, закусил, не торопясь, копченой колбасой, бросив щедрый кусок Шаману.
– Ну что, Шаманка, снова мы с тобой одни? Ничего. Заживе-е-м. Дом построим, баньку… – хмель быстро ударил ему в голову.
Шаман, мигом проглотивший колбасу, забил хвостом, всем своим видом давая понять, что рад построить все, лишь бы ему, жившему к старости на картошке и хлебе, дали хоть понюхать еще что-нибудь из этих вкусных вещей.
– На, корыстная ты скотина, – хмельно и расслабленно засмеялся Копченый, бросал Шаману еще один кусок колбасы. – А ведь ты, брат, жизнью мне обязан, да-а…
Он вздохнул и полез на нары.
Ночью Алексей проснулся от какого-то тяжелого беспокойства. Печка остыла, и в землянке было холодно. Он нащепал смолье, растопил, раздул до гудения печку и вышел наружу. Ночь была влажной и светлой. Он долго стоял на теплом ветру, прислушиваясь к уханью оседающего льда, шороху тающего снега, гудению ветра в голых вершинах мелколесья. Ему казалось, что сквозь эти ночные звуки он слышит чей-то тонкий и жалобный голос. Чудится? Нет, кричат. Там! Голос слышался со стороны темнеющего вдали лесного высокого берега, откуда он пришел. Алексей кинулся по своим следам, затопленным черной водой. Крик был слышен все ближе и ближе. Впереди что-то забелело. Алексей остановился. Перед громадной промоиной, на ветру, в одной лишь тонкой рубашке… Он протер глаза. Кажется ему что ли?
– Санька… Жена! – крикнул он, не веря.
– Мой… Я тебя искала…
На руках он отнес ее в жарко натопленную землянку. Натаскал сена из стога на соседнем острове. Сбросил с Саньки рубашку и долго натирал водкой ее белое тело, пока оно не заполыхало под его ладонями.
– Санька, родная, выпей-выпей водки, поможет!
Она выпила, закашлявшись, постепенно розовея и приходя в себя.
– Сейчас-сейчас, подожди, девочка, – бормотал Алексей, пытаясь натянуть на ее полные бедра свои кальсоны. – Сейчас будет тепло.
Потом они, зарывшись в сено, пахнущее теплым лугом, молча, лежали, ощущая радостно близость друг друга, и слушали, как поет тоненько уголек в печке. Шаман, находя их сплетенные руки, тыкался в них холодным сырым носом и шумно вздыхал от чего-то, только ему понятного и потаенного…