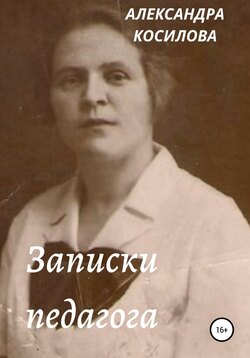Читать книгу Записки педагога - Александра Косилова - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеОт редактора
Моя тётя Александра Андреевна Косилова (1903-1984) незадолго до своей кончины написала воспоминания о своей жизни. Рукопись хранилась у моего старшего брата Комаристова Василия Ефимовича, в семье которого тетя жила последние годы. После смерти брата в 2004 году мемуары хранятся в моем архиве, так как я оказался единственным наследником. Я взял на себя смелость отредактировать текст воспоминаний и опубликовать их в виде небольшой книги на сайте ЛитРес:самиздат.
Комаристов Анатолий Ефимович
* * *
…Я взялась за перо по рекомендации моей невестки Зинаиды Ивановны Комаристовой. Она, наверное, была права, когда предложила мне забыть о моих болезнях, вспомнить свою жизнь и попробовать изложить на бумаге все, что я еще помню.
Возраст дает о себе знать. Недавно мне исполнилось 80 лет. Из всех близких, с которыми я прожила всю жизнь, начиная с детских лет и до глубокой старости, я осталась в живых одна. Сейчас только я помню многие события, которые были в нашей нелегкой жизни.
Я доживаю свой век у любимого ребенка Васи, которого воспитала и выучила, хотя это сын моей младшей сестры, которая много лет назад оставила троих детей – его, а также Толю и их маленькую сестру Валю. В 1940 или 1941 году она навсегда исчезла, в неизвестном направлении. Их отец Комаристов Ефим Петрович родился в 1904 году, а в 1937 году был осужден на 4 года, «как вредитель», и отбывал наказание на каких-то рудниках в Архангельской области.
Все вместе (три сестры, наша мама) мы решили, что детей будем воспитывать сами. Отдавать их в детский дом не будем – практически они выросли у нас, а не у родителей.
…Теперь о себе. Родилась я 10 октября 1903 года в семье рабочего седьмым ребенком. Отца лишилась рано (я его почти не помню). Он умер скоропостижно от язвы желудка. Мама осталась одна с детьми – восемь человек. Анюта и Илларион (Ларя) от первого брака папы пошли работать. Анюта к помещикам, а Ларя учеником в кузню на каретника. Катя и Маруся дети от первого брака мамы. Катя пошла ученицей в швейную мастерскую к еврею Фиме, а Маруся домработницей по найму. Брата Гришу взяли дедушка и бабушка – родители мамы. Дедушка Антон Иванович работал мирошником (мельником) на барской мельнице. Вскоре он заболел и умер от рака желудка.
Остался Гриша с дядей Назаром (братом мамы). Окончив школу, Гриша переехал домой. Мама отдала его к купцу Соколову, где он был учеником в лавке и помогал хозяйке. Мальчик он был смышленый и управлялся везде. Через Гришу купец часто давал продукты в долг нашей семье. Потом Гриша перешел в магазин к другому купцу уже приказчиком на жалованье. Гриша помогал маме. Катя – тоже помогала, она уже самостоятельно шила. Катя в молодости была революционно настроена, за что постоянно привлекалась полицией.
В семь лет я заболела натуральной оспой, которая оставила след на моем лице. После выздоровления надо было идти в школу. Детвора дразнила меня «рябушкой». Со мною вместе ходил в школу сосед Киданов Митрофан, которого дразнили почему-то «Маретой». Он тоже дразнил меня, но в талую воду, я была в ботиночках, а он в сапогах – переносил через глубокий ручей меня на своей спине. Когда стали старше – мы с ним дружили. Недавно он умер.
Рукопись воспоминаний Косиловой А.А.
Училась я хорошо и с раннего детства у меня была мечта стать учительницей. Окончила я школу (4 класса) в 12 лет. Было желание учиться дальше, но у мамы не было средств. Когда мама попросила директрису женской гимназии Веру Федоровну Никольскую, у которой работала поденно, устроить меня в гимназию за казенный счет, как отличницу, директриса ответила маме, что не обязательно кухаркиной дочери учиться в гимназии с купеческими и дворянскими детьми.
Вера Федоровна была очень важной дамой. Сопровождала ее всегда в гимназию и обратно горничная Прасковья Петровна Комаристова (сестра отца наших детей – Васи, Толи и Вали).
Два года я не училась, а нянчила чужих детей, пока не произошла революция 1917 года. Приходилось вместе с хозяевами выезжать в поле. Какая это была радость! Ржаное поле колосится спелой рожью, а над ним в лазури поют жаворонки. Все это радует и веселит, и ты невольно забываешь все огорчения, что ты не имеешь права учиться наравне с другими только потому, что ты дочь рабочего и можешь только думать о своем желании – учиться.
А сколько радости доставляет сознание, что ты работаешь – смотришь малышей, матери которых в поте лица вяжут рожь или убирают сено. Приятно сознавать, что ты, своим трудом помогаешь своей семье и не зря проводишь время. На ум приходят стихи: «Пахнет сено над лугами, песни душу веселят, бабы с граблями рядами, ходят сено шевелят…».
Детство мое было безрадостное, как и у всех бедных детей того времени.
Запомнился мне пожар, когда у нас сгорел верх хаты и все надворные постройки. От хаты остались только стены. Нас поселили к соседям в недостроенную хату. Мама все плакала, а мы с младшей сестренкой Анфисой успокаивали ее (не понимая смысла сказанного):
– Мама, не плачьте! Сколько у нас углей, хватит не только на самовар, но и на утюг.
Школьницей я не только смотрела чужих детей, но и обслуживала подругу соседку (она была с ленцой) за бублики, которые ей приносила мать, работавшая у бублечницы. Она была кумой у мамы. Мой папа крестил Нину. Отец Нины был всегда пьяный, и Наталья Михайловна содержала всю семью. Она рассказывала о пожаре нашего дома (они жили по соседству с нами). Всю ночь у нее болели зубы, и она не спала и видела в свое окно, как по нашей крыше с огорода побежала огненная струйка (крыша была соломенная). Она не успела разбудить своего мужа, как вспыхнула вся крыша. Муж тушил пожар по-хозяйски, а некоторые специально разбивали мебель в щепки и выбрасывали.
Я чистила у Нины самовар, смазывала пол, мыла окна и т.д. Заработанные бублики не только ела сама, но и носила домой Анфисе.
Мама наша была строгая и за каждый проступок наказывала нас. Меня мама один раз била хворостиной за то, что я прямо из школы пошла за иконой, которую монахи носили по городу, и пришла домой почти вечером, грязная и промокшая до костей, так как целый день шел дождь. Второй раз за то, что не пошла к соседке за молоком в долг (мне было стыдно).
Маму все соседи любили и звали ее Антонихой. Они одалживали свои домашние продукты – хлеб, пироги, которые пекли на базар, молоко. Мама отрабатывала долг или шила их детям одежду. О, как я любила пироги, которые пекли соседки. Бывало, кричит кто-нибудь из них:
– Антониха! Возьми пироги с горохом, с яблоками, со сливами, вишнями! Всего 3 копейки за пирог.
А они пышные, вкусные, мягкие. С каким удовольствием съела бы я их сейчас, но теперь почему-то такие не пекут.
После революции в Короче открыли начальное училище. Меня приняли во второй класс. В училище, кроме всех предметов, преподавали и рукоделие, где я научилась вязать и вышивать. Только в 1919 году меня приняли в 4-й класс школы 2-й ступени, которую я окончила с отличием в 1924 году в возрасте 21 год. На весну и лето школу пришлось оставить и уехать в село шить туфли на веревочных подошвах за продукты, был голод.
В это время мама заболела холерой. Я ходила домой пешком, доставляя хлеб, молочные продукты, крупу. За мамой ухаживала француженка, бывшая гувернантка богатой семьи. После революции она осталась в России. Мама поправилась.
В этот год Маруся вышла замуж, она уже не работала по найму, а была подмастерьем у старшей сестры Кати.
Во время гражданской войны мама заболела рожистым воспалением. Короча в это время переходила от белых к красным и наоборот. Гриша не работал (закрылись магазины) и уехал в село к маминой сестре. Помогал нам продуктами дядя Назар и Дуня. Маме нужно было делать операцию. Врач сказал, что все нужное для операции мы должны купить сами. Денег у нас не было, а были две золотые монеты по 5 рублей. Они остались у Кати за работу у графини Крейц. Одну из них Катя продала за 400 рублей и на все деньги купили необходимый для операции и перевязки материал. Другая монетка пропала. Видимо, у нас ее похитили. Ходила к нам женщина, как знахарка, заговаривала болезни. Она, наверное, и украла. Но, бог с ней, главное вылечили маму.
Болезнь дала осложнение. Маме под наркозом долбили череп, выкачали много гноя. Потом целый месяц фельдшер делал перевязки. Денег у нас не было. Катя не работала. Помогал дядя Назар и тетя Дуня (мамины брат и сестра). Все они давно умерли…
По окончании школы РОНО направил меня ликвидатором безграмотности среди взрослого населения, где я работала два года. В январе 1927 года РОНО назначил меня учительницей начальных классов в школу села Поповка, так как не хватало учителей. Дали мне второй класс и вот здесь я почувствовала свой физический недостаток. Учитель первого класса подносит мне раскрытую книгу и указывает на строчки, где было написано:
– А Маша рябая…
С его стороны это было нетактично, и я запомнила его поступок на всю жизнь.
Этот год был насыщен событиями – Анфиса вышла замуж за Ефима Комаристова, Маруся схоронила сына Колю 3,5 лет и мужа. Это была трагедия не только для Маруси, но и для всех нас. Александр Кириллович (муж Маруси) был замечательным человеком. Он не перенес смерть сына и в состоянии острого психоза покончил жизнь самоубийством. Маруся осталась вдовой в тридцать лет и поклялась больше не выходить замуж. Она была интересной, представительной с гордой осанкой. Она очень любила детей Анфисы.
Школу я окончила отлично, а к урокам готовилась так – бывало только приду со школы, а Катя уже приготовила мне работу. Она принимала заказы – платья, блузки с вышивкой гладью (это было модно). А вышивать то приходилось мне. Беру работу, учебники и иду в сад. Садик был небольшой, но там были все фруктовые деревья. Росли яблони, груши, сливы, чернослив, вишни. Четыре груши – «малиновки» посадил дядя Вася (брат мамы). Он был учеником Корочанской школы садоводства. Школа славилась на всю область.
Сажусь на лавочку, работу на колени, а учебники в кусты. Как калитка скрипнула на огород – вышиваю, никого нет – занимаюсь по учебникам. Я больше запоминала все, что говорил учитель. Придут подруги, зовут гулять, а Катя кричит:
– Ей некогда, она занята.
Так как я не имела специального педагогического образования, РОНО послал меня в Белгород сдать в педагогическом техникуме методики. Когда я сдавала методику по арифметике, преподаватель посмотрел в окно и спрашивает меня: «Как по-Вашему, сколько декаметров до того дома?». Я не знала, что это единица измерения длины равна 10 метрам и ответила наобум: «Примерно четыре или пять…». Преподаватель говорит: «По прямой-да, а в обход примерно восемь-десять» – и поставил мне в зачетку положительную оценку.