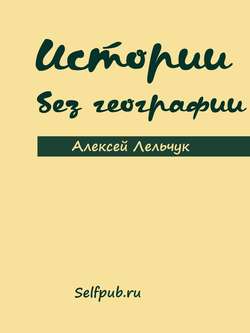Читать книгу Истории без географии - Алексей Лельчук - Страница 1
Альбом молодого художника
ОглавлениеПлоская Москва
Я уже привык к Москве и даже в чем-то ее полюбил. Например, если встать у Елисеевского и посмотреть вниз на Тверскую… К вечеру, когда чуть стемнеет, что-то в воздухе происходит, и картинка перестает быть объемной. Гудящая машинами Тверская со всеми своими домами, фонарями, Моссоветом и Интуристом становится плоской – как в кино или на картине.
Плоские автомобили плоско выстраиваются в плоские ряды у светофора и, плоско уменьшаясь, плоско несутся к следующему, который меньше первого по размерам, но стоит с ним рядом, только чуть-чуть пониже. Самую чуточку – вот так. И Интурист растет плоским пятым этажом прямо из плоской разделительной полосы. Так что плоские иностранцы, выглядывая в окна, видят прямо перед собой плоские проезжающие машины – близко-близко, самые колеса. А вот плоская «Волга» припарковалась, и даже бампером слегка задевает кремлевскую звезду. Та здесь же плоско вырастает из плоского тротуара.
И это потому, что Елисеевский магазин стоит на горе, а Никольская башня – в яме, там раньше речка была, и поэтому она своим верхом приходится как раз вровень с чьим-то бампером.
А так как вечером объема не видно, то и кажется, что все это нарисовано на одной картинке. Кстати, древние русские лубки и жития святых так и рисовались – все на одной плоскости, только разного размера. Может быть, предки наши творили все больше вечерами?
Плоско же все потому, что сумерки, и фонари светят несильно, и влажный густой воздух, и серые здания, и серые люди, и нет зелени, потому что зима, и нет снега, потому что не выпал. И нет реклам и ярких вывесок, чтоб осветить то, на что не хватает фонарей. И так уютно!
Как будто сидишь дома в теплом кресле и смотришь на противоположную стену. А на стене – картина, «Тверская улица вечером. Зима 1992 года».
Неумолимо
Скорый поезд движется к югу неумолимо.
Неумолимость эта – в скорости, прямолинейности и чем-то еще. Наверно, в покачивании на стрелках, стыках и неровностях полотна. Мол, и путь не так уж ровен – стыки, кривули, рытвины, – но мы все равно вперед, прямо, скоро.
В самолете нет этого ощущения, там вообще нет понятия движения. В самолете есть понятие – провести четыре часа времени. С движением это напрямую никак не связано. Поднимаясь по трапу в Москве, ты уже мыслями на месте – просчитываешь, как успеть на семичасовой автобус из аэропорта.
Когда идешь пешком, всегда можно обернуться, остановиться, повернуть, – своя воля. На машине – тоже. Из троллейбуса можно выйти на остановке. Автобус можно попросить: «Остановите автобус». Даже в пассажирском поезде нет той неумолимости. Он движется медленнее, часто останавливается, – его приходится часто подгонять мысленно. Он движется медленнее, чем мысль о его движении.
Скорый поезд движется быстрее, чем мысль. И стоя у открытого окна, можно глазами наблюдать, как он метр за метром прорывается сквозь пространство – раньше, чем туда проникает твоя мысль.
Кстати, самолет, – хоть и летит очень быстро, – движется гораздо медленнее мысли, так как мысль тогда, как уже было сказано, мгновенна.
Стабильность
В городе лето.
В городе день.
В городе жарко.
Над горизонтом ни облачка.
Голубизна неба огромным конусом взвивается вверх – голубая крыша. Зелень травы сплошным ковром обнимает газоны – зеленый пол. Зелень деревьев столпилась вокруг – зеленые стены.
Зеленая комната.
– Хм. Но в комнате должна быть дверь.
– Верно. Оглянитесь назад, мы в нее вошли.
– Хм. Но в комнате должно быть окно.
– Верно. Взгляните вперед. Голубое окно в небо.
Синие машины везут коричневые бревна на пилораму. Красные машины везут серый цемент на стройку. Желтые автобусы везут граждан на квартиры.
Джинсовые шорты гуляют с темными очками. Желтая кепка гуляет с майкой Oxford University. Зеленая фуражка гуляет с четырьмя звездочками. А серая – с резиновой дубинкой. Бабушка гуляет с авоськами. Очередь за пивом гуляет с гиканьем и свистом. Солнце не гуляет. Солнце стоит и палит. Греет. Жарит. Работает.
– Эй город, что это у тебя там справа?
Город оглянулся. Да нет, вроде бы, все на месте. Окно. А в окне?
В окне летели они. Колючие силуэты на светлом небе. Невысоко. Но и не низко. Вплотную друг к другу. Выстроены в линию. И очень много.
Налево? До горизонта. А направо? Тоже до горизонта. Бесшумно приближались они.
Город не понял. Город присел. Город вдохнул.
Медленно летят, приближаются, под брюхом у каждого – смерть. Верная смерть всему. Но летят молча, бесшумно. Город ждет – что будет.
Ничего. Хвосты. Торчащие в небо хвосты. Колючие силуэты на светлом небе. И нет их. Пролетели.
Вертолеты. Армейские вертолеты. Штурмовики с полным боевым комплектом.
Вот она – наша стабильность.
Человек на пляже
Вот лежит человек. На пляже. Хотя – нет. Человека что-то не видно. Вот лежит человеческое тело. На пляже. Тело, по всей видимости, мужское. Довольно загорелое. Сложено неплохо, хоть можно бы и получше. Руки оно раскинуло в стороны, ноги на ширине плеч, правая нога чуть согнута. Где надо у него надеты плавки. Оно лежит неподвижно на спине и загорает. Лица не видно, потому что на лбу панама.
Оно лежит неподвижно и загорает. Основной жизненный процесс, который с ним сейчас происходит – это загорание. Именно для этого оно здесь и лежит. То есть, оно, конечно, совершает и другие необходимые для его существования действия; например, оно дышит. И производит равномерное движение животом, раз в полторы секунды – вверх-вниз. Но движение это настолько равномерно и периодично, что мы можем с полным правом его не рассматривать как существенное для обсуждаемого вопроса.
Вдруг в какой-то его части – внутри – происходит какая-то химическая реакция. Мы этого не видим, но мы знаем, что это так. Потому что мы изучали анатомию, и мы знаем примерно, как оно устроено изнутри. Где-то там – внутри этого организма – какой-то белок соединяется с какой-то кислотой и выделяет углекислый газ и воду. Он выделяет, вероятно, и что-то еще, но про углекислый газ и воду мы можем сказать точно, – мы за это получили в свое время оценку «пять». За то, что, какая бы сложная реакция ни была, – а здесь мы, без сомнения, имеем дело с чрезвычайно сложной реакцией, – в конце концов все равно получается углекислый газ и вода. Но это нам сейчас не важно. Нам важно совсем другое, сейчас узнаем, что именно.
А пока повторим, что мы имеем на текущий момент. Мы имеем тело, которое лежит на пляже совершенно неподвижно. Так неподвижно, что единственное, что мы можем сказать о нем достоверно, это то, что его кожа разделяет вселенную на две неравные непересекающиеся части – внутри него и снаружи. Что происходит внутри, мы не можем достоверно сказать, но, зная анатомию и наблюдая в следующий момент времени определенный процесс, мы можем предположить, что в данный момент времени, – то есть в предыдущий по отношению к следующему, – где-то, в какой-то части этого тела, произошла реакция.
У него там – внутри тела – есть проводники, это мы тоже знаем из анатомии, – называются они «нервы». И нам важно, что от этой реакции по одному из проводников начинает бежать импульс. Куда – это тоже определяется реакцией. Он бежит себе, и прибегает телу в ногу, в самый низ, и тут-то мы и начинаем наблюдать упомянутый ранее процесс.
Правая нога, которая была чуть согнута, распрямляется, потом сгибается, потом опять распрямляется, потом оно шевелит пальцами, туда-сюда, и на этом процесс заканчивается.
И оно продолжает как и раньше лежать, загорать и разделять вселенную на две части. Но уже с распрямленной ногой.
Маленький
Как много я знал, когда был маленьким!
Я твердо знал, что мороженое бывает по семь, по тринадцать, по восемнадцать и по двадцать копеек. Я знал, что молоко в наш продуктовый привозят в десять утра, в больших бидонах, литров по шестьдесят, – и что продавщица разливает его покупателям литровым алюминиевым ковшом. А у квасной продавщицы на улице – такой же ковш, но на пол-литра. Для меня было совершенно очевидно и очень важно, что «ракеты» на Овидиополь и Лиманскую уходят с того причала, что напротив дороги, а на Солнечную и Затоку – со второго, который дальше. Проснувшись ночью, я не запнувшись объяснил бы вам, что ходят они раз в полчаса начиная с полдевятого утра и до полседьмого вечера, с перерывом между одиннадцатью и двенадцатью. И здесь же, не надевая тапочек, очень удивился бы, если бы узнал, что кто-то этими сведениями не владеет.
Что ракета, когда отчаливает, сначала сдает полметра вбок от пирса, потом отходит назад градусов на тридцать по большой дуге, становясь носом наполовину к пирсу, наполовину к лиману, а потом уже выворачивает налево и уходит. А еще я мог в деталях описать, как она становится на крылья, какие и в какой момент от нее начинают расходиться волны, а какие, наоборот, исчезают.
В пять лет я был маленьким, и эти куски знания казались мне такими большими! Кирпичи, что клались один за другим в стену – мои будущие мозги, – с высоты моего тогдашнего роста они были значительными и необходимыми.
Потом, когда я вырос, кирпичи уменьшились. Они стали собираться в вагоны и поезда. Когда их стали подвозить один эшелон за другим, каждый отдельный камень уже стал теряться среди массы таких же, одинаково незаменимых и бесполезных. Взрослый человек не видит процедуры отчаливания и не запоминает расписание, он носит его в кармане. Он мыслит интегрально, он определяет по цвету глины марку кирпича и по таблице отправляет состав на нужный путь. Но если перелезть в вагон, взять в каждую руку по кирпичу и внимательно на них посмотреть, – ракеты все ходят и все отчаливают, хоть уже и не так. И расписание висит, хоть уже и другое. И молоко, – его перестали возить в бидонах, оно есть в магазине весь день, бутылочное, – но оно есть, и его пьют, и так же малышня с сумкой себя больше и сдачей под мышкой тащит его из магазина бабушке.
Столько всего знал, и все забыл!
Поезд
Он темный. Оно темное. Поезд идет. Из окна видно мало. Ночь уже. Спать, в общем-то, хочется. Сейчас постель дадут, и лягу.
За окном Рось. Да – Россия. Впрочем, темно – не видно. Огни видны. Сквозь лесополосу. Она прозрачная, палки торчат с ветками, – зима уже потому что.
Огни – это фонари, и какие-то окна, и красные знаки – чтоб самолеты не налетали. Видно, на чем-то высоком.
А близко – снег, дырявый. Дыры в нем протерлись как в свитере – от жизни тяжелой. Следы, – да, они с поезда различаются, – плетень расплетенный наполовину, избы и почему-то фонари. Откуда здесь фонари? Деревню, что ли, проезжаем?
А вот, чтоб не обольщаться, и кончились фонари. И вообще ничего не видно. Так-то.
Но ненадолго. Опять какой-то свет. Бардак – неинтересно ночью в окно из поезда смотреть.
А как вы думаете, может в вагоне поместиться автомобиль? А?
Запросто! Вон стоит, на третьей полке. Классная машинка!
Спортивная, с открытым верхом, красная ярко, колеса широченные. Даже не двудверная – без дверей вообще! Больше отсюда ничего не видно, к сожалению. Мечта!
Кроме нее на полке еще умещается чемодан, – большой, цвета дешевого шоколада, из резинового кожезаменителя. А автомобиль – педальный, в одну пацанячью силу.
Игрушечный. Вот так-то. А вы думали настоящий? Ха-ха-ха!
Видите, какой юмор простой, – спать пора, пейте чай – и спать.
Э-эх! А как подстаканник-то гремит!
Художник
Художник – это общение с миром на «ты». Это извлечение из мира души руками. Художник больше принадлежит туда – миру, чем нам – людям. Мы строим наше общество, придумываем новые вещи, новые лучшие способы работать, новый лучший распорядок дня. А его распорядок дня – это распорядок дня мира. Он встает вместе с миром на рассвете и идет рисовать. В жару он вместе с миром валяется в тени, не в силах поднять руку-ногу. А к вечеру он опять встает и проводит тихие часы перед закатом за своей тихой работой. Так было всегда, и так будет всегда, сколько бы мы ни бегали со своим прогрессом.
Он – как пацан, у которого дядька работает шофером и водит машину под названием «мир».
Он залазит с ногами в мир, садится рядом с водителем и из кабины корчит нам из окна рожи. Он там все смотрит, щупает, задает дядьке-водителю глупые вопросы и, строя умный вид, слушает ответы. А мы смотрим через стекло, как все это происходит, и ничего не понимаем.
Потом он возвращается к нам, к восхищенным и завидующим, стоящим в круг около капота, и с красными от счастья увиденного ушами рассказывает то, что нам никогда не будет дано пережить самим, но что мы всегда теперь будем помнить и знать по его сбивчивому описанию.
А завтра дядька снова возьмет его с собой в машину, и мы снова будем стоять кругом и завидовать.
Такие дела
«Такие дела» – так говорил у Курта Воннегута один из героев, когда у него убивали еще одного друга (была война). Я тоже часто говорю «такие дела». Когда? Иногда просто к слову, но часто – в момент, когда погуляв у себя в голове по другому миру и что-нибудь там хорошее получив, возвращаюсь в реальный, – а тот убиваю, и сам в нем умираю. И говорю – «такие дела». А если хорошего ничего зацепить не удается, то я как бы ни с того, ни с сего говорю: «А черт его знает». Это значит, что я не пришел ни к какому толковому выводу, но мир мне уже надоел. И я его убил. Такие дела.
Гуд бай, град Москов
Там внизу, прихватив щупальцами дорог раскинувшиеся полы окраин, лежал город. Как огромный спрут о восьми миллионах голов и шестнадцати миллионах ног, он нехотя приподнял горизонт за край, перевернулся на другой бок и решил, что пора просыпаться.
Уставившись на мир оранжевым полукругом солнца, корявый железобетонный циклоп начал приходить в себя после очередного ночного небытия. Прочистил сернистым газом легкие, помочил мерзнущий кончик носа брызгами сорванного дворничьего крана, почесал асфальтовую спину о гусеницы проехавшего бульдозера. Рванула по сосудам кровь – метро. На станции метро «Фили» трое ребят в ватниках и кроссовках «Адидас» начали, похрустывая ледком от луж на асфальте, выгружать из Камаза ташкентскую картошку в больших крупноячеистых сетках. И в городе начался день.
Горизонт всколыхнулся еще раз и, наконец, встал на место. Самолет фирмы «Аэрофлот» летел в Нью-Йорк.
1990-1992