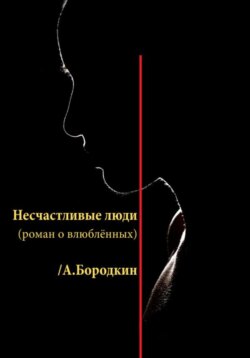Читать книгу Несчастливые люди - Алексей Петрович Бородкин - Страница 1
ОглавлениеРождественская сказка со счастливым концом
/в качестве прелюдии чистосердечно признаюсь, что события имели место в действительности… я лишь незначительно сдвинул их по временной шкале, чтобы придать сказочности и красок… этой грустной, в сущности, истории
Умывался он с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться тоже было приятно, но, отняв от лица полотенце, Николай Дмитриевич увидел, что оно испачкано радикально-чёрными штрихами – вероятно машинное масло попало на волосы.
"Как я умудрился?" – подумал с неприятным удивлением. – Изгадился? Когда?"
И ещё подумал, что замарал хозяйское полотенце, а это свинство.
Лида сидела на кухне, из окна бежал свет не по-зимнему белый и энергичный, женщина опустила ладони меж колен, словно Иисус в пустыне. Николай Дмитриевич хотел извиниться, и даже приготовил фразу: "Ты представляешь, весь день ходил по базе, выбирал полуоси и тормозные колодки. Где-то влез в отработку… – здесь следовало развести руками. – Испачкал полотенце, Лид… Ничего? Ну, свинтус я, ну, виноват! Не велишь казнить?"
Лида опередила:
– А меня муж бросил.
Пауза на четыре секунды.
– Не горюй слишком, – выговорил Николай Дмитриевич, и таки использовал заготовленный жест. – Дело житейское. Вчера бросил, завтра вернётся. Я свою кобру знаешь сколько раз бросал? Безоговорочно и безрезультатно.
– От меня муж ушел, – повторила Лида, будто бы надеясь, что такая формулировка доступнее для понимания.
Николай Дмитриевич сунул в ухо мизинец (там оставалась вода), сочувственно "икнул" правым плечом вверх и вниз. Следом за этим движением, в животе заурчало: позавтракать Николай Дмитриевич не успел, и целый день не имел во рту даже росинки маковой.
Вспомнил, что хотел с Аркашей (ушедшим мужем) посоветоваться о болях в пояснице – там что-то постоянно ныло и тянуло… и это тревожило.
– Аркадий ушел, дядя Коля! – с усилием выдавила Лида.
– Давно?
– Третий день. – Губы племянницы затряслись.
– А почему ты решила, что ушел? – Женщину требовалось приободрить, Николай Дмитриевич заговорил рассудительно. – Канун Нового года, праздники… быть может, загулял с друзьями. У меня завгар вон вторую неделю не просыхает, и ничего. Он свободная личность в результате назревающего коммунизма, конституция его защищает. Я ему отпуск оформил… за его собственный счёт и всё – пущай пьёт. Нам ли быть в печали?
– Ушел он… бросил… я знаю.
От такой унылой целенаправленности Николай Дмитриевич даже воскипел:
– Да почему вы, бабы, всегда самое плохое думаете? Быть может он ногу сломал… эту самую, как пёс её?.. шейку бедра! лежит где-то во сугробе, подняться не может.
В мутных от слёз глазищах Лиды зародилась надежда:
– Дай бог, чтобы так! – проговорила она. – Дай бог…
Лида попросила проводить её в отделение милиции – она хотела написать заявление. Николай Дмитриевич подумал, что это чушь: "Курам на смех!", но отказать не сумел, хватанул на ходу горбушку хлеба с салом и начал одеваться… не расстраиваясь больше о перепачканном полотенце.
***
Картина вытанцовывалась следующая. 18 декабря Аркадий Сергеевич Лакомов не вернулся домой с работы.
– Я не заподозрила дурного, – пояснила Лидия Лакомова, – подумала, что он остался на дежурство, или кто-то из персонала заболел. Сейчас многие болеют… дети в школе, педагоги и даже среди врачей случаются заболевания гриппом. Аркаша часто подменял… он добрый, отзывчивый. Он не мог отказать.
Младший лейтенант скупо кивнул головой, обозначая своё внимание и перевёл взгляд на дверь, лишь только по ходу кольнув Николая Дмитриевича, что стоял рядом с заявительницей.
– На следующий день я забеспокоилась и позвонила заведующей… Аркадий работает в поликлинике терапевтом, понимаете?.. Заведующая сказала, что он отпросился и ушел раньше, сразу после обеда.
– Когда? – вклинился лейтенант.
– Что когда?
– Когда он отпросился? Восемнадцатого или девятнадцатого?
– Восемнадцатого, – вздохнула Лида. – Он отпросился и ушел… от меня.
Указательным пальцем лейтенант почесал в затылке, палец двигался по радиусу, словно "дворник" на лобовом стекле автомобиля:
– А чего вы хотите от милиции?
– Я… – Лида смутилась и начала мямлить: – Дело в том… мы прожили девять лет… почти всегда душа в душу… я не ожидала предательства… боюсь…
В разговор ворвался Николай Дмитриевич, оттеснил племянницу:
– Ну, вот что, лейтенант, не морочьте голову! Человек провал, не мешок картошки! Три дня, как ушел из дому! Примите меры!
– Заявление приму, – согласился лейтенант. – Меры – отнюдь! – Слово "отнюдь" явственно нравилось служке закона. – Каждый человек имеет право жить где он хочет и с кем он хочет. Конституция дозволяет.
– А что, если он погиб? – опасным шепотом выговорил Николай Дмитриевич. – Что, если мужика убили? – Николай Дмитриевич умел драматизировать. Работа в автопарке требовала. – Про уход из семьи и другую женщину – это вы не слушайте, это всё филькина грамота. Лидка навыдумывала от паники. Аркадий честный семьянин, в шахматы играет… второй разряд, практически… в свободное время мануальной терапией занимается. Спину мне лечил, вот, иголками. Он порядочный человек и он пропал, неужели непонятно? – Николай Дмитриевич значительно взвинтил себя и не собирался останавливаться. – Я вижу, вы не хотите меня слушать, лейтенант. Всё, что я говорю, вам кажется чепухою. Пожалуйста! Имеете право несовместимое с занимаемой должностью! Будем говорить с начальством. Кто тут у вас главный? Пригласите, пожалуйста!
– Не кипятитесь, гражданин! Разберёмся!
К чести лейтенанта он действовал решительно и сметливо: пододвинул Николаю Дмитриевичу второй телефонный аппарат (бодрого синего окраса и с трещиной на фасаде), распахнул тетрадь на развороте "Больницы и морги", отутюжил её пальцами, чтобы страницы не поднимались.
Кивнул:
– Так справимся эффективнее. Ваша колонка правая, моя левая. – Накрутил верхний номер.
Звонки отняли минут пять или семь. Лида сидела, как мышка: кивая, сморкаясь и прижимая к губам клубок носового платка. Переводила взгляд с одного мужчины на другого.
По итогу, лейтенант хмыкнул, вернул трубку на телефон и выговорил:
– Сейчас оформим заявление, гражданочка… только вы напрасно беспокоитесь. Ввернётся он к вам или не вернётся, этого милиция гарантировать не в силах. Но я имею основания утверждать, что противоправных действий в отношении гражданина Лакомова совершено не было. Восемнадцатого, девятнадцатого и даже двадцатого декабря сего года в медицинские учреждения города поступил только один пострадавший с телесными повреждениями, и это однозначно не ваш муж.
– А чей? – вскинулась Лида.
– Гражданин без документов, – лейтенант поправил фуражку. – Какой-то маргинал… личность без определённого места жительства. Вероятно, алкоголик… или пьяница.
Николаю Дмитриевичу фраза понравилась, он сказал, что это две большие разницы:
– Алкоголик супротив пьяницы, всё одно, что дворник супротив столяра. – Посмотрел на Лиду: – Ну, вот, дурёха, а ты психовала! Ушел! Ха-ха! Нашего брата, ещё палкой будешь гнать – не уйдём. Верно я говорю, лейтенант?
Лидия подняла взгляд на дядю Колю и тоже невольно улыбнулась… подчиняясь его веселью. И лейтенант захихикал.
В голове женщины танцевала блаженная сумятица, глупая, и одновременно, спасительная: с одной стороны, раз Аркадия нет в больнице (и в морге! свят-свят! тоже нет!), значит он не пострадал… и это хорошо. Но раз он не пострадал, значит он изменил с другой… и это отвратительно!
Когда вышли из отделения милиции, сверкала луна. Оптимистично гудели машины, крупкой сеял снежок, прохожие торопились вернуться домой. Вечер формировался вполне себе рядовой, текущий, безликий, но…
…но что-то он заключал в себе. Что-то большее, магическое. Аура нового года благословляла его, а потому и фонари с глазами жёлтыми (нас вели сквозь туман), и луна (ущербная, огрызающаяся, острозубая), и хруст снега под ногами, и даже цепкий морозец – всё это казалось волшебным.
Как минимум, необычным.
Далеко вытягивая руки, Николай Дмитриевич натянул перчатки. Лида взяла дядю под локоть. Они двинулись вдоль забора в бодро-прогулочном темпе, и когда отошли шагов на двадцать, Лида проговорила:
– Я должна тебе сказать важную весть, дядя. Дело в том, что Аркадий выиграл в лотерею. Огромные деньги.
– Шутишь? Откуда?
Лидия не шутила, лицо её завесило строгое выражение учительницы перед контрольной работой:
– На день рождения я подарила ему лотерейный билет. А незадолго… как раз перед…
– Перед тем, как он пропал? – помог Николай Дмитриевич.
– Да-да, верно… за пару дней до, вышла газета с таблицей. Аркаша выиграл десять тысяч. Он сам мне сказал.
Светофор вспыхнул красным. Пешеходы остановились. Николай Дмитриевич посмотрел на племянницу сверху вниз… в голове пролетела мыслишка, что страшненькая она бабенция… Лидуха… и несовременная совсем: "Так-то разобраться девка дородная… сиськи на месте и жопа толковая… К чему этот пуховый платок? Бабкино наследство что ли проветривает? Косметика почему отсутствует на выражении лица?"
– Почему не рассказала в милиции?
Загорелся зелёный. Лидия ответила рассудительно:
– А что бы изменилось? Они ведь всё равно не поверили.
– Тут ты права.
Вернулись домой. Переоделись.
Вечер тянулся тоскливо.
Долго и непонятно зачем смотрели телевизор (какую-то передачу про заполярных людей и животных), потом вяло с неинтересными повторами перемывали косточки общих знакомых. Ужинали… без малейшего аппетита… Дома Николай Дмитриевич привык (невзирая и несмотря) выкушивать четвертинку водки, а уже потом, разомлев и подобрев, и почувствовав внутри себя "зарождение энтузиазма", приступать к трапезе, хлопнувши жену (ту самую многоброшенную кобру) по крупу: "Давай-ка, мать! порубать!"
Такая процедура примиряла с действительностью. Вдохновляла.
А тут?
"Как Аркашка существовал в подобном Мире? Мне кажется, в этом доме я бы не выжил и одного месяца, задохнулся бы в этом воздухе…" – подумал Николай Дмитриевич.
Перед сном, постирав носки и вывешивая их на батарею, он решил, что надо задержаться на пару дней. Поддержать племянницу, помочь ей. "Десять тысяч – это мотив", – засела в голове неприятная нота.
Сказать откровенно, была и бескорыстная корысть. Николай Дмитриевич заведовал автомобильной базой в районе, приехал за запасными частями… а теперь имел (моральную) возможность задержаться в столице края на несколько дней. Можно было ещё раз-другой пробежаться по базе… всласть поскандалить со знакомым кладовщиком… во славу Божию и во имя наступающего Нового года. Плюс появлялась возможность прогуляться по магазинам… пощупать продавщиц глазами и прикупить подарков. Наконец, формировалась благодатная отдушка – возможность отдохнуть от семьи… от любимой жены… от хозяйства… притом, на законных и даже высокоморальных основаниях.
"Жаль спину не получится подлечить, – подумал Николай Дмитриевич, опрокидываясь в сон. – Ноет, проклятая…"
***
Близким другом Аркадия Лакомова считался Степан Полубесок.
Полубесок не любил слова "дружба" и не имел друзей, как таковых (так он утверждал), однако связи с Лакомовым не отрицал и называл его товарищем: "Ты вслушайся. Вникни. Какое могучее слово – товарищ! Жаль, коммунисты его испаскудили!"
Дружба зародилась много лет назад, когда оба молодых человека поступали в один театральный институт. Лакомов пришел на вступительный экзамен в тонких брюках-дудочках (с искрою) и в красной рубахе с вышивкой.
Тут и народился конфликт.
"Алый акцент я, допустим, запросто мог пережить, – вспоминал, ухмыляясь, Полубесок, – но петухи на рубахе – это удар ниже пояса. Я Аркашке сказал вполне искренно… мол, такого пугала ещё поискать на Руси… он тоже в ответ что-то вякнул!" – смеялся.
Полубесок высказал Лакомову своё отношение. Лакомов ответил метко и колко, дескать, Степану негоже соваться своим свиным рылом в калашный ряд – там культурные люди обретаются. Стремительно, напоминая степной пожар, возникла драка… прямо в коридоре института… с воплями и кровавыми соплями… цветастую рубаху исполосовали в клочья… и нижнюю губу Полубеску изрядно надорвали – Лакомов умудрился вцепиться в неё зубами.
Результатом инцидента, оба абитуриента были отчислены. В том смысле, что их с треском не приняли.
Степан посчитал тот провал удачей, часто благодарил за него судьбу: "Кой чорт из меня актёр? Посмотри на мою внешность! Я актёр? Ха! Маялся бы потом всю жизнь… или спился, без малейшего толку".
Аркадий – на донышке души – носил обиду.
Тогда, в юношеской эмоциональной суете он легко пережил отчисление. Не растрачивая времени, перекинул документы в медицинский вуз… правда, это потребовало значительных нервов матери (она занимала в пост в администрации) и некоторой суммы денег отца… зато не пропал год, и в армию стричься не пришлось.
Аркадий выучился, стал неплохим терапевтом. Театрального института не позабыл; внутри Лакомова, как невыболевший фурункул, застряла идея, что он родился для сцены… что талант у него недвусмысленный, и кабы развить способности и усилить – зазвучало бы по стране светлое имя…
…а Стёпка Полубесок, с повадками чёрного кота, перешёл дорогу.
Рабочая студия Полубеска располагалась под крышей трёхэтажного здания. Иван Дмитриевич поднялся по зачумлённой лестнице, нашарил глазами номер квартиры. Чуть помешкав, высморкался в обе ноздри, сунул платок в карман, обернулся зачем-то, посмотрел в пятно окна и только потом постучался в филёнку (звонка рядом с дверью не было… в том смысле, что был он выдернут и болтался на проводах). Отступил на полшага, слегка оробев – Николай Дмитриевич впервые встречался с настоящим живым художником.
Дверь распахнулась во всю ширину, проём заполнила сумеречная фигура:
– Тебе чего?
– Поговорить хочу, – отозвался Иван Дмитриевич. – Про Аркадия Лакомова. Я родственник его жены. Дядя.
– Лидкин?
– Ну.
– Заходи, – фигура отступила в глубину пространства. – Только не мешайся часок. Спрячься на диване и сникни. Я работаю, вишь… нахлынуло на меня. Уразумел?
Не дожидаясь ответа, Полубесок вышагал к мольберту, сунул руки под мышки. Замер. Напрягся.
Мольберт был самым гнусным и старым. Слово "многострадальный" описывало его вполне: едва ли на рейках можно было отыскать хоть место, не запачканное краской.
На мольберте на подрамнике стоял холст, и был наполовину… закрашен или загрунтован – Николай Дмитриевич не разобрался.
Полубесок медлил, "формулировал эмоцию"; она вырывалась из него электрическим полем высокого напряжения. Решившись, художник действовал быстро и грубо – насиловал. Длинные мазки – раз! раз! раз! – серией, лавиной, потоком; за ними, почти не подбирая на палитре краску, летели штрихи мастихином, нарочито грубые, дерзкие. Художник рубил палитру, старался нанести холсту максимальный ущерб – такое виделось со стороны.
"Знатный мазила! – с восторгом подумал Николай Дмитриевич. – Ему бы заборы белить в доме престарелых".
Три четверти часа спустя, ухмылка оборотилась удивлением, и дальше – трансформировалась в удивление. Из потока штрихов, мазков, рытвин и ям проявилась… появились улица, и дом… и фигура человека – живого человека… и человек этот – просто поразительно! – шел, отмахивая правой рукой… двигался и, кажется, о чём-то сомневался…
Полубесок прекратил работу, вытер руки ветошью, похлопал по карманам, будто намереваясь закурить. Папирос не нашел, поморщился, движением пальцев, как веером, отшвырнул ветошку на деревянный ящик… тут же подошел, сложил её дважды и опустил в боковой карман куртки, затем развернулся на каблуках, медленно протянул по студии взглядом… не замечая гостя абсолютно.
Это был ритуал, понял Николай Дмитриевич. Выход из вдохновения.
За форточкой на гвозде висела авоська, художник втянул её в комнату вместе с облачком мороза: коробка пельменей, плюс бумажный коричневый свёрток. В свёртке два элемента: помятый цибик чаю и бумажный пакет. В пакете – неожиданная брусника. Крупная, багрово-красная, притягательная, словно распарившаяся в бане баба.
Не удержавшись, Николай Дмитриевич спросил:
– А этот вот… чего? За пивом побежал?
Персонаж на картине держал в руке бидон, вдалеке у перекрёстка виднелась желтая бочка.
– Может быть, – неохотно согласился Полубесок. – Он сам ещё не решил, и мне не сказал.
– Ну, ты мастак! – восхитился Николай Дмитриевич. – Сила! У меня в автопарке один тоже так… механик, вообрази себе, так он мотор пятьдесят шестого газона с закрытыми глазами перебирает! Три класса образования, а умён, как чорт! Я ему говорю: "Ты уникум!" А он обижается: "Чего ты, – говорит, – лаешься?!"
– Так ты чего хотел? Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?
Николай Дмитриевич сдержано пересказал про уход Аркадия, про Лидку и про милицию. Про билет говорить не стал, приберегая козыря.
– Странное дело баешь, дядя… – Полубесок высыпал на стол горсть мёрзлых ягод, покатал одну пальцами, заметил краску на пальце, начал её оттирать. – Аркашка мог бы к Афине пойти, да она его не примет.
– Кто такая Афина? – уцепился Николай Дмитриевич.
– Так… никто… оторванный лист с прошлогодней берёзы. Не бери в голову.
– А кто ещё?
– Не возражаешь, если я пообедаю? Жрать охота, словно курсистке после экзаменов… хорошо сегодня писалось, снизошло.
На двухкомфорочную малосемейную плитку Полубесок поставил чайник (крупный, алюминиевый, затёртый), рядом кастрюльку. Кастрюлька тоже была алюминиевой, бывалой, супротив чайника – вполовину, или дажее меньше.
Когда вода закипела, Полубесок всыпал заварку прямо в кружку, ленясь заварить чай в заварнике. Пельмени же потребовали к себе отношения.
Содержимое картонной коробки смёрзлось в камень, и Николай Дмитриевич ожидал конфуза, однако не тут-то было: Полубесок обхватил коробку двумя руками, как, наверное, взял бы за голову ребёнка "показать Москву" – положив ладони на уши и прижав локти к туловищу – затем, большими пальцами начал "отщёлкивать" отдельные ледышки-пельмешки прямо в кастрюльку. Отсчитав двадцать штук остановился.
– Так ты зачем пришел? – спросил.
– Разузнать, – Николай Дмитриевич пожал плечами. – Человек не иголка. Надо найти. Вы, допустим, когда в последний раз встречались?
– Дак… шестнадцатого… у меня, здесь… – Примяв коробку, Полубесок упаковал остатки пельменей, сунул в авоську. – Я картину как раз продал, притом чертовски удачно… прости господи, – художник быстро перекрестился: – Это ты мне чёрта в дом приволок, лишенец!
– Я??
– Со своим механиком. Забыл?
– Ну, извини.
– Извиняю. Я вообще-то не верующий…
– Так чего?
– А логика проста: я-то в него не верю, а он в меня верит.
Пельмени закипели, Полубесок покручивал в кастрюльке ложкой. Попросил гостя разыскать соль:
– Она там… в шкафчике на стене… слева у самой дверцы… всколыхни!.. в баночке!.. нашел? – одобрил: – Молодчик!
Добавил листового лавра, соли. Сдвинул кастрюльку с огня.
– Картину я продал, – повторил. – Деньги взял. Деньги отягощают, их нужно прогулять. Разумеешь? Как говорил Шукшин, шаркнули по душе… Пришел Володя из ТЮЗа… несчастливая личность, но талантливый человек! Любуюсь его работами, душа отдыхает! Павлик был из химчистки, как без него?.. неуютно, как жопе без геморроя… Кто ещё? Господи, как давно это было… будто в позапрошлом веке… Павлик, естественно, студенток приволок из тряпочки.
– Из тряпочки?
– Из института лёгкой промышленности. Такие громогласные девки попались, визжали от восторга, просили портвейна и мандаринов. Позже появился Аркашка, он, как обычно, обомлел, увидев девчонок, наговорил им комплиментов и быстро нарезался.
– Падок на женский пол?
Полубесок обиделся:
– Не говори чепухи! – сказал. – Аркашка идеалист. Он запоздал родиться – ему был уготован век поэтичный, восемнадцатый… или девятнадцатый, на худой конец. Но что-то в небесной канцелярии пошло не так. – Полубесок тряхнул космами. – И вот, скажи мне, как после этого верить в бога? А?.. Нет?.. Аркадий превозносит женщину. Ставит её на пьедестал, а потом молится.
– Зачем?
– Вот и я говорю, зачем? Аркаша, говорю, женщины – они из плоти и крови, они почти, как люди, и живут среди людей. В них не более святого, чем в тюбике краски! Есть у тебя твоя Лидка – люби! Боготвори! Рожай детей, я не знаю, что там ещё полагается? В придачу, тёща и малиновое варенье… в тазике… сентябрьским полднем.
– Июльским, – поправил Николай Дмитриевич.
– Что июльским?
– Малина бывает в конце июля.
– Тебе видней.
– Стало быть, жены Аркадий не любил?
– Трудно полюбить такую, – резонно ответил Полубесок, – рохлю. Лидка на годах совсем размякла. Хотя… она такая баба, как глина. В умелых руках принимает любую форму. Может стать королевой.
Полубесок похлебал пельменей. Часто останавливался, поглядывал на картину, хмурился. Николай Дмитриевич понял, что идёт противостояние художник—картина.
Спросил:
– А лотерейный билет?
– А что лотерейный билет? – Полубесок оторвался от кастрюльки. – Чепуха это. Шутка. Розыгрыш.
– Что значит, розыгрыш? Не понимаю.
– Да нечего и понимать. Аркашка уже порядочно нализался, потребовал вальс, содрал с Пахеля галстук, двинул его по морде… стал уверять, что и вовсе набьёт ему лицо… смех, да и только.
– Кто такой Пахель, – вопросил Николай Дмитриевич.
– Ну, Пахель… – Полубесок несколько раз сжал и разжал кулак на вытянутой руке, словно сдавливая в нём губку или жменю незрелого сыра. – Как тебе объяснить… Индир Пахель – он везде. И всегда. Он нужен для удовольствия и размножения, неизбывен, как вши. Он работает на телевидении. У него стереофонический магнитофон и свежие записи.
Вверху что-то лязгнуло, крепко и массивно, будто проломилась кровля… потом по заиндевевшей шкуре затылка прокатился комок – громкий и колкий… жгучий, словно крапива… Николай Дмитриевич инстинктивно втянул голову в плечи и пригнулся, поглядывая в потолок. Полубесок успокоил, сказал, что опасности нет, что это с антенны оторвался кусок льда и покатился по крыше:
– Металлом крытая, – усмехнулся. – Медь и сталь. Позапрошлый надёжный век.
В полусекундной паузе, художник ещё раз стрельнул зрачками на картину, сказал, что гость его утомил:
– Тебе не пора домой, дядя? Ты назойлив.
– Я уйду, – обещал Николай Дмитриевич. – Только расскажи по билет. Просто расскажи, чтобы я знал. Правду расскажи.
– Ах, ты боже мой! – огорчился Полубесок, опять закудахтал по карманам в поисках курева. – Я ж тебе уже говорил. Это шутка. Аркашка напился, лапал девчонок за талии. Как раз пришел Генка Легкоступов с полиграфкомбината, принёс кипу газет. Аркадий выкрикнул, что всех нас удивит, сказал, что у него лотерейный билет на десять тысяч.
– Допустим.
– Не перебивай— Полубесок погрозил пальцем. – Нервируешь.
Продолжил:
– В "Известиях" напечатали таблицу. Я взял у Аркашки его лотерейку, а самого отправил танцевать.
– Становится интересно.
– Ещё бы! – огрызнулся Полубесок. – Дальше не ухватываешь?
– Нет.
– Тогда поясняю. Лотерейный билет оканчивался на две восьмёрки. У Аркашки, понимаешь? Две восьмёрки! А в газете пропечатали две тройки. Оцени кульбит рока, насмешку судьбы!
– И что?
Полубесок выпил через край остатки бульона из кастрюльки. С тоской осмотрелся по сторонам.
– Вот не люблю я говорить людям грубости, дядя, но ты тупой. Унизительно тупой! Я взял перо и подправил! Чего же проще? Чего же боле, как говорил Пушкин. Из троек смастырил восьмёрки!
Николай Дмитриевич сказал, что такое невозможно.
– Невозможно? – художник усмехнулся. – Да, запросто. Я пять лет в театре афиши рисовал. Без линейки и без опоры нарисую тебе прямую линию – в струну! Без задоринки. Рука тверда, и танки наши быстры.
– А зачем?
– Ты про билет?
– Ага.
– Философские вопросы задаёшь! Во-первых, я пошутить хотел. Обрадовать. Взбодрить публику. Десять тысяч рублей всегда выглядят победоносно, согласись… и даже, если ты проигрался в пух на десять тысяч.
– Сомнительно. А во-вторых?
– Во-вторых?..
Полубесок вытряхнул из пакета горсть мёрзлых ягод – они бойко разбежались по столу. Одну из них художник поймал и приплюснул… из-под пальцев брызнула кровь.
– Когда я был молодым, я видел цель и не замечал препятствий. Двигался напролом.
Николай Дмитриевич согласился, сказал, что все молодые так поступали и поступают.
– Теперь я понимаю, что всякий "пролом" калечит судьбы… верно?… и меня это жмёт. На грудь давит. Вот возьми твой Аркашка… тысячу раз я ему говорил: радуйся! Радуйся, придурок! Радуйся, титька тараканья! Живёшь с Лидухой и радуйся! Чего ты рылом вертишь, словно закормленный поросёнок? Добротная ведь баба, покорная, нежная. Она ведь его любит, как святого, не надышится.
– Лидка?
– Ну, не я же! – огрызнулся художник. – Я подумал, что билет с деньгами он домой принесёт, как отец семейства, и… и что-то сдвинется… лёд меж ними растает.
– А он?
– Он!.. хм… он запал на Афину.
– А что Афина?
– А что Афина?
– Понятия не имею, у тебя спрашиваю.
– Афине он нужен, не более, чем рыбе зонтик, – ответил Полубесок. – Если хочешь, поговори с ней. Она в ТЮЗе работает. Прима. Прима! Не фунт изюму.
Полубесок опять, будто в забытьи, охлопал карманы, от картины перевёл взгляд за сумеречное окно, притих… Потом вдруг вернул своё внимание собеседнику, заговорил с неожиданным жаром:
– Ты послушай вот что. Как думаешь, куда он побежал? Не за молоком, не за квасом, не винишка побёг купить, а куда? Какая сила его влечёт?
Николай Дмитриевич слегка опешил, обнаруживая в глазах собеседника неожиданную совершеннейшую безумь… коя бывает в глазах шизофреников, например… или… или… а других душевнобольных Николай Дмитриевич не встречал.
– Я не знаю, – ответил медленно, с расстановкой, – видимо бежит в Миру такой-то невидимый поток… – проговаривал, стараясь попасть в настроение художника, – который несёт нас и толкает на поступки.
– Я тоже так думаю! – согласился Полубесок. – Возьмём Афину, вообрази себе яркий персонаж! Женщина! Фемина! Во всех смыслах приличной наружности. Завистливой…. в смысле, вызывающей зависть. А характер – стервозный.
– А какая баба не стервозна? – взвился Николай Дмитриевич. – Нет, ты назови! ты встречал такую? Вообрази, моя…
Полубесок перебил:
– Не тарахти, бесхозный, слушай ухом! Мы не столица, допускаю. Славы маловато, касса – пшик! И не Париж, знаешь, тоже, будь он неладен… но ведь не хлебом единым! Она в театре прима! Режиссёры столичные ноги моют и воду пьют! Что ещё нужно для счастья?
– Не знаю, – ответил Николай Дмитриевич. – Сам задаюсь таким вопросом.
– И я не знаю…
В дверях, Николай Дмитриевич протянул для рукопожатия руку, Полубесок пожал её без энтузиазма, гуляя взглядом по сторонам, будто расстроился.
Тогда Николай Дмитриевич, чувствуя этот холодок, осторожно попросил:
– Ты это… не держи зла… я ж не хотел обидеть.
– Ступай с миром.
– Ещё один вопрос… самый последний. Кто знал, что ты билет надписал? В смысле, таблицу?
– Все знали, – Полубесок удивился. – Я ж не скрывал. И Федька видел, и Пахель… а Павлик просто догадался… у него работа такая обо всём догадываться.
– Он на автомойке работает, верно?
– В химчистке, – поправил Полубесок. – Ему пять лет светит, как нам с тобой солнце. Под следствием он, и подписку давал… ан, живёт себе, припеваючи… что значит, позитивный человечек. Учись, дядя. А Афине не верь. Не верь. Ты же пойдёшь к ней, верно я разумею? Она тебя в дугу согнёт в два счёта. Станет про ум говорить – не верь. И про правое сердце – брехня! Я видел её рентгеновские снимки – обычная баба…
***
Надвинулись сумерки, городской народец потихоньку засуетился. Троллейбусы и автобусы не казались более пустыми спичечными коробками. Наступало время, которого Николай Дмитриевич категорически не любил: зима, истоптанный грязный снег… в небесах провисла серая половая тряпка…
Справедливости ради, в районе бывают точно такие же дни… но там тряпка остаётся тряпкой, снежная жижа под ногами – всего лишь жижа… и "ничего подобного". И если бабка движется в магазин вдоль дороги, то это просто бабка… старуха без малейшего апломба.
В городе в серый кисель сумерек всякий вечер опускают цветные лампочки – гирлянды, огоньки афиш, витрины магазинов. Машины начинают светиться фарами… Но всем этим ярким светлячкам требуется время… и неожиданная помощь ночи: ночь убивает серость, в её угольном контрасте гирлянды начинают смотреться нахально.
Нахальство Николай Дмитриевич любил:
"Нахальный человек живёт, и умирает", – говорил он.
"И в чём разница? – уточняли коллеги. – Естественный путь".
"Путь-то естественный, – откликался Николай Дмитриевич. – Качество разное: живёт энергично, умирает легко".
Перед театром стояла ёлка. Николай Дмитриевич механически отметил её высоту – метров в шесть или восемь – подумал. Подумал, что директору она стоила ненужных хлопот.
Ветви были наряжены персонажами из "Щелкунчика" – синеокими принцессами, слонами, мартышками в красных чепчиках, – всего этого богатства Николай Дмитриевич не заметил… равно, как не ухватил музыки Чайковского – она украшала собой пространство.
Скользнул мимо ели, приблизился к парадному. Поискал глазами веник, чтобы стряхнуть с галош грязное – веника не обнаружил. Вместо него вдоль ступеней прохаживались кавалергарды в костюмах мышей. Зубастые переростки, с длинными неприятно-правдоподобными алебардами.