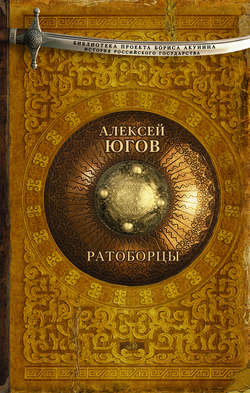Читать книгу Ратоборцы - Алексей Югов - Страница 1
Книга первая
Даниил Галицкий
ОглавлениеКрепка Русь – все переборет!
Древняя карпато-русская поговорка
1
В лето нашего исчисления 1245-е, на исходе июля, огромное, громоблистающее доспехами, сверкающее красками многоцветных одеяний, многоплеменное воинство короля мадьярского Бэлы двумя чудовищными потоками перехлестнуло Карпаты и крепко облегло Перемышль.
– Угры идуть!.. – Угры в Гору вступили!.. – Угры через Горбы перешли![1] – так, от вершины к вершине, от одного русского горного села к другому, сперва огнем и дымом костров, зычным звуком гуцульской, в рост человека, пастушьей деревянной трубы, а там уже и нарочными – вершниками, насмерть загонявшими сменных коней, – мчалась весть о мадьярском вторжении.
Князь Данило Романович был в то время в Холме, в своем излюбленном граде, который сам создал и дивно измечтал – и домами, и великими башнями, и храмами.
Пособником князю в том был простой человек, некий «русский хытрец Авдей», великий зодчий, каменотесец, ваятель, живописец и градодел.
Зданья, им созданные, и величием и красотою не уступали творениям древних. Созидал он их из камения тесаного – галичского белого, зеленого холмского – и из мраморов багряных.
Город, светившийся золотом куполов, стал на месте прекрасном, лесистом, на огромном холме, оттого и «Холм да будет имя ему!» – сказал князь. Отовсюду приходили к нему строители городов, градоделы – каменотесы и плотники. И мастеров разных множество – умельцев – стекалось к нему: и панцирники, и кольчужники, и кузнецы – по железу, серебру, меди; а и такие, что умели строить осадные тараны и камнеметы. И с Запада бежали, из чужих стран, больше же всего от татар уходил народ, с Востока: до Карпатской Руси тогда еще не досягало Ордынское иго. Даниил не платил еще дани татарам. И народу у него жилось куда вольготнее, чем во Владимире, Суздале или в Нижнем Новгороде…
На другой же день по вторжении венгров Даниил созвал чрезвычайный военный совет. Поднятые затемно, отнюдь не изумились тому ни Андрей – «дворьскый великый»[2] и воевода, ни Кирило – хранитель печати, канцлер, ни Мирослав – престарелый дядько-воевода: ведомо было им, что и в том князь их истый Мономашич: «Да не застанет вас солнце на постели!»
Ожидать не пришлось: князь скоро вошел – такой, как всегда: высок, строен, широк в плечах, сдержанно-стремителен.
Темные, с золотизной и кое-где с блеснувшей раннею сединою, волнистые волосы Даниила, чуть раздвоенные над лбом, сзади ниспадали почти до плеч. Небольшая, слегка кудрявившаяся по краям борода была подстрижена.
На князе его обычная, излюбленная одежда: тонкого синего сукна княжий плащ – корзно, подбитый алым дамасским шелком, застегнутый на правом плече золотой застежкой, так, что свободной оставалась правая рука. Под плащом, поверх широкого кожаного пояса, – расшитая, синего сафьяна, короткая безрукавка, расстегнутая на груди, что из века в век носят русские горцы в Карпатах. Рукава бледно-розовой сорочки на запястьях застегнуты запонами крупного жемчуга. Синие широкие русинские шаровары охвачены у колена гибкими, облегающими ногу сапогами желтого хоза, без каблуков, на мягкой подошве. Слева, на кожаной, через плечо, перевязи меч отца, деда, прадеда – меч Романа, Мстислава, Изяслава.
Князь велел боярам садиться. Голос его был просторен и благозвучен. Множество больших восковых свеч в двух бронзовых свещниках на столе и в двух настенных, потрескивая и оплывая, ярко озаряли палату.
Райские птицы радости и печали – Алконост и Сирин – с женскими головами, Александр Македонский – на грифонах; голуби, и лилии, и просто арабески – травы по золотой земле, тем же великим мастером сотворенные из разноцветного стекла и египетской эмали, дивно изукрашали стены.
Прямо напротив князя, на стене, разноцветным же стеклом выложенный, величиною в столешницу большого стола, – чертеж Волыни, Галичины, Буковины и Поднепровья – вплоть до Русского моря.
Реки большие: Днепр, Днестр, Дунай, Висла-река, и Неман, и два Буга – Южный и Западный – проложены на том чертеже золотым извилистым дротом, реки помельче – тонкой золотой проволокой.
Киев и города червенские: Галич, Перемышль, Владимир-Волынский, Грубешов, Дрогичин и, оба Даниилом созданные, Львов и Холм – означены крупными рубинами.
– Молвите, бояре, – сказал, взглянув на глухие завесы окон, князь Даниил.
И совет начался.
Было известно, что венгры ввалились на Галичину двумя ратями, пройдя Карпаты через двои ущелья – близ Синеводского и возле Лелесова монастыря. Означало ли это, что одна из тех армий двинется к Галичу – на юго-восток, а другая – к северо-востоку, на Владимир-Волынский?
– Нет! – единодушно подали голос все трое великих мужей княжих. – Сперва на обхват Перемышлю пойдут, а либо – к Ярославу.
– И я так же думаю, – молвил князь. – На Галич пострашатся пойти: Холм – в тылу! Та-ак! – проговорил он в суровом раздумье и гневно сдвинул брови. – А давно ли крест со мною целовал, грамоты крестные со мною писал? Бэла-рэкс![3] – добавил он, усмехнувшись.
– Тут Ростислав баламутит, Михайлович! Это он тестя своего, Бэлу-короля, навел на нас… Ольгович! – с презрительно-скорбным вздохом сказал дебелый и ветходневный Мирослав – воевода и некогда воспитатель самого князя.
Даниил все еще старался перебороть клокотавший в нем гнев. Он щурил свои большие золотисто-карие глаза и в то же время большим пальцем левой руки, опертой на подлокотник кресла, слегка заглаживал кверху край бороды.
– Что ж! – наконец проговорил он. – Приятеля нашего Бэлу можно уразуметь: divide et impera![4] Но Ростислав кто, чтобы мадьяр на отечество наводить? Олега Гориславича семя! – сказал с горькою усмешкою Мономашич. – И ведь что творят! Еще же и Батыевой рати оскомина не сошла!.. Ну… стало быть, меч нас рассудит! – решительно заключил князь и встал.
Поднялись и бояре.
Еще раз, кратко и властно, отдал он им приказанья по войску, легким склонением головы ответил на их поясной, глубокий поклон и отпустил.
А войска под рукою у Даниила на тот час было мало. Враг же велик силою, яр и нагрянул вероломно.
Было время петь петухам, когда трое полномочных послов князя Галицкого поскакали в три разные стороны.
Первый – в Мазовию, сказать князю польскому Конраду: «Сын мой и брат! Я помогал тебе много, мстя за обиды твои. А от вас мне помощи не было. Ныне же Болеслав Краковский ляхов своих шлет в помощь к мадьярам противу нас за то, что я помогал тебе. А полезай же, брат, на коня!»
– А не могут сами если пойти, – наказывал князь послу своему, – ать[5] полки свои пустят!
Второй посол был в Литву, к Миндовгу. И властелину литовскому были те же слова: «Брат! Ты обещал нам помощь. Время сесть на коня! Самого тебя не зовем, но пусти нам помочь – либо с меньшою братьею, а либо с воеводами своими. И не медли, но поезжай не стряпая![6] Не забывай своего слова!»
Третьим послом был сам держатель печати, канцлер Кирило. Он мчал к Перемышлю, опережая русские войска, прямо в стан полководца мадьярского Фильния, одного из знатнейших баронов венгерских.
В пути канцлеру князя Галицкого стало известно, что Перемышль взят на щит армией венгров с поляками Болеслава, которых навел из Кракова на Червонную Русь все тот же Ростислав Михайлович Черниговский, зять короля венгерского Бэлы. Стало известно, что враг, перейдя на сю сторону Сана, двинулся вниз по реке – на Ярослав.
И все ж таки надлежало попытаться переговорами приостановить вторженье, заключить мир, а если уж не к тому пошло, то задержать врага сколь возможно, доколе пришлют помощь Конрад и Миндовг, если же не пришлют, то до тех пор, пока успеет прийти к Даниилу младший брат Васильке со своими волынцами.
Город Ярослав – еще Владимиром Киевским Великим ставленный город в честь и во имя сына его Ярослава – на левом берегу мутнотекущего Сана, на отрогах и увалах Карпат. Город-сторож!
Знал про это Данило Романович! Всякий раз подымал он и сызнова отстраивал многократно дотла чужеземными полчищами уничтожаемый город.
Каменные толстые стены и дубовые заборола на них вкруг Ярослава кое-где успели возвести высотой свыше трех сажен, а где – и рукою с коня достать.
Ростислав с поляками Болеслава, движась на соединение к Фильнию, попытался было взять город нахрапом, но был отбит, и великий урон был в его полках, и отступил с великим бесчестьем.
Теперь, уже в составе мадьярской армии, Ростислав снова двинулся на облогу Ярослава.
Шли венгры в силе тяжкой, великое множество.
Страх и ужас упал на город. И храбрые иные смутились умом.
…Было знойно. Воздух стоял чист и прозрачен. Далеко, в знойном мареве, виднелись лениво-отлогие увалы Карпат, поросшие сизым непроходимым бором.
– Ведро… теплынь… благодать… – со вздохом промолвил боярин Кирило, осаживая на белом прибрежном песке стряхивавшего брызги воды вороного коня.
Только что под охраной небольшого отряда младшей дружины посол Даниила бродом перешел мутный Сан – мостов не было: их приказал пораскидать Фильний.
– Упомните, други, где тут брод! – велел своей охране посол.
Он сошел с коня. Дружинники развьючили поводных лошадей и раскинули на песке небольшой ковер. Поверх ковра они положили седло, чтобы сесть боярину, и помогли ему снять дорожную и облачиться в посольскую одежду: голубой шелковый кафтан, а сверху малинового цвета широкий мятель – подобие мантии. Боярин Кирило переобулся в сафьяновые узорные сапоги с золотыми шпорами, огляделся в круглое серебряное зеркало, что держал перед ним дружинник, расчесал гребнем слоновой кости благообразную седую бороду, поправил горностаем отороченную багряно-желтого рытого бархата округлую шапочку на белой челастой голове – и тогда только сызнова сел на коня.
– А посмотрим по месту, что нам Бог явит! – проговорил он.
Первым от реки стоял отдельно раскинутый лагерь Ростислава. После вчерашней попойки с венграми Ростислав проснулся не в духе. Он сидел у входа в шатер на складном, с подлокотниками, ременчатом стуле, в одной белоснежной шелковой сорочке, заправленной под синие шаровары, в мадьярских кавалерийских сапогах со шпорами.
Рукава сорочки были далеко завернуты на смуглых сильных руках. Князь сидел, наклоня голову, а его паж, мальчик лет четырнадцати, бережно, понемногу, лил ему из серебряного кумгана холодную воду на черноволосый, коротко остриженный затылок.
– Довольно, друже! – сипловатым голосом проговорил Ростислав Михайлович, протягивая руку за расшитым полотенцем и поднимая лицо.
Князю было не более тридцати. На красивом, смуглом, бритом лице торчали небольшие усы, на кончиках напомаженные.
Неслышно ступая по траве, к нему подошел угрюмый телохранитель гуцул и, поклонившись, промолвил:
– Княже, господине! Посол брата твоего, Данила-князя, приехал до тебя, господине!
Ростислав сумрачно ухмыльнулся.
– Иди расспроси его, с чем приехал! – приказал он и, словно бы ища одобрения своему необычному и для посла заведомо оскорбительному приказу, глянул на близ стоявших дружинников и венгров.
Телохранитель не двинулся.
– Княже! – упрямо повторил гуцул. – А хочеть только тебе молвити: с речами приехал.
– Ать молвит! – раздраженно сказал Ростислав. – Зови!
Посол Даниила в сопровождении двоих дружинников, которых он, однако, повелительным мановеньем руки оставил поодаль, величественной поступью приблизился к Ростиславу и поясным поклоном, но молча приветствовал его.
Тот, откинувшись, смотрел на него и ждал. Ждал и посол – ждал, что князь пригласит его в шатер, но тщетно: Ростислав щурился и молчал.
Тогда приближенные Ростислава да несколько мадьяр и поляков, а там, глядя на них, и простые ратники – руснаки, которых понудил к себе Ольгович, – начали мало-помалу обступать отлогую поляну перед входом в шатер.
И, увидав это, боярин Кирило заговорил в полный голос – «и нача посольство правити».
– Буди здоров, княже Ростиславле! – сказал он. – Князь наш и господин, а брат твой, Данило Романович, на первое тако повелел спросити: «Сыновец[7] мой во здоровье ли?»
Посол остановился.
– Спасибо! – дернув бровью, явно тяготясь обычаем предстоящих переговоров, отвечал Ростислав. – Добре здоровы.
Посол продолжал:
– А еще так велит молвить тебе князь наш и господин: «А доколе мы хочем Русскую Землю губить? Мы есмы все крестьяне, одна братья, – подобает нам всем быти за едино сердце?!» А что отмолвишь, княже, на то брату и дяде своему?
Ростислав нетерпеливо постегивал сыромятною плетью по голенищам сапог.
– Молви дале, что тебе велено, – с неприязнью и нетерпением проговорил он.
Взгляд его устремился поверх головы посла: по-за кругом, неслышно подъехав, высился над толпою рыцарь; то был Фильний.
На знаменитом полководце венгерском сверкала стальная кираса, поверх нее – багряного шелка плащ. Шлем был снят – его держал бережно, обеими руками, юный паж, стоявший слева, у стремени.
Барону Фильнию было за пятьдесят. Смуглое, жесткое и надменное лицо. Морщинки – гусиными лапками – возле глаз, на висках. Короткие, черные, ерошкою, волосы и черные до глянца, прямые, торчащие в сторону и лишь на кончиках закрученные кверху усы. Бритый, усохший подбородок.
Посол продолжал:
– А еще так молвит тебе мой князь: «Пошто без моей вины землю мою повоевал и села мои пожег? Пошто с тестем своим, королем Угорським, Перемышль у меня отъяли? То ли возмездье мне творишь за добро мое и правду?» Не помнишь ли, когда Бэла-король изгнал тебя из земли твоей вместе с отцом твоим, как прияли тебя князь Данило и князь Василько? И еще так велел сказать к тебе князь: «Я тебе в отца был место! Я тебя из Ляхов вывел, когда утек ты от Батыги-царя. Я тебе город Луческ дал. И отца твоего во великой чести держал. Отца твоего я звал у Киеве сидеть. А он того не захотел, страха ради татарского. А ты Луческа опять же не захотел. Моей вины в том нет! А Галича ли у нас ныне отъяти хочешь? Но то моя отчина, а не твоя. А ты поезжай в свой Чернигов!»
Ростислав потемнел, будто осенняя ночь.
Посол, еще более возвыся свой голос, продолжал:
– «И ныне, – так мой князь молвит, – уходи прочь, и с мадьяры своими! Но ежели хочешь под моей отцовской рукой ходить, то вот тебе Луческ. А приезжай, – молвит, – ко мне, и сами с тобою уладимся». Ото все тебе молвил. И еще – на последнее: сам ведаешь, легкосерд князь наш, Данило Романович, и милостив. А только не супорствуй, княже, не будь неслух! Не утаив говорю: напрягл ты тетиву гнева его донельзя крамолою своею – мадьяров наведя на отечество! Отпусти чужеземцев – ать идуть к себе, за Горбы!
Посол Даниила смолк. Страшная наступила тишина. Бояре венгерские, и поляки, и ратники Ростислава стояли не шелохнясь, не дыша. Мадьярский полководец, так же в полном молчанье слушая речи посла, ожесточенно крутил ус.
Все ждали, что отмолвит Ольгович. Ростислав гордо откинул голову и сказал:
– Так скажи князю Данилу: «Под рукою твоею не могу ходити. И Луческ мне из твоей руки не надо, понеже не твоею милостью, но копьем взят будет! А такоже – и Галич!»
– А чьим копьем, княже, не иноплеменных ли? – спокойно возразил посол князя Галицкого.
Ростислав не сразу нашелся.
– А там увидемо! – в сердцах вскричал он. – А что – Черниговский, то сегодня я – Черниговский, а завтра Киевский. А ныне – ни мира даю, ни отступаю! А ты досыть молвил! Ныне же ступай прочь! Когда за рекою Саном будешь, то там вся твоя правда будет! А меня ждите в Галиче!
Исход посольства был ясен.
И боярин Кирило, усмехнувшись, ответил:
– То будет, коли камень начнет плавати, а хмель тонути!.. Тогда и ты будешь в Галиче!
Ольгович побагровел и, опершись о поручень кресла так, что сломал его, вскочил на ноги.
И в это время над толпою послышался резкий, скрипучий голос барона Фильния.
– Остриги ему бороду! – по-русски произнес он.
Толпа расступилась. Фильний слегка подался конем.
Ростислав, задыхавшийся в ярости, протянул руку, молча показывая ею, чтобы ему подали ножницы.
Паж опрометью кинулся в шатер.
Кирило сдвинул брови и тяжело задышал.
– Княже! Отступи своего безумья! – проговорил он, и рука его легла было на крыж меча. Но он тотчас же ее и отвел. – Ты надо мною не волен! – гневно произнес он. – И смеешь ли ты седины мои бесчестить?!
И, не обращая более вниманья на Ростислава, он повернулся лицом к венгерскому полководцу.
– Пресветлый ритарю и бароне! – сказал он. – Тако ли достоит посла приняти? Таков ли есть обычай короля вашего?
Фильний насупил брови. Левая рука его перебирала поводья. Однако смолчал.
И тогда посол сказал:
– И королю, брату своему, тако велит молвить царь[8] наш и князь: «Брат! Чем я тебя переобидел? Пошто же ты целованье крестное порушил и Перемышль у меня отъял? Вспомни, что Гомер мудрый пишет: „Ложь до обличения сладка, а кто в ней ходит – конец злой примет!“»
– Болонд (сумасшедший)! – гневно пробормотал по-мадьярски Фильний, все еще сдерживаясь.
А боярин Кирило закончил так:
– «Не стойте, – так говорит князь наш, – на нашей земле, ни жизни нашей, ни сел наших не губите! Но возьмите с нами мир! Было так и прежде дедов наших, и при отцах наших: мир стоит до войны, а война – до мира!»
Полководец мадьярский высокомерно усмехнулся и качнул головой.
– Мир? – как бы переспросил он, продолжая по-русски, затем похлопал левой рукой по рукояти сабли и вслед за этим вытянул эту руку ладонью кверху, как бы покачивая на ладони нечто тяжелое. – Железо! – коротко изрек он по-мадьярски. – Или – золото!
– Тако ли молвишь? – сдерживая гнев, отвечал Кирило. – Или мало тебе того золота, что ты с воеводы галичского, Михайлы, снял, – трои цепи золотые, – когда в плен его взял, а пленного убить велел?
– Ложь! – яростно вскричал Фильний. – Раб! – И предводитель венгров, почти вплотную наехав на боярина, поднял над его головой плеть.
Тот не дрогнул, не отступил.
Ропот против Фильния послышался не только между руснаками – телохранителями Ростислава, но и среди поляков, но и между самими уграми.
– Грех!.. Мерзость!.. Русский мудрый старец!.. Храбрый! – доносилось со всех сторон до ушей мадьярского полководца.
Фильний выругался, но вынужден был опустить плеть.
– Читт (молчать)! – крикнул он на своих. – Чернь! – злобно бросил он полякам и русским, поворотил коня и, сшибая с ног тех, кто не успевал сторониться, поскакал в лагерь венгров.
Более ста двадцати верст, кладя по прямой, отделяют Ярослав от Холма – всего лишь полтора перехода Данииловых!
Однако на сей раз Данило Романович сам сдерживал войско: у князя было только три тысячи конных и пять сот пешцев. А нельзя было обезлюдить ни Галича, ни Понизья[9].
Не замедлил, пришел с дружиною брат Василько из Володимера; был же тот Василько и умом силен, и дерзновеньем…
Решили пообождать обратных послов – от Конрада и Миндовга. Они вскоре прибыли. «Отец! – велел сказать Даниилу Конрад, князь польский. – Я с тобою. Жди помощь!» «Брат! – приказал молвить Миндовг литовский. – Пусть будет так: шлю тебе полки свои».
В пути рассылали гонцов, сзывая ополченье:
– Доспевайте от мала и до велика, кто имеет коня и кто не имеет коня!
И те, что обитали окрест, приходили кто как обворуженный: один – с рогатиной, с которой ходил на вепря и на медведя, другой – с топором, а третий – с одним, как бритва отточенным, засапожником.
Карпатские горцы – руснаки и гуцулы – рослые и могучие, но легкие поступью, в белых, без ворота, сорочках, с вышивкой на плечах; в дубленых синих и красных шароварах; обутые в шерстяные чулки и в горные постолы – мягкие, чтобы нога «чула камень», чуяла каждую выбоину в скале; в горских плащах – чуганях, они по-горному были и вооружены: горянский топорик на длинном, крепком кию, а у пояса – булатное, в ножнах, кинжалище и длинное, свернутое в круг вервие – в горах, на кручах, над бездною удерживать друг друга, кидаючи аркан на камень и древо, в бою – на головы вражьи.
У иных были луки и стрелы.
Привел к Даниилу горцев старейшина их Андрей Дедива. Восьмой десяток был ему на исходе. Помнил старик Ярослава Осмомысла! А с великим Романом, отцом князя, ходил и на венгров, и на поляков, и на половцев, и в неисследимые леса и болота ятвяжские.
Привел старый Дедива князю троих сынов своих – крепких, молчаливых мужей, но, будто малые дети, повиновавшихся не только слову, но и взгляду, но и мановенью бровей отца своего.
А и те, что стояли за ним, – Гринь Береза, Кондрат Ковбасюк, Иван Колыска, Степан Попов, Ратибор Держикраич, все иные могучие горяне, или гуцулы, руснаки, или перемышляне, – чтили старика отца вместо, корились ему во всем.
Строен был, высок и еще крепок старик. Седые кудри ниспадали до плеч. Белые длинные усы опущены долу. Но тщательно выбриты худощавые щеки и подбородок.
– Княже и господине! – молвил он и вещим взором глянул в лицо Даниилу. – Своима очима видемо, своим сердцем чуемо: не токмо одежда твоя что наша, но и душа твоя! Данило Романовичу, княже добрый, правдивый, хочемо за Русскую Землю и за тебя, отца нашего и князя, головы свои сложити!
Даниил подошел к нему, подал руку и трижды поцеловал его.
Слезы блеснули на глазах горца. Он поднял левую руку свою над головой.
– Живи, господине, во веки веков! – грянули единым кликом руснаки и гуцулы.
Однако не ко всем таковым добровольцам с такой же добрынью, лаской и ясносердием отнесся князь, как к старику Дедиве и его горцам.
Вот дорогу княжескому коню смиренно заступила, клонясь в землю, целая толпа худо одетых мужиков гуцулов. И эти были добротный и кряжистый народ, не старики, не подстарки, хотя и вовсе без всякого оружия, голоруком.
Андрей-дворский выехал вперед из свиты князя навстречу этим людям. Осадил коня.
– О чем просите князя? – спросил он.
Старший из толпы, получше прочих одетый, в белой свитке, без шапки, уже зажатой в руке, поклонился дворскому до земли – скобка черных с проседью волос коснулась дорожной пыли.
Распрямясь, он взволнованным голосом, однако стройно и сжато, не сбивчиво, произнес сперва приветствие дворскому, а потом объяснил, что и он со своим народом тоже пришел застоять Русскую Землю от человекохищников и разбойников, – так он сказал: пришли кровь пролить на божьем пиру, а коли пришел час, то и костьми пасть…
Сказал, и все, смолкнув, стали ждать ответа.
– Добре дело, – отвечал Андрей-дворский. – А что вы за люди? Откуда? Чьи будете – какого боярина?
Старшой хотел ответить, но в это время рослый парубок, стоявший за его плечом, дернул его за рукав свитки и что-то предостерегающе прошептал.
Но вожак толпы лишь покачал на это головой и проговорил громко, истово:
– Нет, уж мы в такую годину, когда кровь свою отдать пришли на суд божий, не станем лгать начальному человеку, княжому!..
Тут он, поклонясь, глянул смело в глаза Андрею-дворскому и спокойно и кратко изъяснил, что они все беглые смерды, покинувшие до срока и самовольно земли боярские, на коих были посажены. Были тут землепашцы разных бояр: и от Клименка с Голых гор, и от Доброслава бежавшие, и от Арбузовичей. Укрывались они в лесах и в горах, в труднодоступных дебрях, освоив там новые для себя пашни, на гарях и на чащобах.
На вопрос дворского, почему они в бегах, старшой сказал, что от лютости боярской: сыт боярин, ничем не живет, мало что работой и поборами умучил, а еще и для охоты и облоги звериной, когда ему только надо, от пашни народ отрывает и по неделям держит в трущобнике.
– Ладно, – заключил дворский. – Станьте осторонь дороги, а я доложу князю.
Он возвратился и сперва, решив схитрить немного перед князем в пользу этих людей, сказал лишь, что люди эти пахари, смерды, пришли оружия просить, хотят в битву.
Даниил испытующе глянул на Андрея Ивановича, почуяв по его голосу, что он нечто утаивает от него.
– Кто их привел? – спросил он дворского угрюмо. – Почему тиун боярский не с ними?
Бедный дворский только развел руками и договорил остальное, утаенное.
Князь нахмурился и, ничего ему не ответив, тронул коня.
Дворский, поспевая за князем, привставая на стременах, старался разглядеть, что делают и где стоят вновь прибывшие.
Они стояли в сторонке от дороги, чинно.
Тогда Андрей-дворский вполуголос, но с расчетом, чтобы слыхать было и Даниилу Романовичу, произнес, как бы восхищаясь и сожалея:
– И до чего народ все могутный!.. Глядят смело… Такой пластанет врага – на полы до седла раскроит!..
Даниил угрюмо молчал, утупясь в гриву коня.
Они на рысях проехали мимо новых пришельцев. Князь не обратился к ним.
Дворский не выдержал.
– О-ох, Данило Романович! – почти простонал он. – И до чего народ к топору добрый – как на подбор. Покрой ты их своей княжеской милостью: вели в бою умереть. Умрут!..
Князь гневно к нему оборотился. Лицо его пылало.
– Оставь! – прикрикнул он на дворского. – Недоброугодное молвишь!.. Ты кто?.. – как бы грозно спросил он дворского. – Ты должен сам понимать: каждая держава своим урядом стоит! И этого уряда не должен сам князь рушить!.. Ты скоро скажешь мне: беглых холопов боярских прощать и в добрые воины ставить?!
Дворский молча склонил голову.
Чем ближе к нагорной стране Перемышльской двигалось войско, тем все больше становился встречный поток русских беженцев. Немногие лишь влачили за собою жалкий скарб свой, прочие шли безо всего, унося лишь детей своих, бежали от нашествия иноплеменных, будто от трясения земного, от глада и моровой язвы.
Скорбный и сумный внимал князь стону земли.
– Княже, – кричали ему, – отчаялися житья! И жизнь нашу всю разоряют, и живот губят! И хлеб во уста не идет от страха! Не стало у нас ни детей, ни жизни, ни живота! Босы и беспокровны! Некому землю делать, некому сеять и жать – и угры губят, и ляхы, и немцы, и прочие рымляны! Много зла ратные творят! Проняли нас уже и до печени. Оборони, княже!..
– То все спросится с них! – отвечал князь.
У придорожного большого креста, пропуская войско мимо себя, стояла толпа русских беженцев. Древняя русинка – старуха, в белом суконном сердаке, с головою, повитой холщовой завойкой, стояла впереди прочих, поддерживаемая под правую руку девушкой, быть может, внучкой; из левой же трясущейся ладони она сделала щиток над глазами и жадно всматривалась в лица конников.
– Доню![10] – в нетерпении говорила она девушке. – Да скажите мне: хочь який он? А коли вже проехав?
– Да нет, бабусю! – тряхнув головою с большими, уложенными венцом косами, ответила девушка. – Увидемо!.. Ото уже!..
Но уже старуха и сама увидала князя. Еще ближе подступила она к дороге – забыла старая и лета свои, пригнетавшие к земле, и недуги и отстранила поддерживавшую ее руку.
Проезжая мимо старой русинки, Даниил замедлил коня и наклонил голову.
– Господь милосердный! – вглядевшись в лицо его и всплеснув руками, произнесла старуха. – Яко великого Романа жива видемо!..
Венгерский полководец решил: по взятии Ярослава мадьярская армия двинется не на Галич, как прежде, а на Холм и оттуда на Владимир-Волынский. Поляки Болеслава не хотели идти на «Хелм», Ольгович тоже. Однако прославленный полководец двух королей венгерских – и Андрея и Бэлы – Фильний не внял тому. Барон знал: первее всего на Волыни, которая была Даниилу не только отчина, но и дедина, черпает галицкий князь неиссякаемую силу сопротивленья. Оттуда всякий раз во время нашествий, когда вторгшиеся принимались уже творить дележ Червонной Руси, вырывался он с дружиной внезапным прыжком, подобно барсу, и наносил тяжкие удары, заставляя поспешно бросать награбленное.
Согнав на земляные работы уцелевшее окрестное население, венгры возвели вокруг Ярослава осадный вал, укрепленный плетнем, надвинули огромные – вровень с башнями города – на колесах туры[11]; поставили камнеметы, что на полтора перестрела могли метать камень, которого и четырем сильнейшим мужам было не поднять; укрыли до времени стеноломы – тараны, стрелометы и огнеметы, метавшие с пылающей нефтью глиняные горшки и стрелы, обмотанные горящей паклей, – и теперь ждали только, когда зык трубы и рука полководца ринут их, разъяренных и алчущих добычи, на штурм города.
Город изнемогал.
Воевода Олекса Орешек – в битвах молод, а в думе стар – укреплял дух ратных и горожан.
– Князь придет, Данило Романович не оставит! – говорил он, однако все чаще и чаще подолгу простаивал на высокой угловой башне, всматриваясь в знойное марево.
Нехотя ворочали крыльями на взлысинах рудо-желтых бугров, располосованных оврагами, поросших дубом, и ореховым подлеском, и редкой красной сосной, немногие уцелевшие ветряки. Они поставлены были на высоченных бревенчатых клетках. И казалось, будто уцелевшие после великого побоища исполины, взгромоздившись на ходули, чтобы увидать один другого, взмахивают утрудившимися в битве руками, сзывая друг друга.
Под самым шатром этих ветряков зоркий глаз воеводы видел: червонело и мреяло нечто, и нет-нет да и взблескивало, как стеклышко; а ему было ведомо, что это трепещет по ветру красная епанча беспечного венгра и сверкает оружие мадьярских дозоров, посаженных Фильнием, и что какой-нибудь Гейза, Стефан, Альмош, Петр или Бенедикт тоже всматривается оттуда из-под руки глазом, изострившимся в мадьярской безбрежной пуште, в поросшую кое-где чернолесьем холмовину.
Белели на солнце редко разбросанные в зелени плодовых садов лукаво-радушные хатки, точно молодицы в белых оплечьях, остерегающие баштаны.
Соломенными да очеретовыми снопками были перекрыты они, а только так перекрыты, что потверже иной черепицы. Так что и огню только разве лизнуть!
Однако пустынны были плетневые чистые дворики. И не гоготал гусак, не квоктала квочка, и не терся добрый десятипудовый хряк о плетень.
И не лелеяла под вишнею сына в колыске юная мать в щедрых монистах, в коралликах, в неизреченно расшитом бруслике и оплечьях, в голубой сукне и яркой плахте: угры пришли!..
Шестнадцатого августа, «серпня», венгерский полководец приказал устроить под стенами осажденного города турнир и великое конное ристанье, дабы дивились русские мадьяр несметному множеству, и всадникам их, и прочим иноплеменным рыцарям, и трепетно-кровным иноходцам мадьярским.
Пречудную и страшную венгры сотворили боевую игру. И Ростислав-князь сразился тогда с некиим мадьярином Воршем.
Жители нагорной страны Перемышльской – те, которых пригнали венгры на земляную работу, а и те, коих понудил в полк свой Ростислав, – стояли на холме, поодаль, и смотрели.
– Ой, да смотрите вы, смотрите, что угры-те творять, проклятущий! – говорила одна из женщин.
Другая присунулась к ней, когда пажи Ростислава завязывали уже последние ремешки на доспехах князя, и спросила:
– А тот – чей?
– Ох, да наш! – отвечала соседка. – Не здешний только, Черниговский! Да вот спутался с ними! А еще и сыновец князю нашему, сестрич!.. И уж и честил же его старик-то боярин, что от Даниила приехал!
И она рассказала о посольстве.
– Что диется! Что диется! – хмуро покачивая головой, говорила другая.
Герольд протрубил – и всадники, изготовя к бою копья с тупыми концами, ринулись друг против друга.
– А, штоб тебе голову сломить! – успела молвить вслед Ростиславу от всего сердца вторая из женщин.
Всадники сшиблись – треск и грохот металла раздался над полем. Конь под Ростиславом упал. Сам он вылетел из седла. Герольд, судьи, пажи и оруженосцы кинулись к нему.
На холме же, где стояли русские, какой-то хмурый перемышлянин в серой грубой ватоле проговорил:
– Упав, як довгий!
Ростислава перенесли в шатер. Врач-костоправ осмотрел и вправил вывихнутое левое плечо, и Ольгович как ни в чем не бывало опять появился среди венгров.
– Не ставлю же сие ни во что! – посмеиваясь, говорил он. – А с Воршем еще сразимся! – И, потрясая сильной смуглой рукой, добавил: – Если бы знал я, где Данило, поехал бы на него и с десятью воинами!
Среди ратников его шел говор:
– Нет, не на добро ему случилось это знаменье!
Ночью боярин Кирило нашел своего князя среди военного стана, уже на пути к Ярославу. Он доложил Даниилу Романовичу все происшедшее. Услыша требование венгерского полководца – золотом купить мир, князь усмехнулся и молвил:
– Что же он – Аларихом, военачальником готским, мнит себя? Ты все правильно и верно отмолвил ему. Ступай отдохни.
Кирило, не внимая последнему слову князя, заговорил было о распорядке войска на завтра. Даниил тотчас прервал его.
– То сделано все, – сказал он. – Не измождай себя! Храброго скоро добудем, а умного и задорого не купишь!
Князь ласково выпроводил его из шатра.
Набросив темный походный плащ, Даниил покинул шатер и пошел вдоль ратного стана. Надо было проверить стражу и распорядок.
Темная, теплая, благоухающая и звездная ночь объяла князя. Тишина стояла вокруг. Лишь откуда-то из недалека – должно быть, из беженского табора – доносилась девическая песня. Укоряя ладу своего, что медлит он, медлит – и неведомо где, вся истомясь, истосковавшись по нем, звала его девушка; быть может, страшна лежит перед ним дорога – через топи, через реки и дебри, – так пускай же он знает:
Гатила гати дорогими шаты,
Мостила мосты жуковинами,
Садила сады все винограды,
Вберала лесы паволоками,
Сеяла поле дробное жемчюгов…
Боль стиснула князю сердце. Вспомнилась Анна – как благословляла и вооружала его, и плакала, и молчала…
…Пал на рассвете туман – не видать стало и конец копья! А когда сделался туман как редкая кисея и пробрызнуло солнце, то река оставалась уже позади: Даниил бродом перевел войско на ту сторону Сана.
Быть грому великому!..
Утром семнадцатого августа, в канун Фрола и Лавра, Даниил во главе своих волынян и карпаторусов ударил на поляков и Ростислава.
Первым же натиском, первым полком, успевшим выстроиться, надо было ошарашить врага, чтобы дать исполниться всему остальному войску.
Русичи рвались в битву.
Пылало в сердцах их воздымающее слово князя.
– Земляне мои! – воззвал он. – Галичане, волынцы, щит Земли Русской, станем крепко! Кто медлит на бой – страшливу душу имат. Воину же – или победить, или пасть. А кому не умирать!
И карпаторусы его – из племени тех, что потрясают на правом плече смертоносным железом, люди Рус – так именовала их Византия, – дружно загремели щитами, и кликнули кликом страшным, и зазвенели секирами, и собрались кругом князя.
Ярость душила их – ярость к врагу-осквернителю – и взывала к возмездию.
Русичи рвались в битву.
И немало способствовало тому то пречудное знаменье, что встретило русские полки накануне: многое множество, без числа, надлетело орлов и птиц разных, – будто облако великое, как никогда, нигде того не было! – и, клубясь, играли птицы, и клегтали орлы, и плавали, ширяясь крылами, колесом низвергались в воздухе, и сызнова подымались, и реяли, и парили!
– А на добро нам то знаменье! – сказали тогда старцы и мужи многоопытные.
С первым полком ударить захотел Андрей-дворский, однако не очень-то соизволял Даниил. Он берег и любил Андрея. «Телом хил, а душою – Ахилл!» – говаривал о нем князь. Самому же Андрею говорил, что, дескать, большой начальник и воевода иной раз должен и замениться кем. Андрей же дворский складом сух, ростом невысок, лицом смугл, с длинными, по обычаю, волосами, с бородою малой и узкой, всегда бодр и подвижен, – Андрей ответствовал шуткою:
– А я, худоумный, тако думаю, князь: большим воинам не подобает житье сластолюбиво и спокойно!
Сумятица и смятенье поднялись в лагере Ростислава. В шлеме, но в одном лишь плаще поверх сорочки, молотя половецкой плетью и по коню и по спинам неохотно, вразвалку подымавшихся перемышлян, Ольгович носился вдоль и поперек стана, грозя и ругаясь.
Горяне же и руснаки, едва только он минет, сызнова трудились и роптали. Ропот нарастал.
– Пошто привел нас на Данила? Без нас думал – мы того не ведали! Не хочем с мадьяры! Мирись, княже, с Данилом, а мы нейдем! – кричали перемышляне.
Прискакал Фильний.
– Пастух нерадивый! – по-русски крикнул он зятю короля своего. – Собери свое стадо! Что они без ряду стоят у тебя?
И ускакал.
А ратники Ростислава, потрясая копьями и топорами на длинных киях, увлекая сопротивлявшихся, с шумом и рокотом, точно пруд, прорвавший плотину, устремились навстречу воеводе – Андрею-дворскому. Иные из них приостанавливались и, сняв белевшую на солнце сорочку, начинали размахивать ею.
– Перебежники идут, перескоки! – кричали в отряде дворского.
Воевода препроводил их в тыл, на самый берег реки, в полк Василька, князя Волынского, который уже успел устроить все свое войско на правом крыле.
Васильке Романович принял перебежавших. Приказал посадить на коней.
– Нет, княже! – испугавшись этого, закричали перемышляне. – Мы пеши бьемся!
И Василько, несмотря на самую жару ратного спеха, расхохотался, откинувшись в седле. Русая, золотистая борода его сверкнула на солнце.
– А коли так, – молвил князь, – то как хочете бейтеся – абы крепко!
– Умереть пришли! – грянули перемышляне. – А кто не пойдет, дай его нам – мы его сами забьем!
Даниил поставил их под начальство Дедивы.
Яростный натиск трех конных сотен Андрея смял беспечно стоявшую сторожу поляков и опрокинул ее.
– Войско!.. Войско!.. Рус!.. – прокатился многократный сплошной крик в польском лагере. – До зброи!
И затрубили тронбы, забили бенбны! А тем временем на ослепительно сиявшем белизною речном песке и на просторах очищенного от врагов холмистого луга князь Данило и князь Василько устроили и дружину и войско – всадников, стрелков и пехоту.
Реяли хоругви, звенели трубы.
Даниил стоял на холме. Конь под ним – белый, аравийский – был диву подобен. Седло – золоченное сквозь огонь.
Привставая на стременах, Даниил из-под руки всматривался в знойную даль, откуда неслось звяцанье и лязганье клинков, вопль битвы, пронзительное ржанье коней.
Посылая дворского, зная разум его и храбрость, Даниил сказал только:
– Я того ради пускаю тебя, да увидят граждане – близится спасенье их! Тебя ярославцы знают. А не зарвися токмо!
Но далеко еще было спасенье. И сильно зарвался дворский, и обступили его.
– Не дай бог, братья, выдать Андрея и добрых людей его! – звучным голосом крикнул князь и взмахнул рукой.
И полуторатысячная конная громада колыхнулась и ринулась.
Дивились немало на Западе новому князя Галицкого конному устроенью. Не скаковых, не игровых статей были кони под всадниками и не велики ростом, но крепки и рысисты были кони! А были все кони в личинах и в коярах кожаных, а люди в кожаных латах.
Но блистали их шлемы и сверкало оружие.
Конница шла, наращивая разгон. И когда прошла она тысячами копыт по рыхлой дерновине, по зеленому прибрежному лугу, выворачивая богатырскую ископыть, излетавшую со свистом стрелы, запущенной из баллисты, – когда прошла, то сразу стал черным луг, будто перепахали его.
Ухала и стонала земля!
Когда же вымчалась конница на горную хрящевину, грянула по кремню, по камню, то от искр, высекаемых подковами, зарево стлалось, точно летели всадники по раскаленной земле.
– Добре идут! Дивно разворачиваются! А ведь были невежды ездить на конях! – радуясь и любуясь твореньем своим, произнес Данило Романович, обращаясь к стоявшим близ него воеводам и прочим мужам храборствующим.
Между тем венгры строились в заступы. Прикрытые глубоким оврагом, поросшим кустами, они, устроив полки свои, двигались – один заступ за другим – на помощь к полякам.
Да и польский воевода, отступивший было полком своим, теперь, подкрепленный Фильнием, приказал трубить наступленье.
– Кирие элейсон! Христе элейсон! – пели священный свой гимн поляки, и «силен бысть глас ревуще в полку их!».
И все больше, все больше прибывало к ним угров.
Кичася на знаменитых конях своих, шли венгры. Разнолично и многоцветно было и убранство и снаряженье их.
Иные венгерские заступы – и в них не одни только простые всадники, но и многие из баронов венгерских – и одеяньем и снаряженьем были совсем точно половцы: тюркские, отороченные меховой выпушкой, колпаки, половецкие кафтаны и шаровары, половецкие сабли.
Тут же двигалась сплошь бронированная, от конской груди до головы всадника, тяжелая конница из рыцарей и рейтаров – и мадьярских, и немецких, и прочих.
Сверкали на солнце глухие огромные шлемы, подобные опрокинутым стальным ведрам, с прорезами для глаз и дыханья, сияли золотою насечкою панцири и щиты.
Раздуваемые на конском скаку, реяли белые мантии тевтонов-храмовников, с черным крестом на левом плече.
Были тут и добрынские немецкие рыцари, и много других.
Монашеские же ордены были представлены и братьями-миноритами, и братьями-проповедниками. На хоругви последних изображена была голова собаки с горящим факелом в пасти: «Просвещайте мир светом истинной веры, рвите в клочья ее врагов!»
И над всем высилась на багряно-желтом бугре хоругвь самого короля венгерского – золотая корона Стефана на голубом шелке, несомая двумя ангелами.
Под нею на золотистом коне высился сам Шильний. Близ него, разъяренный, возбужденный, едва избегнувший плена, виден был Ростислав.
– Герцог! – обратился он к Фильнию. – Ты видишь? Если конница пробьется под стены, пешцы наши не устоят!
Фильний неторопливо взглянул в ту сторону, откуда близилась лавина, и скрипучим своим, гортанным голосом произнес:
– Посмотри же и ты, князь! – Большим пальцем левой руки, через плечо, не оборачиваясь, он показал на выдвигавшиеся из-за леса мадьярские конные заступы.
Ольгович глянул.
Великим, неисчислимым множеством, покуда только досягал взгляд, стояли венгры, будто боры сосновые большие…
– Да! – сказал Ростислав. – Лучше было Данилу не перейти Сана!
Барон ему не ответил. Наклоняясь то вправо, то влево, он всматривался вперед.
А там уже сшиблись. От треска и лома копейного стал будто гром. И падали мертвые, как снопы…
Бились уже всем полным боем. Не до стрел уже было, не до арбалетов. Свечою дыбились, криком страшным кричали кони, и кусались, и рвали друг друга зубами. Русские секиры, копья, мечи, палицы, булдыги и двузубые топоры сшиблись тут с ятаганами, и турецкими саблями, и латынскими алебардами, и с чудовищной булавою, утыканной трехгранными стальными шипами, – немцы нарицают ее «утренняя звезда» – «моргенштерн».
Крепко ударили поляки и венгры на правое крыло Василька.
– Элере!.. Батран!.. Элере!.. Вперед!.. Не робей!.. Вперед!.. – ревели венгры.
– Бей!.. Вперед!.. За отечество!.. – кричали русские и разили всей пятерицею.
– Бий!.. Напшуд!.. – восклицали поляки, и яростно ломили, и напирали, и уже торжествовали победу. – Звыценство… Погром (победа)! – радостно вопили они.
Но бросился в самую гущу колебнувшихся волынцев сам Васильке на кауром статном коне, и сызнова устроил войско, и скрепил.
Низвергнутые на землю, низринутые под копыта коней, стонали раненные тяжко и умиравшие.
Не хотел польский воевода отдать победу! Сам впереди своих кинулся на волынян, и устремились за ним поляки.
– Погоним большие бороды! – по-русски грозились они.
– Лжете! – в полный голос отринул им Васильке. И поткнул золотою шпорою каурого жеребца своего, и «потече на них со своей Волынью».
И не стерпели те и побежали.
– Громадяне, – кричала пехота, – не отставай! За князем!..
– Боже, до пумощь! Окронжаен нас! – слышались крики польских ратников.
И теперь уже русские вопили им вслед – разное – с ревом и гоготом.
Тщетно пытался остановить своих воевода Болеслава.
– Настенпуйце!.. – кричал до хрипоты и рвал длинные седые усы. – Рыцежи!.. До битвы!.. Отважне!.. Смяло!..
– Пузьно!.. – отчаявшись, отвечали ему воины. – Венгжы уцекаен!..
И впрямь! Уж колебнулось, дрогнуло и покатилось вспять многоязычное мадьярское полчище.
Толпами угоняли русские всадники пленных, словно конные овчары каждый свою отару. С накинутыми на шею арканами, будто железные истуканы, не сгибая ног, ступали немецкие рыцари: мешал идти панцирь. Но он же и сохранил им жизнь. Когда, низринутые на землю, иные ударом копья, а иные крючьями, наподобие багров, что были у многих русских конников, простертые и беспомощные, лежали рыцари, не в силах сами подняться, – ибо где ж тут было пажам и оруженосцам? – не турнир! – то немало тогда прогрохотало копыт и по голове и по тулову рыцарей, а уцелели! Однако изрядно у многих помят был и вдавлен панцирь.
Лучшие мужи, доблестные воеводы князя Даниила предводили тем конным ударом: и Шелв, и Держикрай Домомерич, и Всеволод Олександрович, и Василий Глебович, и Мстислав.
И не устояли венгры – и побежали, и потекли!
А навстречу к своим отчаянно пробивался сквозь мятущуюся толпу врагов, точно пловец, захлестываемый накатом моря, Андрей-дворский с теми, кто уцелел.
И тысяцкий города Ярослава ударил – Олекса Орешек – через внезапно распахнутые ворота, – захватил и перебил многих, что стояли на осадном городе и на турах, и посек тараны и камнеметы.
Но отринули его сызнова, ибо свежий венгерский полк пришел на подмогу, едва только увидал Фильний клубы дыма и пламя, поднявшееся над осадным сооруженьем.
– Бешусь! – злобно проговорил вполголоса Фильний и снова одним мановеньем руки вывел из-за леса пять новых и многолюдных конных полков.
– Убивать, кто бежит! – сурово напутствовал он.
Внимая гулу и стону битвы, Даниил безошибочным слухом и чутьем полководца узнал тот миг, когда заколебались весы сраженья. Он ринул еще один полк.
Всадник за всадником, гонец за гонцом мчались от князя и ко князю.
На взмыленном, шатающемся коне прискакал нарочный с левого крыла.
– От Василия Глебовича, княже! – соскочив наземь, задыхаясь, проговорил он. – Сеча люта идет! Ломят! Просит подмоги!..
Даниил сдвинул брови.
– Не будет подмоги. Ать стоит! – сказал он.
И снова пал нарочный на коня, вонзил шпоры и поскакал.
У Даниила оставался в тот час один только избранный полк, которого недаром страшились в битвах. Да оставались еще у него две сотни карпатских горцев, что привел за собою старик Дедива.
– Яков Маркович, – сказал Даниил воеводе, – станешь тут, в мое место!
И, послушный легкому касанью ноги, белый конь Даниила пошел широким наметом. Князь мчался на левое крыло своих войск. Но уже сильно стали подаваться и Шелв, и Мстислав, и Всеволод Олександрович – на правом.
Слышался грозный вой и улюлюканье венгров. Русские отступали к Сану.
Тяжело израненный воин попался навстречу князю. Правой, уцелевшей рукой он придерживал, стиснув зубы, обмотанное кровавой тряпицей, порубанное левое плечо.
– Княже, не погубися! – крикнул он Даниилу.
Даниил остановил отступавших. К нему подскакал воевода Всеволод.
– Княже! – проговорил он. – Изнемогаем! Говорил: не надо было переходить Сан. Мосты пораскиданы! А ведь тяжко нам. Угры-то лесом заложились и дебрью!
– Страшлива душа у тебя! – отвечал князь. – Ныне же поезжай в свои колымаги! На твое место другого ставлю.
Воевода пошатнулся в седле.
– Княже! – хрипло проговорил он. – Помилуй! Не осрами на старости лет. Вели мне честно здеся голову свою сложить!
И Даниил оставил его.
– Воины! – крикнул он голосом, преодолевшим гром и рев битвы. – Братья! Пошто смущаетеся? Война без падших не бывает! Знали: на мужей ратных и сильных идем, а не против жен слабых! Ежели воин убит на рати, то какое в том чудо? Иные и в постелях умирают, без славы! А я – с вами!
И откликнулись воины:
– Ты – наш князь! Ты – наш Роман!
И сызнова ринулись на врагов. А князь промчался вдоль всего войска – от края до края, и всюду, где проносился он, посвечивая золотым шлемом, долго стоял неумолкаемый радостный клич.
И венгерскому полководцу пришлось двинуть в битву свои последние, засадные полки.
– Пора! – сказал князь и повел на мадьяр свой отборный, бурями всех сражений от малейшей мякины провеянный полк.
У многих из простых ратников горели на мошной груди золотые гривны – цепи, жалованные Даниилом за подвиги, на виду всего войска, на полях битв.
На сей раз рядом с некоторыми из всадников шли горцы – гуцулы и руснаки, приведенные старым Дедивой. А и трудно было сказать – шли эти рослые люди беглым, просторным шагом или бежали? Только не отставали они от коней, чуть придерживаясь концами пальцев седла.
«И сотворися тогда сеча велика над рымляны!»
В тот же час ударили на врагов с другой стороны Яков Маркович воевода, да воевода Шелв, да горожане ударили снова из города и пробилися до Андрея, а оттуда опять ударили и налегли на венгров – погнали их, сбили их в мяч!
– Батран! Не робей! – кричал в бешенстве Фильний. – Стойте крепко! Русь скора на битву, а не выдержит долгой сечи!
Тщетно! Отступающие в беспорядке мадьярские полчища уже захлестывали и самый холм, где стоял Фильний.
И вот уже дорубился было Даниил королевской хоругви! Уже изломил он копье в некоем великане мадьярине и теперь прокладал себе дорогу мечом. Разит князь Данило своей тяжкой десницей. Крушат все вокруг не отступающие ни на шаг от князя горцы.
Вот-вот уже знамя! Уже слышно, как шелестит и плещет голубой шелк.
Но тогда кликнул по-своему: «На помощь!» полководец венгерский, и зазвенел горн, и сомкнулись отборнейшие телохранители, сберегатели королевской хоругви, и, вооружася отчаяньем, двинулись против Даниила. А на призыв той трубы уже ломил полк, собранный наспех каким-то венгерским рыцарем.
Один за другим рухнули наземь яростно оборонявшие князя горцы. И вот уже кинулось на него сразу несколько огромных мадьяр, и свалили с коня, и схватили.
Вопль ужаса и ярости исторгся у русских воинов, не успевших еще дорубиться холма.
Но внезапно разорвал Даниил застежку плаща своего, за который схватилось множество вражьих рук, отпрянул, подобно барсу, поднял валявшийся близ него горский топор и с размаху грянул по голове первого подвернувшегося.
Страшен тогда явился лик Даниила! Попятились мадьяры и расступились. А князь пробил дорогу к своим – уже ревели грозно у подножья холма – и сказал им ратное слово, слово, за которое кладут душу, и ринул их за собой к знамени.
И не стерпел венгерский вождь именитый – «тот древле прегордый угрин Филя».
– Лоу!.. Лоу!.. (Лошадь!.. Лошадь!..) – закричал барон вне себя, хотя и сидел уж на лошади.
И доселе не знают, требовал он запасного, поводного коня или же помутился в тот миг его рассудок от ужаса.
Вонзил он шпоры в золотистого благородного скакуна, ударил плетью и поскакал.
А и недалеко ушел!
Даниил же дорвался до королевской хоругви, привстал в стременах и яростно разодрал на полы тяжелое шелковое полотнище – вплоть до золотой короны Стефана.
…Привели Фильния.
Сумрачно, угрюмо выступал венгерский полководец. Подойдя к Даниилу, сидевшему на коне, он все еще властным и высокомерным движеньем отстранил от себя двоих русских ратников, что придерживали его.
– Герцог Даниэль! – медленно проговорил он. – Марс непостоянен. Я – твой пленник!
Даниил дышал гневно и тяжело.
– Ты хочешь пленник именоваться! – сурово ответил он. – Но у меня с вами войны не было! Ты пленник хочешь именоваться! – возвышая голос, продолжал он. – А пошто села наши пожег и жителя и земледельца побил? Отмолви!
Фильний молчал.
– Яко пленник хочешь быти? – повторил грозный свой допрос Даниил. – А пошто воеводу моего Михаилу убил, когда в плен его ранена взял? Ты видел: на нем трои цепи были золотые, – то я на него своей рукой возложил: за его ратоборство и доблесть. И ты содрать их посмел!.. А ныне что мне отмолвишь про то?
Барон молчал.
– И нечего тобе отмолвити! – заключил князь. – Нет! Не пленником тебя, а тело твое псам на расхытанье!
Фильния увели…
Угрюмыми толпами вели пленных венгров. Гнали табуны захваченных трепетнокровных коней. Сносили и складывали в кучи оружие и доспехи. Пылал и клубился черным дымом осадный город вкруг Ярослава. Далеко разносился звон колоколов. И до самой полуночи не умолкал над побоищем переклич: подымали раненых, отыскивали своих убитых, ибо многие тогда явили великое мужество и не побежали брат от брата, но стали твердо, прияв победный конец, оставя по себе память и последнему веку!
В Дороговске, на отлогой и обширной поляне за дубовым теремом князя, пировала дружина и наихрабрейшие ополченцы.
Торжествовали победу. Здравили князя.
Лучшие вина в замшелых бочках, и мед, и узвар из всевозможных плодов, и янтарное сусло в корчагах видны были там и сям под деревьями.
Упившихся относили бережно – на попонах – в прохладу, где булькал студеный гремучий ручей. Но и эти еще усиливались подняться и кликнуть, как только достигало их слуха, что князь опять сошел в сад с балкона и проходит между столами, а вслед ему гремит и несется:
– Здрав, здрав буди, княже, во веки веков!..
– Куме, а и любит нас Данило Романович! – говорил один седоусый волынский ополченец другому, столь же изнемогшему над грудой вареников с вишнею, залитых сметаною, и комдумцов с мясом. – Ты погляди: на столе-то – на сто лет!
– А и мы князя любим! – отвечал другой. – И ведь что он есть за человек! И рука-то у него смеется, и нога смеется! И всему народу радостен!.. Куме, напьемся! – растроганно и умиленно заключил он, стряхивая слезу, и поднялся на нетвердых ногах с чарой в руке, обнимая и обливая кума.
Никто уже и смотреть не хотел на яства; только пили вино да еще вкушали – медлительно и лениво – от груды плодов, до которой дотягивалась рука.
Большие кисти крупного, пропускающего сквозь себя свет винограда; сизым туском тронутые сочные сливы; бокастые, оплывающие на пальцах груши в переизбытке отягощали столы.
– А что, Андреюшко Иваныч, – обратился к дворскому князь, и доволен и светел хозяйской, господарской радостью, – думаю, тебе полегче было с мадьярами управиться! А?
– И не говори, князь! – шуткой на шутку ответствовал дворский, отирая большим красным платком струившийся с лица пот.
– И как ты успеть мог – дивлюсь!
– А на то я у тебя, княже, и швец, и жнец, и в дуду игрец! – отвечал Андрей-дворский. И затем – на ухо князю: – С трех сел женщин просить пришлося стряпати и пешти!
Всякий раз, окружая, воины и самого князя неволили пить с ними. Даниил смеялся.
– Что вы, братья! – увещевал он обступавшую его ватагу. – Вы пируйте себе во здравие. А с меня уже довольно. Да мне уже и не велено более.
Воины вскипали.
– Как так? – кричали они. – Кто смеет тебе, князю пресветлу, не велеть?
Даниил же, затаивая улыбку, отвечал:
– Князю, други мои, подобает по заповеди святых отец пити. А отцы святые узаконили православным по три чаши токмо и не боле того!
И, не зная, что отмолвить на это, воины отпускали его и долго стояли молча, смотря ему вслед, любуясь им и многодумно помавая головами друг другу.
Но в одном где-то месте дюжие руки ухватили-таки Даниила – качнуть, и уже тут понял князь, что никакое слово его не властно.
Услыша грозно-радостный рев и догадавшись, что это означает, выбежала, встревоженная, на балкон Анна Мстиславовна, в малиновом, с широкими рукавами, летнике, в белоснежной легковейной тканке, наспех кинутой поверх дивных черных волос, и глянула вниз, отыскивая очами дворского.
А Андрей-дворский стоял уже поблизости, возле дерева, и знаками показывал ей, что нечего, мол, страшиться.
Воины же бережно поставили своего князя на землю, а потом сызнова взняли его на большой на червленый и сердцеобразный щит, по обычаю древнерусскому, и над головами своими понесли его во дворец.
И от них не укрылась тревога Анны Мстиславовны.
– Княгиня-свет, матынька наша! – проговорили воины, взнеся Даниила к ней, во второй ярус дворца. – Ты никогда не страшися, оже[12] князь твой – на наших руках! Лелеемо твоего князя и пуще своих голов храним!
На лестнице затих шум тяжелых шагов, и, прежде чем успела опомниться Анна, Даниил, зардевшийся, светлый, каким она его уже давно не видала, подхватил ее, подбросил чуть не под самый потолок, слабо вскрикнувшую, и принял легко и мощно, и вновь, и вновь подбросил.
– Даниль… хватит уже… милый… – успевала только вымолвить Анна.
– А как же – тебя-то, княгиня моя милая, орлица моя? – отвечал, улыбаясь, Даниил, ставя ее на ковер.
И, не выпуская ее, сел с нею в кресло.
И чуть слышно провеял возле уха его шепот Анны:
– Лада мой… Милый мой, милейкий…
– Половчаночка моя… скуластенькая…
– Даниль! – будто бы сурово вдруг прикрикнула на него Анна и спрыгнула с его колен и погрозила ему пальцем. Полукружия тонких ее бровей слегка дрогнули в притворном гневе. – Почему я половчанка? – строго спросила она. Гордо откинув голову, принялась было считать: – И отец мой – Мстисляб, – сказала она и пригнула мизинец, – и дед мой – Мстисляб, – и княгиня пригнула второй палец.
Но в то время, как дотронулась третьего, Даниил с половецким произношеньем лукаво переспросил:
– Мстисляб?
– Даниль! – притопнув красным каблучком сандалии, сказала Анна.
А он, как бы продолжая за нее счет и пригнув третий палец, сказал, подделываясь под ее голос:
– И еще дед мой – Хотян… свет Сутоевич…
– Вот побью тебя!.. – Анна сжала кулак.
Даниил покорно развел руками, однако покачал головой.
– Но только вспомни сперва, что в Ярославлем уставе сказано: «А коли жена бьет мужа своего, а про то митрополиту – три гривны!» – предупредил он ее строго и назидательно.
Анна расхохоталась, подошла к нему и обвила его могучую шею смуглой прекрасной рукой.
«Половчанка!» Как много раз это простое, нежной ласкою дышавшее слово разглаживало на высоком челе Даниила межбровную морщину потаенного гнева, скорби и душевного мрака в страшную пору отовсюду рушившихся и на князя и на отчизну ударов неслыханных испытаний! Бывали в такую пору часы, когда князю не мил становился свет, когда он – ради других, не ради себя, дабы не прорвался в нем, не дай бог, лютый отцовский гнев, – замыкался от всех и ни с кем, даже с ближними боярами своими, не хотел слова молвить!
Легкой поступью, неслышно входила тогда в его горницу Анна и, немного поделав что-либо совсем ненужное и повздыхав тихо-тихо, вдруг несмело спрашивала: уж не она ли разгневала его чем?
Князь отмалчивался.
– Нет, правда, скажи: это – я?.. мэн?.. – повторяла она вопрос свой по-половчански.
Но обычно и этим не разрешалось еще угрюмое, тягостное молчанье супруга.
Тогда она тут же, наспех, придумывала какую-либо сплошь половецкую фразу, где, однако, целый ряд слов звучал как забавное искаженье русских.
Князь, поглаживая край бороды большим пальцем левой руки – признак неостывшего гнева, – искоса взглядывал на жену и, досадуя, что не отстает, многозначительно спрашивал вдруг:
– Скажи: как по-вашему «смола»?
– Самала, – невинно пояснит Анна, хотя уж спрашивал он это не раз в такие мгновенья, да и знал половецкий не хуже ее.
Даниил, бывало, лишь дрогнет бровью при этом ее ответе, а она, успевшая уже уловить в его золотисто-карих глазах, замутившихся гневом, первый луч хорошего света, торопилась поскорей закрепить успех первой битвы с демонами гнева и мрака.
– Супруг мой!.. Эрмэнинг!..[13] – певуче-звучным своим, призывным голосом произносила она.
И князь начинал улыбаться, все еще отворачиваясь.
Анна подходила к нему.
– Ну, а как по-вашему «этот»? – порою спрашивал князь.
– Бу.
Даниил слегка усмехался.
– «Мой»?
– Мэнинг.
– Та-ак… – протяжно, удовлетворенно произносил князь.
И оба уже ощущали они, что сейчас-то и начинается самая желанная для обоих часть половецко-русского словаря:
– А «сундук»?
– Синдук, – отвечала Анна.
Князь уже с трудом сдерживал смех.
– «Изумруд»? – спрашивал он.
– Змурут, – не смущаясь, «переводила» Анна.
– Чудно! – посмеиваясь в бороду, говорил князь. – Ну, а «изба» как будет у половцев?
– Иксба.
Даниил хохотал. С тех времен, с таких вот мгновений и повелось: «половчаночка…»
Вдруг князь прислушался. Как бы судорога прошла у него по лицу. Он встал.
Вслушалась и Анна.
Гортанный, с провизгом, говор, перешедший в крик, донесся откуда-то из сеней.
– Татарин крычит! – скрежетнув зубами, сказал князь. – Ух! И когда же минет с земли нашей нечисть сия?
В войлочном белом, насквозь пропыленном колпаке с завороченными краями, в грязном стеганом полосатом халате, и не разглядишь, чем подпоясанном, стоял на ступенях высокого княжеского крыльца молодой татарин – крикливый, щелоглазый наглец с темным мосластым лицом.
Он рвался в хоромы.
А Андрей-дворский, увещевая, гудел, точно шмель, и заграждал ему дорогу – то спереди, то справа, то слева.
– Да ты постой, постой, обумись! – говорил он гонцу, то расставляя перед ним руки, а то и легонько отталкивая его.
Татарин яростно кричал что-то по-своему, ломился вперед, совал в лицо дворскому золотую пайцзу – овальную пластинку с двумя отверстиями, покрытую крючковатыми письменами и висевшую у него на гайтане.
– Да вижу, вижу, – говорил, отстраняя пайцзу, дворский. – А чего ты жерло-то свое разверз? Знаю: от ближнего хана, от Могучея, приехал и Батыги-хана посол. Все знаю! А доколе не облачишься как подобает, не токмо ко князю, а и в хоромы не допущу. Что хошь делай!
Татарин неистовствовал.
Дворский устало смотрел в сторону, а тем временем ключник уж приказал принесть одежду и сапоги.
– Помогите послу цареву переодеться-переобуться! – приказал слугам Андрей и пропустил гонца в сени.
Тут, в уголке, посланному Батыя поставили табурет. Слуга, взявшись за халат, знаками показал татарину, что надо сбросить одежду. Тот понял это совсем иначе. В негодовании он сам распахнул халат, разорвав завязки, и начал охлопывать себя и по бокам и по груди.
– Думает, мы у него нож заподозрили, – догадался дворский. И, усмехнувшись, принялся успокаивать гонца: – Да нет, батырь, знаем: на такое злодеянье посла не пошлют! И не про то говорим. А не подобает: грязный ты, в пыли весь!
С золотою прошвою зеленый кафтан, новые сафьяновые сапоги, круглая плисовая шапка, отороченная мехом, благотворно подействовали на татарина. Он стал переодеваться с помощью слуг.
Довольный этим, Андрей изредка взглядывал на него.
– То-то! – ворчал он. – В баню бы тебя сперва сводить, да уж ладно! И шаровары надень, глядеть на тебя не будем.
Татарин переоблачился. Однако лицо его все еще дышало настороженной злобой.
Дворский же, невзирая на то, похваливал его и говорил:
– Ишь ты! Словно бы и ростом повыше стал. Теперь и князю пойду доложу. А то скорый какой: в хоромы его! Ты погляди, – обратился он к татарину и указал на пол, – и здесь-то сколь наследил! А там у нас полы-те светлой плашкой дубовой кладены, да и воском натерты!
Проходя мимо большого венецианского зеркала в стене, татарин увидал себя и широко ухмыльнулся.
– Вот видишь! – сказал ему, заметив это, Андрей. – И самому взглянуть любо-дорого!
Гонец оправил перед зеркалом свое одеянье.
Дворский же Андрей, похлопав его по плечу, сказал:
– И то – твоя одежда, батырь, насовсем твоя! И сапоги твои. Сымать не будем. А шляпу дадим, как назад поедешь. Твое это, твое все!
Андрей все сказанное так внятно изъяснил знаками, что мослатое лицо батыря залоснилось от широчайшей улыбки.
Даниил Романович не соизволил принять гонца.
– Когда бы посол был – иное дело. Но то гонец только, – сказал он брату Васильку – князю Волынскому и печатедержателю своему – Кириле.
И те одобрили.
Грамоту Батыя принял Кирило.
На выбеленной под бумагу, тонко выделанной телячьей коже, исписанной квадратовидным уйгурским письмом, первое место было отведено длиннейшему титулу Батыя, заполнявшему две трети грамоты. Старый хан именовался там и царем царей и вседержителем мира.
И только два слова отведены были ее содержанию. Но эти два слова были:
«Дай Галич!»
Созван был чрезвычайный совет. На сей раз, кроме Андрея-дворского, Кирило-печатедержателя и старого Мирослава, думал с князем и младший Романович, Васильке, – сотрудник мудрый, соратник верный, светившийся братолюбием.
Думал с князем и преосвященный Кирилл, галичанин родом, сверстник своего князя, друг юности, а и потом всю жизнь друг неотступный в грозе и в беде, советник опытный, помощник неустанный.
Волею князя Даниила он именовался уже теперь митрополитом Галицким, Киевским и всея Руси, хотя еще и надлежало ему быть ставлену от патриарха, в Константинополе, а не ездил на поставление за безвременьем и лихолетьем царьградским.
Однако и Киев, и сам Владимир на Клязьме, Суздальский, и Новгород Великий чтили избранного собором иерархов российских бывшего епископа Холмского как митрополита. Кирилл беспощаден был к распрям княжеским и крамолам, и многих враждовавших меж собою князей примирил он друг с другом.
Коротко сказали свое на совете и Кирило-печатедержатель, и Андрей-дворский, и князь Василько.
Воевода Мирослав, воспитатель княжой, говорил назидательно и пространно – от старости.
И только ему одному князь и прощал многословие.
Не прерывая маститого, дебелого старца ни движеньем, ни словом, Даниил только щурился и слегка покусывал в нетерпенье полную нижнюю губу.
Далеко вдался Мирослав! Обозрел Запад, обозрел и Восток. Вспомянул вероломство обоих королей венгерских – и Андрея, и Андреевича Бэлы, шаткость Лешка Белого, краковского («Не тем будь помянут покойник!»), хлипкость другого Казимирича – Конрада Мазовецкого, да и вражду, из-за убыточного союза с Конрадом, со стороны Болеслава Лешковича; вспомнил лесть и коварство Миндовга: «Жди, жди помощь – пришлем», – гневно передразнил Мирослав, – а дотянулись едва-едва, когда уж и побоище остыло!»
Глянул старый воевода и на единоверный Восток: во прахе лежит пресветлая и превеликая Византия! – ограбили, испепелили, обесчестили Царьград латынские крестоносцы – немецкое похабное воинство!
И престол патриарший из-за крыжевников латынских ушел в Никею!
Далее вспомянул он своих. Да! Уж такого-то витязя и водителя полков и за правду неустанного ратоборца, каким был покойный тесть Данила Романовича, Мстислав Мстиславович, – царство ему небесное! – долго, долго Русской земле не заиметь! Тот бы уж поспешил к Данилу Романовичу, не умедлил!
И, радостно улыбаясь в седую обширную бороду этим воспоминаньям своим, припомнил старый дядько воевода, как ревмя ревели, отсиживаясь на колокольне галичской от Мстислава, юный королевич венгерский Колвман с женою своей, двенадцатилетней отроковицей Соломеей Лешковичной, – Коломан, всаженный было отцом своим в короли «Галиции и Лодомирии».
И многое другое припомнил!
– А теперь – кто же на подмогу к тебе, княже? – заключил Мирослав. – С Михайлой Всеволодичем Черниговским, с тем у тебя мир, – ино ладно. А зятек Бэлы-короля, Ростислав Михалыч, да и другой Ольгович, Изяслав, – те все свое! – видно же, и у родины бывают уродины!.. А прочие князья наши – их, погляжу, и сам Батуха[14] не вразумил!..
Даже и того не поймут, что Ярослав Всеволодич Суздальский – то всем им общий, единый щит: копают под ним в Орде!.. Я сие к тому говорю, князь, – как бы спохватываясь во многоречье своем и смущенно поглядев на воспитанника своего, завершил слово свое Мирослав, – неоткуда нам помощь ждать… Верно, Ярослава Всеволодича старшой сынок, Олександр Ярославич, хотя и молод, а по взлету судя – орел! А, однако, одни-то они с отцом своим что возмогут против силы татарской? Когда бы все князья русские – за одино сердце!.. Про то все и хотел сказать… Не обессудь, княже!
И старый Мирослав, отдуваясь, вдвинулся в кресло.
Даниил с затаенною улыбкою увидел, как сдержанный вздох облегчения вырвался у прочих его сподвижников. Но разве мог прервать он Мирослава – этого человека, что сорок лет тому назад спас их обоих с Васильком, осиротевших во младенчестве, Мирослава, который был до гроба преданным слугою и ратоборцем покойного отца, да и овдовевшей матери их, княгини Анны, Мирослава, который уберег их во младенчестве и отрочестве от сатанинских козней и венгров, и Ольговичей, и от злого мятежника Земли, боярина Владислава, и от Судислава, и от прочих крамольных бояр галичских, искавших истребить племя Романа Великого, да и поныне злоумышлявших на жизнь своего князя!
От младых ногтей этот человек учил его не только метать копье, владеть мечом и щитом, накладывать стрелу и на пятьсот шагов сбивать с дерева белку, мягчить неукротимых коней, но, вместе с покойным воеводой Демьяном, и ратному великому искусству и устроенью и вожденью полков, но и греческому языку – от альфы и до омеги, и священноотческим книгам, и истории русской, византийской и западных стран, а еще и дивному искусству влагать мысль большую в малое пространство словесное – так, чтобы зазвучала та мысль реченьем памятным, созвучным и складным.
Как же было ныне Даниилу Романовичу не снизойти иной раз к поучительному многословию старца!
– Ты все молвил, отец? – спросил Мирослава князь.
– Все молвил, князь. Не осуди, – отвечал Мирослав.
– Молви же и ты, владыко! – слегка склоняя голову, сказал Даниил митрополиту Кириллу.
Недвижным осталось сухое, в черной бороде, смуглое строгое лицо владыки. Затем, слегка наклонив голову в белом митрополичьем клобуке и чуть притенив ресницами большие черные, проницающие душу глаза – глаза, о которых говорилось, что они и под человеком, в глубь земли, видят, – Кирилл ответил:
– Не мне, государь, худому и недостойному рабу твоему, поучать тебя державствовать. Но лучше ты нам поведай, что решил ты.
И снова стал недвижим как изваяние.
Лишь перстами левой руки он привычно касался осыпанной жемчугом панагии[15], блиставшей на золотой цепи поверх шелковой мантии василькового цвета.
Князь вздохнул. Поднял голову.
– Да. Я решил, преблагий владыка, и ты, брат мой возлюбленный, и вы, бояре! – сказал Даниил. – Войну с татарами ныне принять мы не можем: крепости наши не завершены, разорение от Батыевой рати не избылося! Угры не умирились, ждут! Миндовг… – И князь на мгновенье остановился. – Миндовг – тоже! Да и магистр. Дать бой в открытом поле ныне одним – непосильно! Добро бы – одни татары, но то – вся Азия на коне! Неисчислимым многолюдством своим и лошадью задавили! Последняя наша перепись всенародная что показала? – Тут как бы с полувопросом он взглянул на Андрея-дворского и тотчас ответил сам: – Без двух тысячей триста тысяч – с женами и детьми. А Батый если, как в те годы, придет – шесть крат по сто тысяч одних ратных только!.. Но и не дам полуотчины моей, а поеду к Батыю сам!
Что поднялось!
Даже Мирослав, опершись о поручни кресла, вскочил на ноги.
– Княже!.. Что ты! Господь с тобой!.. Как ты надумать мог! Да уж лутче не знаю что в посыл им послать! – проговорил он, задыхаясь, и когда сел снова в кресло, то, не в состоянии более уж и сказать что-либо, только возвел руками ко всем остальным советникам князя.
– Брат! – сказал Васильке, обратясь к Даниилу. – О державе подумай, об нас всех!..
И нахмурился.
– Того нельзя, князь! – сказал дворский. – Тут мы все противу тебя станем, а не пустим тебя! Анне Мстиславне падем в ноги!
– Княже! – промолвил Кирило-печатедержатель. – Сам хочешь в руки поганым даться! Или не помнишь, как в ту рать, когда Батый из-за Горы воротился, из Мадьяр, отрядил он Балая и Монмана-богатыря – окружить тебя и схватить, – а не на доброе же! Ладно – спасибо ему! – Актай-половчин упредил, спас! А то бы и не быть с добром!.. Туда, в Татарыте, много следов, а оттуда, как все равно из логова львиного, нетуть! Князя Федора Юрьича давно ли убили? Андрея Переславского? – Тут канцлер встал и с глубоким поклоном князю домолвил: – Княже и господине мой! Буде с тобою что случится в Орде-то, ведь сам знаешь, – народ без тебя сирота! А пошли лучше меня, недостойного: потружусь за отечество, за государя, сколь разуменья моего станет!
Князь движеньем руки велел ему сесть. Видно было, что он взволнован.
– Бояре! – сказал он, придав своему голосу властность и суровость. – Я не про то вас позвал, чтобы судить, ехать мне или не ехать: то сказано! Ныне знаю: самому надлежит мне быти послом своим. А ежели смертному часу моему быть в Орде – что ж! – его же не минуть никоему рожденному. Но я про то вас воззвал: с чем поехать?
– С дарами, княже… а и лучше бы одни только дары отослать, а самого себя поберечи! – посоветовал бесстрашный Мирослав.
Даниил Романович начинал явно гневаться.
– Андрей Иваныч! – обратился он к дворскому. – А повели возы запряшти! Да коломази приготовить вели побольше: возы, мол, тяжки будут – оси не загорелись бы! – пожирнее смазать… да и штоб скрып не слыхать было народу!.. «Что за обозы идут?» – «А это князь Галицкий дань в Татары повез!»
Даниил подальше отставил из-под руки нефритовую чернильницу.
– Откупиться – не дань платить! – смиренно упорствуя, возразил Мирослав.
– А и того нам отцы и деды не заповедали! – сурово ответил князь. – Я Батыю не данник, не подъяремный! Не копьем меня взял! Не на полку повоевал!
Старый Мирослав развел руками:
– И немцы не данники, и венециане, и греки, и французский король, а караванами к Батыю шлют!
– Мало что! – презрительно сказал князь. – Масулманы – те и вовсе татарам покорились: калиф багдадский – тот и слоны шлет на Волгу, и жирафы, и страусы, и золото, и паволоки… Сам говоришь, караванами. Или же и нас уподобить им хочешь?
– Пошто – караваны? – как бы не замечая нарастающий гнев князя, желая одного только – отвратить его от поездки в Орду, возразил Мирослав. – Им и дукаты хорошо, и бизантины, и динары, и гривны!..
– Жадна душа – без дна ушат! – молвил, усмехнувшись, князь.
Мирослав крякнул и не сразу нашелся что ответить былому ученику своему. Помолчав же, сказал так:
– Не огневайся, княже! То слово, что ты сейчас молвил о татарах, – истинное слово, верное. Но я вспомяну родителя твоего, государя Романа Мстиславовича: разве был кто в целом свете храбрее его? – а и тот говаривал, сам я из его уст слышал: «Иного врага клещити, а иного и улещити!»
Князь решительно пресек дальнейший спор о его отъезде в Орду.
– Вот что, бояре, – непреклонно проговорил он, – довольно про то!.. Но знаю сам: чем-либо поклониться придется – в Татары без подарка не ездят! Но хотел бы я не простой какой-либо дар Батыю измыслить, но такой, чтобы – первое – не принизить достоинство и честь Земли Русской, а и чтобы не было акы дань. Второе – чтобы угоден был тот подарок хану. Третье – чтобы стал подобен тот дар коню данайскому, а вернее молвить – яблоку Париса… Об этом и спрошу вас…
И думали в ту ночь многое. И многое предлагалось. И все отвергнуто было князем.
– Подумайте, бояре, об этом еще. И ты, владыко! И ты, Васильке! – сказал князь, отпуская совет, и в последнее еще раз просил и владыку, и брата, и бояр своих попещися усердно – и о державе, и о семействе его, буде не возвратится.
– Андрей Иваныч! – сказал он дворскому. – А тебе не отлагая снаряжать людей, и поезд, и весь дорожный запас. Ты со мною поедешь.
Лицо дворского озарилось радостью.
Было уже за полночь, когда Даниил прошел на половину княгини, но Анна еще не ложилась. Девушка была отпущена. Княгиня сидела одна перед настольным зеркалом, в пунцовом, рытого бархата халатике, с кистями, протканными золотой нитью, и расчесывала волосы белым, с длинною рукоятью гребнем.
Время от времени, будто утомясь, Анна откладывала гребень на подзеркальник, руки ее вяло опускались, она вздыхала тяжело и, наклонив голову на плечо, долго и неподвижно смотрела на свое отражение в зеркале.
Но едва легкий шорох дверной завесы, тронутой Даниилом, коснулся ее слуха, она с такой стремительностью вскочила и обернулась к нему, что сронила с ноги ночной, шитый бисером, босовичок на красном каблуке, и тогда, не думая, сбросила другой и в одних шелковых, тугих, персикового цвета чулках перебежала комнату по мягкому, пышному ковру – и кинулась, приникла, и слезы крупные закапали из очей.
Он склонился над нею, взял обе руки ее в свою, приподнял ей лицо.
– Половчанка моя!.. Что с тобой? – спросил он, увидав ее слезы.
– Ничего, Даниль! – отвечала она, покачнув головою и поспешно осушая слезы, боясь, что он уйдет. – Я ждала тебя… хотела, чтобы ты пришел… и стала молиться, чтобы ты пришел.
Даниил рассмеялся.
– Ну вот видишь! – сказал он.
– И я знала, что ты придешь!
– От кого?
– У меня два раза упал гребень!
– Да-а… – сдерживая улыбку, проговорил он. – А он больше ничего не сказал тебе – гребень твой?
– Нет, – отвечала она, и беспокойство овладело ею.
Князь отошел к столу, за которым обычно занималась княгиня, и, стоя к столу спиною, слегка опираясь о него концами пальцев, сказал ей, как нечто решенное уже и простое:
– Еду к Батыю.
И оттого, что это было сказано таким же голосом, как если бы: «В Берестье, в Кременец, в Комов», – до нее не сразу дошло все страшное значенье произнесенных им слов.
А когда поняла, то у нее вдруг подломились колени, и она опустилась в кресло и смотрела на него молча и неподвижно.
Даниил нахмурился.
– Даниль! – простонала-промолвила наконец она, с мольбою сложив прекрасные руки свои. – Да какой же то ворог твой лютый присоветовал тебе?
– То я решил сам, – жестко и непреклонно отвечал князь. – И ты меня знаешь, Анна! А еду не того ради, чтобы поганую его морду видеть. И не станем боле говорить про то, а иначе уйду.
– Горе мне!.. О, горе мне!.. – навзрыд вскрикнула Анна и схватила в горсти дивные волосы, и закрыла ими лицо, и, покачиваясь, запричитала.
– Не вой! Не вдова! – гневно прикрикнул на нее князь и пошел к двери.
Она бросилась вслед, и упала на колени, и обхватила ноги его.
Он остановился. А она, все еще не отпуская ног его и силясь остановить рыданья, говорила ему:
– Не уходи! Даниль! Не уходи! Я не буду больше!..
Она вернула его. Привела в порядок волосы и одежду и тогда, стараясь говорить спокойнее, снова начала о том же:
– Где же твои слуги верные? Где же твои советники мудрые, если уж некем стало замениться тебе? – сказала она.
– Просился ехать Кирило, – сумрачно и нехотя отвечал он. – Но токмо я один смогу что-либо достигнуть в Орде, никто иной. И не береди душу, Анна!..
– Князь мой! – приближаясь к нему, с тихой мольбой в голосе сказала она. – Но ведь они убьют тебя! Если уж здесь они хотели схватить тебя, а там… да и уж если Федора Рязанского умертвили, а ведь что он для них? И поедешь ты, с твоей гордостью?
– Да! – прервал ее Даниил. – Уж глумиться надо мною не будут… про то знаешь…
– Знаю! – вдруг выкрикнула она, и глаза ее зажглись диким блеском. – Но и ты знаешь, что над собою супруга князь-Федора, Евпраксия, сделала!.. Та и младенца с собою вместе не пожалела… а у меня уж большие все!..
– А Дубравка? – тихо-грозным голосом возразил он.
– Что ж Дубравка? – уже и себя не помня, отвечала княгиня. – О ней будет кому позаботиться.
– Стыдися, княгиня! – крикнул он голосом, какого уже давно от него не слыхала Анна. – Постыдное и страшное слово твое! А еще и христианкою нарицаешься!.. Опомнись! Подумай о себе, княгиня: кто еси?!
И, потрясенная гневным словом его, она смирилась и, тихо жалобясь ему на него самого, стала молить, чтобы он простил ее, обеспамятевшую от любви, от скорби, от страха за него.
Он стал утешать ее.
Совсем было покорившаяся неизбежному, Анна снова вскочила.
– Даниль! – с невыразимой скорбью вскричала она. – Неужели именины твои будут среди поганых?
Князь рассмеялся.
– Что ж делать! – сказал он. – Уж так довелось! – И, успокаивая ее и отводя на другое, промолвил: – Вот и расстроила и огорчила меня! А ведь я, хатунь моя, ханша моя, шел беседовать, шел советовать с тобою много!
– Да? Да? – проговорила, радуясь, Анна и, чтобы загладить скорее вину, поспешно отерла дрожащими руками заплаканные глаза свои. – Эзитурмен – я слушаю, господин мой!
– Шел беседовать с тобою о яблоке Париса, – сказал князь.
В дворцовой церкви о полудни митрополит Кирилл отслужил напутственный молебен, благословил князя. Затем, перейдя в большую столовую палату, посидели в ней молча с мгновенье времени и поднялись, и князь стал прощаться с женою, с братом, с боярами ближними, с чадами и домочадцами.
Когда он поцеловал Анну, она взглянула на него и чуть слышно сказала:
– Я провожу тебя… до столпа только!..
Он жалостно посмотрел на нее.
– Не надо, княгиня моя мила, Анна… дальние проводы – то лишние слезы, – так сказал он, и она потупила очи свои и ничего, ничего не сказала ему более.
Склонив голову перед старшим, принял прощальное лобзанье его брат Василько и, тяжело вздохнув, глянул ему в глаза своими синими ясными глазами и молвил:
– Все, что наказывал мне, брат мой и господин, то все будет свято!
И отошел.
– Прощайте, сыны! – проговорил князь, одного за другим на краткий миг привлекая головою к плечу своему и целуя.
– Прощай, государь! Прощай, отец! – один за другим ответствовали ему сыновья и, поклонясь, отходили.
Опустя очи долу, пасмурные стояли все четверо Даниловичей.
Старший, Лев, – могучий мышцею и уже отведавший битвы юноша. Был тот Лев и лицом, и обликом, да и складом души своей более в деда своего, Романа Мстиславича: ростом не так велик, а плечьми широк, с головою крупной и угловатой, темноволосой и коротко остриженной; лицом красив, черноок; нос немного с горбиною. В битве старший Данилович являлся яр, в гневе – лют, а и гневлив не по возрасту! Скрытен. И не столько дружили с ним, сколько опасались его молодые сыны боярские, да, пожалуй, и братья!
Двумя годами по нем – Роман. Сей Данилович был не отрок уже, но еще и не юноша. Стройный, гибкий и темно-русый. Душой бесхитростен. Любил прямые пути. Слова своего не ломал. Бывало, накатывало и на него, но отходчив был Роман и не злопамятен.
Двенадцатилетний Мстислав, златокудрый и синеокий, пылкий и звонкоголосый мальчуган, любимец дяди своего, Василька, бояр всех, да и матери баловень, был лицом похожее всех на отца, но и сильно пробивалась в нем гордая и кипучая кровь синеокой бабки, отцовой матери, Анны Мечиславовны, вдовы Романа Великого, в девичестве княжны польской.
Однако дядько Мирослав, тот более, чем ко всем остальным княжичам, прилепился душою к младшему Даниловичу, одиннадцатилетнему Шварну. Шварно – то было княжое имя ему. А христианское – Иоанн.
Четыре года всего назад были княжичу постриги, и посадил его старый Мирослав на коня, и перевели на мужскую половину. И великое было веселье в Холме!
Немного хлипок был здоровьем и тонкокостного склада младший. Но всячески старался укрепить и закалить светлорусого своего любимца Мирослав.
– Погодите еще, – говаривал Мирослав, – возрастет мой Иван Данилыч и бестрепетен будет в битвах! Но к православным столь же легкосерд будет, акы отец!
Легкой, стыдливой поступью подошла проститься Дубравка. Девочка была точно ландыш. Ей еще и десяти не было.
Князь положил свою ладонь на худенькое плечо, и она вся так и приникла к нему. Отец дотронулся рукою до золотых косичек, переплетенных алыми вкосничками.
– Ну, княжна! – проговорил он, и тут впервые голос его заметно дрогнул.
– Тату! Не уезжай! – срывающимся голосом проговорила она и заплакала.
– Доню! – горестной улыбкой сопровождая слова свои, негромко воскликнул князь и посмотрел на бояр. Но все они, потупя взоры, стояли, будто не видя ничего и не слыша. – Доню! – повторил князь. – Того нельзя… крохотка моя!..
Золотистые, теплые очи ее – отцовские – глянули на него, полные слез.
– Уплаканко мое! – сказал он и погладил ей голову.
– Тату!.. Тебя все слушают… ты все можешь! – не уезжай!
Точно острый нож прошел по сердцу князя. Он поспешно поцеловал ее и взглянул на княгиню. Анна Мстиславовна подошла и бережно увела разрыдавшуюся Дубравку.
Когда подошел черед прощаться боярам, Кирило-печатедержатель вдруг молча упал в ноги князю. Князь вздрогнул. Канцлер же сызнова, троекратно, земным и молчаливым поклоном простился со своим князем.
А когда поднялся, то крупные слезы капали на седую бороду.
– Данило Романович! – сказал он просто, не титулуя, не именуя князем. – Прости, в чем согрешил пред тобой!
– И меня прости, Данило Романович! – сказал еще один из бояр и тоже упал в ноги князю.
За ними же – другие бояре, и домочадцы, и слуги. Послышались рыданья и всхлипыванья.
Прекрасное лицо Даниила задергалось.
– Што вы?.. Што вы? Полноте! – молвил он. – Не по мертвому плачете!
Престарелого Мирослава он удержал от земного поклона.
– Полно, отец, – сказал он. – Ты прости меня, коли в чем тебя обидел!
Анна хотела, видно, ступить к нему и что-то сказать, но вдруг пошатнулась и упала, точно подкошенная, и уже близ самого пола подхватил ее старший Данилович.
Кинулись к ней. Побежали за лекарем.
Старик Мирослав наклонился над Анной, приказал поднять окна.
– Не бойся, Данило Романович! – успокоил он князя. – То беспамятство со княгиней… оморок с нею.
И слова его подтвердил не замедливший предстать перед князем придворный врач, армянин-византиец Прокопий, некогда прославленный врач императора византийского Ангела Исаака, бежавший вместе с царевичем Алексеем к Роману в Галич, когда заточен был и ослеплен император Исаак.
Прощупав пульс на руке у княгини, Прокопий на древнегреческом произнес:
– Государь! Сердце императрицы приняло чрезмерно много ударов. Но в данный миг жизнь ее вне опасности.
Даниил пытливо-тревожным взором взглянул в лицо медика.
Прокопий не отвел глаз и уверенно и спокойно сделал отрицательное движение головой.
Даниил склонился над Анной, молча поцеловал бледный, холодный лоб и поспешно покинул внутренние покои дворца.
Четверо сынов сопровождали князя верхом на расстоянии двух верст.
Здесь он еще раз простился с ними.
– Ну, орлята мои, – сказал он, – ждите! А не вернуся – то Васильке старей всех! Ему заповедал блюсти державу и Русскую Землю стеречь! Вам же Васильке – в мое место! Лев! Тебе – в Галиче. А Василька Романовича слушай во всем! Да поберегите мать… Ну прощайте!..
2
Киев! – золотого кимвала звоном прозвенело дивное слово!
Даниил придержал коня. Перевели на шаг и прочие всадники. Кончился западный боровой просек. Выехали на уклон каменистого взгорья.
– Киев – мати городов русских! Днепре Словутичю!.. Почайна, Лыбедь и Глубочица!..
Князь задумался… Многое – о, как многое! – нахлынуло в его душу!
…Отсюда – с днепровских высот – Владимир, князь Киевский, Святославич, древлий предок его, сперва притрепетав обоих императоров византийских, затем даровал им союз и мир. Сюда прибыла к Владимиру отданная ему в супруги сестра императоров. Отсюда Владимир Великий мечом добытую веру, а вместе с нею и светочи древней Эллады, угасавшие уже тогда в костеневших руках Византии, простирал, раскидывал щедро, ревностно, яро, крестя огнем и мечом…
На этих вот бирюзовых волнах, низринутый, плыл, покачиваясь ничком, бог грома, Перун, – деревянный, с серебряной головой и золотыми усами. Вот там, возле Боричева, истукан, привязанный к хвосту лошадиному, был стащен с горы. И двенадцать мужей на глазах потрясенных киевлян били его жезлом. И совлекли Перуна, и кинули в Днепр.
И гнали падшего бога вниз по Днепру, отталкивая шестами вплоть до самых порогов.
А там киевляне – а было же их без числа! – приняли от епископов византийских крещение в Днепре.
И послал тогда князь Владимир брать детей именитых, дабы отдать на учение книжное. И плакали матери, как по мертвым!..
Вскоре былая гроза Восточного Рима – народ русский стал могучим щитом, стал оплотом Эллады.
Народ русский! – люди, потрясающие секирой на правом плече, народ, архонты которого именуются – Ярославы, Ростиславы и Звениславы, люди – Рус, у которых русые волосы и светло-голубые глаза; воины, лютые в битвах; бойцы, которые в яростном, смертоносном и распаленном духе не обращают внимания на куски своего мяса, теряемые в сраженьях, – так, дивясь, благодарствуя, трепеща, писали о русских своих союзниках византийцы.
Такое читал и перечитывал многократно, еще будучи отроком, «герцог Даниэль» в одном из латинских манускриптов у аббата Бертольда, королевского капеллана, преподававшего им латынь – ему и королевичу Бэле.
Давно ли у Ярослава Галицкого – император Андроник, а у Романа, отца, – византийский царевич Алексей Ангел искали убежища!
Да ведь как раз в год рождения его, Даниила, отец сел на коня, по призыву единоверной Византии, и с могучими полками своими, будто железной раскаленной метлой, смел с хребтов Фракии полумиллионные орды половцев, уже грозивших Царьграду!
Отсюда, от этих вот берегов, отбывала светлая киевлянка – Анна, дочь Ярослава, – чтобы стать королевою Франции!
На эти холмы, в поисках крепкого убежища и защиты, бежала английская королева к прадеду его, Владимиру Мономаху. Здесь дочь английского короля стала женою Владимира, тогда еще переславского князя.
Но уже со всем напряжением доброй и великой воли своей – то словом, то силой – удерживал труженик за Русскую Землю Мономах Владимир враждующих меж собой князей, стряпающих и под грозой половецкой княжое местничество.
Слезами скорби и гнева оплакивая неразумие и усобицу их, говорил им Владимир: «Воистину отцы наши и деды наши сохранили Русскую Землю, а мы погубить ее хочем!»
И страшились его, и повиновались, и ходили под рукой Мономаха.
Но ведь один был тот старый Владимир!
А когда умер – приложился к праотцам своим Мономах, не стало его, – зашатался Киев. Еще несет на своем челе священный венец старейшинства, но уже выронил скипетр власти. Князья еще чтут киевский престол, но уже не повинуются ему более. И все возрастает напор половцев…
Однако не иссякло Володимера племя! – и как только на Киевский златой стол восходят младшие Мономаховичи-Волынские – прадед, дед или же отец Даниила, – так немедля с высот киевских несется призыв ко всем князьям русским: «Братья! Пожалейте о Русской Земле, о своей отчине, дедине! Всякое лето уводят половцы у вежи свои христиан. А уже у нас и Греческий путь отымают, и Соляной, и Залозный[16]. А лепо было бы нам, братья, поискать отцов и дедов своих путей и чести!..»
И пошли, и притрепетали грозою, и потоптали нечестивое Поле! И надолго, надолго приутихли князья половецкие…
…Там вон, далече, налево, внизу, вдоль Днепра, раскинулся Подол Киева – Оболонь, нижний город, населенный купцами, ремесленниками, огородниками, хлеборобами и прочим мизинным людом.
Всякий раз подоляне – никто иной – прадеду Изяславу, деду Мстиславу, да и родителю Даниила – Буй-Роману Мстиславичу – самочинно отпирали, распахивали ворота, и подобно как впоследствии к самому Даниилу простой народ Галича, так же и киевляне текли навстречу к предкам его, словно дети к матери, будто пчелы к матке, как жаждущие воды ко источнику.
И, скрежеща в бессильной злобе зубами и запершись в верхнем городе, соперники и супостаты Мономаховичей-Волынских взмаливались тогда, видя народа силу, отпустить их живыми восвояси.
Когда ж, под напором и Ольговичей и половцев, покидали предки Данииловы Киев и уходили на отчину, на Волынь, – тогда киевляне, сокрушенно прощаясь, говорили: «Ныне, князь, не твое время. А не печалуйся, не скорби: где только увидемо стяг твой, то мы готовы – твои!..»
…А не переставая и поныне враждуют меж собой князья! И самая Калка не вразумила. Что Калка! И Батый вразумил не многих! Ежели и одумались которые, то уж поздно! – над каждым сидит баскак. За каждым – по пятам – наушники ханские и соглядатаи.
Вот он стоит по-прежнему, близясь и вырастая, осияя весь Киев, будто плавясь на солнце, купол-шлем Святыя Софии. Близ, на Ярославлем дворе, в тот страшный день, двенадцать годов назад, бился вечевой колокол, сзывая киевлян.
Во дворце, у киевского Мстислава, шел княжой съезд. И даже тогда не уладились, не урядились, и большие были речи между старейшинами Русской Земли!
Суздальский Юрий, кто, подобно отцу своему, мог бы Волгу веслами раскропить, а Дон шлемами бойцов своих вычерпать, – тот даже и совсем не приехал, злобясь на Мстислава Мстиславича Галицкого за Липецкое побоище. А прислал – да и то не поспевших, как в насмешку! – всего каких-то четыреста человек, тех, что вымолил у него доблестный, хотя и хрупкий юноша – Васильке Константиныч Ростовский, витязь и страстотерпец за родину, который впоследствии в черном плену татарском и пищи их не приял, и плюнул в лицо самому Батыю.
Сухое, бездождное стояло лето 1223 года. Горели леса и болота усохшие, гарь стояла и мга – птицы задыхались в дыму и падали наземь.
И в поход выступали князья, всячески перекоряясь друг с другом, творя проклятое свое княжое местничество.
Да и в самой битве, творя на пакость, наперекор друг другу, распрею погубили все старейшины Земли Русской! Один Мстислав ударил на Субедея, не сказав остальным, а другой Мстислав, озлобясь, огородился телегами на месте высоком и каменистом и не сдвинулся даже в тот миг, когда половцы Яруна в беспамятстве, словно гонимые богом стадного ужаса Паном, смяли станы и боевой порядок русских князей. Так и простоял старый Романыч вплоть до своего часа!..
Одному с киевлянами пришлось ему потом отбиваться три дня и три ночи за своими возами, на месте высоком и каменистом, и приять смерть мучительную, но и бесславную.
А ведь было двинуть только стоявшие у него под рукою тридцать тысяч без двух отборного и свежего войска в решительный миг сраженья – и с татарами было бы все покончено, быть может, и навсегда!
Ведь Мстислав Немой, Пересопницкий, да Мстислав Галицкий Мстиславич, да двое юных – он, Даниил, и князь Олег Курский, этот со своею Волынью, а тот – во главе курян своих, под шеломами взлелеянных, с конца копья вскормленных, – двое юных, молодших, позабыв о вековой родовой усобице Ольговичей и Монамашичей, ничего не помня, кроме незабвенного своего отечества, уже сломили было поганых, опрокинули и уже досягали победу!
Уже дала тыл и отборнейшая тысяча Чингиз-хана на серых конях.
Еще, еще бы давнуть – и не увидел бы «Потрясатель вселенной» ни Субедея своего, ни своих лучших, отборнейших туменов!
Но как же это мог Мстислав Киевский двинуть рвавшихся в битву киевлян своих: а вдруг Мстислав Галицкий – выручи его – возьмет да одному себе и присвоит победу?
…Даниил стиснул зубы.
Ныла калкская рана – от зазубренного татарского копья, разодравшего грудную мышцу, – рана витязей, рана доблестная, но – увы! – пораженья, а не победы!..
Даниил Романович ровно пять лет не был в Киеве. В последний раз примчался он в Киев поздней осенью тысяча двести сорокового вместе с лучшим, старым полководцем отца своего – Дмитром-тысяцким и с полком отменных бойцов – волынян и карпаторусов.
Уже ведомо было в ту пору, что разрушен Чернигов, что черниговские бежали в Польшу, что Киев, которым обладал в то время князь Михаил, оставлен сирым, безглавым.
Прослышав, что Киев без князя, самочинно приспел туда, на поживу, недалекий и немощный Ростислав Мстиславич Смоленский, думая покорством поладить с татарами, а затем на весь век свой засесть на Киевском золотом столе.
Даниил тогда вышвырнул его прочь и поставил в Киеве Дмитра – да утвердит город!
Сам же, возвратясь на Галичину, дал наказ брату Васильку, воеводам и зодчему и розмыслу своему Авдею завершать всеми силами укрепленья, в первую голову Кременца, Холма, Колодяжна, и немедленно с печатедержцем Кирилом отбыл к Бэле IV в Пешт, за Карпаты, дабы призвать его к прекращенью вражды, к союзу против Батыя.
Сперва переговоры протекали успешно.
Однако, едва до венгерского короля дошла весть о бегстве Черниговских и о дальнейшем движенье Батыя к западу, как былой товарищ игр детских и союзник детских боев, король венгерский, стал кичлив и враждебен.
Он потребовал вдруг, чтобы титул «рэкс Галициэ эт Лодомириэ»[17], своевольно, самостремительно измышленный отцом его, Андреем II, – титул, от которого тот сам же навек отказался, – чтобы сей титул теперь признан был Даниилом.
И Даниил понял тогда, что этот высокий, смуглый, тощий, длинноволосый маньяк с порывистыми жестами, то подолгу хранивший молчанье, то вдруг часами предававшийся напыщенному велеречию, мнивший себя великим политиком-полководцем, – сей Бэла только того и ждет, чтобы татары вступили в Галичину и Волынь, дабы с ними одновременно вторгнуться с запада.
Этого все же не ожидал от него Даниил! Неужели не видит сей человек, что творит?
Уже было известно князю Галицкому, сколь сильно страх перед татарским вторжением схлынул тогда всю Европу, – настолько сильно, что даже и у берегов Британии прервался лов сельди.
А император Германии – Гогенштауфен Фридрих – рассылал по всем князьям и государям Европы напыщенные воззвания:
«Время восстать ото сна, открыть глаза духовные и телесные: вот уже секира лежит при дереве, и по всему свету идет молва о врагах, которые грозят гибелью всему христианскому миру. До сих пор мы полагали опасность далекою, ибо столько храбрых народов и князей стояло между этим врагом и нами».
«Нет! – подумалось князю Галицкому, когда канцлер принес ему это воззвание Гогенштауфена. – Князей-то, быть может, и много, а народ, заградивший вас от Батыя, – только один!.. И не грамотами, не буллами! – конницы, конницы доброй надо – тысяч сто, а и более!.. Ведь вся Азия на коне!..»
– …Чего же ты хочешь, Бэла? – усмехнувшись, сказал тогда Даниил старому «приятелю» своему. – Или хочешь, чтобы татарского страха ради я сделался вассалом твоим?..
Король венгерский молчал.
И тогда вспыхнула кровь Романа, кровь Изяслава.
– За двумя хребтами скрываетесь! – крикнул князь. – За Карпатским и – народа русского!
И стукнул кулаком по столу.
– А вспомни же, Бэла! – уж ежели русский хребет сломают татары, то за этим не отсидитесь!
И покинул дворец.
Пустоша Червонную Русь, прогрохотала копытами, прокатилась по ней вся Азия – от Аргуни и Каракорума.
Однако Кременца и Холма не смог взять Батый и, обтекая сильнейшие крепости Данииловы, двинулся на Венгрию, на Германию, через Польшу.
За рекою Солоной, притоком Тиссы, разбиты были мадьяры, кичившиеся издревле своею конницею, да и не зря, ибо испокон веку, вечно сидели на своих крепких и легких лошадях, на них ели, пили, спали, торговали, совещались, не расставаясь до гроба и со своими длинными саблями. Этот гордый, смелый и дерзко-кичливый народ выслал против Батыя и Субедея стотысячное конное войско. И оно почти сплошь было уничтожено. По всей Венгрии тогда будто прокатился исполинский, многоверстный, докрасна раскаленный каток: пустыня и пеплы!..
Король Бэла бежал с поля битвы – сперва в Австрию. Но здесь герцог Фридрих Сварливый, Бабенберг отнял у короля Бэлы все его золото и вынудил отдать ему, Фридриху, богатейшие, плодороднейшие венгерские области.
А Субедей между тем приближался.
Король венгерский кинулся от него в Сербию, в Хорватию, в Далмацию.
Татары шли по пятам.
И хорваты спрятали венгро-хорватского короля на одном из Кварнерских островов.
И собрали войско сербы и хорваты – одни! – и на берегах Лазурного моря, близ Реки – италийцы же называют ее Фиумэ, – опрокинули Субедея, поразили и обратили его в бегство.
А на севере, в Чехии, чешский рыцарь и воевода Ярослав из Штаренберга разгромил другого знаменитого полководца татарского, Пэту, и взятый чехами в плен прославленный полководец Батыя оказался… рыцарем-крестоносцем, родом из Лондона!
И тогда, страшась тяготевших над тылами татарскими неодоленных крепостей Даниила, стоя уже у ворот Вены, Венеции и у сердца Германии, Батый заоглядывался вдруг на тылы, затосковал и стал вспоминать Золотую орду, Волгу…
Однако – неистовый полководец Чингиз-хана, суровый пестун внука его Батыя – Субедей противился тому отступлению всячески, противился долго, страшась бесчестия. Наконец дал приказ покидать Венгрию и Германию, но как можно медлительнее, да и то когда стало известно о смерти великого хана и о начавшейся за Байкалом смуте.
«София… Печерская обитель… Михайловский златоверхий… Выдубецкий монастырь», – опознавал Даниил. Но тщетно отыскивал князь высокие, толстые, тесаного камня, белые стены, окружавшие весь верхний город: нету их – сметены! – и, слышно было, перепаханы по приказу Батыя…
Лишь сереет бревенчатый утлый забор, местами двойной, с земляным засыпом. А вкруг Подола – и просто-напросто плохонький тын: от забеглого зверя больше, от вора ночного, не от врагов.
Не то чтобы не смогли поднять стен вернувшиеся на пепелище после Батыя обитатели двухсот уцелевших домов: пришли бы и помогли белгородцы, звенигородцы и вышгородцы, – только не велено возводить стены: баскак не велит, хан Куремса, наместник Батыя над югом.
А и что стены? Истинною стеною Киева в те неописуемые дни ноября было ужаснувшее и самого Батыя, и Куюка, и Бурундай-Багадура бестрепетное мужество киевлян!
От скрипа телег, от ржанья конского, от рева верблюдов не стало слышно в Киеве голоса человеческого.
Там, где возле Ляшских ворот к самому городу подступили дебри, тут поставил Батый стеноломы и камнеметы.
Били непрестанно – денно и нощно. Выломили стену, и тогда ринулися в пролом – тьмы и тьмы!
Киевляне же, галичане, волынцы приняли тут их в топоры.
До Белгорода досягали крики, стоны, лязг, страшный лом копейный, и щитов гул, звон и щепанье.
Стрелы помрачали свет.
Твердыня живых камней, сплоченных волею Дмитра, стала крепче земного каменья. Ни на пядь не откачнулись из пролома ни те, ни другие и как бы недвижно стояли в проломе день и ночь. Вровень со стенами поднялась гора убитых.
А горожане и дружинники Дмитра за ночь создали другой город – вкруг Десятинной церкви.
Сбитый со стен, сюда отступил Дмитр с киевлянами, с галичанами и волынцами своими. Здесь в последней уже, душной свалке резались на ножах, руками душили друг друга. Женщины же, дети и немощные взошли на крышу церковную и на своды.
Как злато-белый утес, захлестываемый черным потопом, стояла облепленная народом Десятинная церковь, и не выдержали тяжести своды – рухнули, завалились…
…Однако до чего же дошло! Он, Даниил, сын Романа Великого и недавно сам еще повелитель Киева, Галича и Волыни, едет, беззащитный, предать себя в руки тех, чьей пятой здесь, вот на этих издревле святых холмах, раздавлены выброшенные из гробниц черепа Ольги, Владимира Великого, Владимира Мономаха!..
Даниил содрогнулся…
Князь Галицкий по приезде в Киев не захотел остановиться на Ярославлем подворье: ему тяжело было проезжим путником являться там, где и отец его и сам он были полновластными владыками.
Ныне же в Киеве сидел боярин Ейкович Дмитр, посадник Ярослава, великого князя Суздальского.
Не захотел заехать князь и в Печерскую обитель: разоренная, полуразрушенная, оскверненная лавра как раз в силу прежнего величия своего и пространства должна была предстать очам его в сугубо прискорбном виде. Ибо что могли поделать к восстановлению ее полтора-два десятка уцелевших и возвратившихся монахов?
Бродом перейдя речку Лыбедь, всадники повернули к Выдубецкому Михаила-архистратига монастырю, стоявшему на обрыве Днепра.
Невелик был дом тот, архистратига! Но, выстроенный еще отцом Владимира Мономаха, он стал как бы семейным монастырем для всех Мономашичей. Издревле был возлюблен и отцом Даниила, и всеми дедами его, прославленными своею щедростью.
По прибытии в монастырь Даниил Романович первым делом прошел для совета к прославленному своей мудростью и чистотою жизни старцу Иринарху.
Иринарх, дав благословение князю, долго беседовал с ним. А отпуская его, сказал:
– Сын мой! Знаю: тебе, властелину великому и стратигу победоносному, трудно и зазорно склонити выю свою перед нечестивыми и неистовыми, гордынею и злобою пышущими агаряны! Но ведаешь сам: ныне Земля Русская в недуге великом! То – для нее!..
В тот же день к Даниилу приехал Ейкович, наместник Ярослава Суздальского. Боярин горько сетовал и пенял, что князь Галицкий не у него остановился, пренебрег его кровом.
Даниилу Романовичу великих трудов стоило успокоить его.
– Ино ладно: с домом архистратиговым не спорить! – молвил успокоенный посадник. – Побегу лошадей для тя, князь, готовить. И все прочее… Конь тут надобен ихний – татарский, степной, – милее всего!..
Провожая Даниила, Ейкович напутствовал его подробными сведеньями о всех батырях и ханах близ кочевавших орд.
Уже в Переславле, былой отчине Мономаха, его излюбленном городе, сидел наместник наместника Батыева – хана Куремсы…
– Данило Романович! – молвил, прощаясь, Ейкович. – А как да и Киев тебе поручит Батый? И то добро бы! – вся бы Земля Русска возрадовалась… Ярослав Всеволодович – худого не скажешь! – хозяин добрый, мудрый, рачителен… а все же Суздаль-то – дальняя сторонка!.. Рукою оттуда Киева не досягнешь, оком не обоймешь!..
Даниил нахмурился.
– Я не про то к Батыю поехал, чтобы Киева под братом своим искать! – сурово отмолвил он. И оробевший боярин стал просить «покрыть милостью» неразумные слова его.
Из монастыря Даниил отплыл в ладье.
Супился и тяжело, пахмурно дышал Днепр Словутич! По реке развело барашки. А когда пришлось огибать остров, то заверти и сувои чуть не опрокинули лодку. Большая, на сорок человек, ладья заплясала, точно щепа в кипящем котле. Волны с накату шлепали и колотили в борта…
«Точно воротить хочет!» – кутаясь в плащ, подумал князь Галицкий.
Гребцы изо всей силы отваливались назад, крепко упираясь ногами в донные дуги ладьи.
Остальные спутники князя, а также лошади их – поводные и вьючные – переправлялись на пароме, под наблюдением Андрея-дворского.
Киевляне, столпившиеся на яру, близ перевоза, переговаривались между собою:
– А что-то мало у галицких с собою коней-то под вьюками! А ведь в Орду едут, в немилостивую: Орда – она подарок любит!
Начиная с Переславля ехали уже силою ханской пайцзы, а также и подорожной, которую от имени самого Батыя выдал Даниилу Романовичу переславский баскак.
«Силою вечного неба. Покровительством великого могущества. Если кто не будет относиться с благоговением к сему указу Бату-хана, тот потерпит ущерб и умрет!»
Так стояло в начале грамоты. Далее же всем ямским станам, лежащим в пределах, досягаемых Куремсою, всем селам русским и всем татарским аилам предписывалось давать князю Галицкому потребное число лошадей и, если нужно, охрану.
Переславль – золотое оплечье Киева! Страж Земли Русской, заградившей злому Полю ворота, просторы, где богатыри полегли русские, – их же именует народ: люди божий, хоробры.
Демьян Куденевич – юный боярин переславский и витязь.
И вспомнилось Даниилу…
Когда скитались и мыкались они после смерти отца – то с матерью овдовевшей, то с дядькою Мирославом по чужим землям, спасаясь от врагов, завладевших Галичем, – пришлось одно время ютиться сиротски при дворе короля венгерского Андрея.
И вот, беседуя с Бэлой, почти сверстником, любили они, русский княжич и королевич мадьярский, считаться и мериться богатырями.
Королевич – тот и чужих рыцарей брал: Гаральда, что задушил льва, Роланда-франка и только третьего выставлял своего, мадьярина, Денеша-палатина[18].
И Даниил разрешал ему это – пусть! – а у него зато все свои: Святослав, Иван Усмошвец…
– А ты вот что скажи Бэле твоему, – наставлял воспитанника своего Мирослав, – граф Роланд тот, мол, не то был, не то не был – про то неизвестно толком. А про Гаральда Норвежского и сказок немало приложено! К нам же ведь в Киев бежал Гаральд сей, у твоего же прадеда обретался в войске, а ничего про то ни в каких повестях не написано, чтобы одними руками льва мог задушить! Ну а, мол, Денеш мадьярский – тот хотя и сильный был витязь, а греки – те завсегда бивали его… А ты ему нашего Демьяна Куденевича помяни, переславского! Этот на памятех жил: твоего деда был ратоборец, Мстислава Изяславича, царство ему небесное!.. В одно время с Денешем ихним ратоборствовали… но куда ему, мадьярскому-то, до нашего!..
И воевода-наставник рассказывал питомцу про Демьяна Куденевича переславского.
Был тот боярин переславский силы непомерной, буести неукротимой. Один, со слугою, с Тарасом, да с пятью отроками, не страшась, выходил на целое войско, а и побеждал!
– Однова, Данилушко, – рассказывал мальчику старый воевода, – деда твоего, Мстислава Изяславича, как-то врасплох враги застали: Глеб Суздальский, Юрьич, крестного целованья своего соступя, половцев навел на Переславль… Ладно… Дед твой – к Демьяну Куденевичу: «Человек божий! – так говорит ему. – Ну, пришло время божьей помощи, а твоего – мужества-крепости!..»
Демьян же… у него норов был чудной какой-то, но про то не нам судить! Находила смертная тоска на него. Другие юноши на пирах с приятелями веселятся – и гуслями, и трубами, и сопелями, и скоморохами, а он, Куденевич, один в шатры свои златоверхие за город уходит, и чтобы, кроме Тараса-слуги, ни одна живая душа к нему подступиться не смей!.. И сидит недвижимо у входа в шатер, и смотрит в Поле, с жадностью смотрит: не пошлет ли господь супротивничка?..
А тут сам князь, дедушка твой, прискакал: даже конь под ним шатается! «Спаси, говорит, выручи!» Демьяну же только того и надо: поклонился деду твоему молча и без доспеха безо всякого, в чем был, взвергся на коня своего – и на половцев! Слуга – за ним: «Господине! Кольчугу, кольчугу надень!» Где там! Налетел, гикнул – давай пластать!.. И ведь не устояли… побегли! Сколько их там было числом – того не знаю. А не мало, надо полагать, коли войско целое!.. Побил их несметное множество! Тут суздальский князь испугался, шлет послов до него: «Уймись, божий человек, уймись! Я приходил на любовь и на мир, а не на рать!..»
Однако, отбежав от города, да сызнова половцы собралися, – еще один загон на помощь к ним подошел. И опять подступили. Обозлили тогда они Куденевича донельзя! Вымчался, но опять же на прежний образ: в одной сорочке только. Даже и слуга на сей раз не поспел за ним, ни отроки!.. Одна с ним неразлучная сабля!
Порубал – не счесть сколько – один-одинешенек!.. Ударилися половчане бежать… Но и самого исстреляли стрелами во многих местах. И одна большая стрела ударила в пазуху, а только что за малым не дошла до сердца! Изошел витязь кровью и в изнеможенье смертном вернулся в Переславль – проститься чтобы успеть с матерью… и возлег на одр…
Тогда князь Мстислав Изяславич сам, и с бояры со всеми, пришел к смертному одру его, и даров принес много, и волости обещал дать многие. Но хоробр тот, человек божий, Демьян Куденевич ответил князю: «О суета человеческая! Кто, будучи мертв, возжелает даров тленных и власти?!»
И с тем словом закрыл бестрепетные очи свои!.. И великий плач стал во всем Переславле!..
«Да, все это было…» – думалось теперь князю. А ныне он, Даниил, внук того самого Мстислава, которому служил Куденевич на этих самых полях, – он, сын Романа Великого, едет обезлюдевшею Переславскою Украиною[19] только силою татарской пайцзы, – едет на поклон к хану, в гнездовище его на русской Реке!
Любой, рыгающий кумысом и кониной, скуластый, щелоглазый варвар, в расшитой шубе, которая лоснится от жира неопрятно едомой пищи, может, вымогая подарок, сутками заставлять его – великого князя русского! – ждать сменных лошадей…
И сколько раз, проезжая русскими похилившимися селами, замечал Даниил, как с глубоко ушедшей в душу ненавистью, скорбью, недоуменьем провожают его своими взорами согбенные непосильным трудом и татарщиною поселяне…
О Русская Земля!
И сильно начал скорбеть душою! Муторно, тошно было смотреть князю и дружине его на верченье и кудесничество шаманов татарских перед кострами и кошомными идолами. Нелепо и отвратно кривлялись и пялились, точно злая корча их била, и прорицали, с пеной у рта, разными голосами, как бесноватые, и петухом пели, и квохтали курою, и лаяли, и подвывали. И несуразно, невемо зачем, увешаны были, будто ряженые или скоморохи, всякими погремушками, и лоскутками, и звериным зубьем.
Диканились богомерзко и непотребно – и где же? – на отчине Владимира Мономаха!
Увидел скверное их кровопитье татарское – прямо ртом припадали к вспоротой жиле лошадиной!
Увидел многие их волшбы и насилие татарское над народом – и воскорбел душою!
Миновали непроходимые дебри северной стороны княжества, где когда-то дивий бык – тур метал, с конем вместе, могучего, ярого охотника, прадеда его, Мономаха; кончились ель, сосна, дубы, клен и ольха; и чем ближе к Ворскле, тем все редее, прозористее, жиже становился лесок.
А за Ворсклою, к востоку, стали чаще встречаться небольшие березовые острова, потом и береза сошла на нет, и открылась бескрайняя, нетореная, бугристая и уже темная от ненастья степь.
Лил студеный, тяжелый проливень. Небо заволокло. Точно и оно превратилось в кошму татарской юрты.
Крепкогрудые лошади с трудом продирали грудью свалявшиеся, перепутавшиеся, взмокшие травы, достававшие до колен всадника.
Думалось, и конца не будет этому мороку и дождю. Но вдруг прояснело, и ударил мороз, и степь вся оледенела.
Звенел и хрупал под копытами лед. Сверкала на солнце степь. Примкнувшие друг к другу высоченные космы трав, схваченные морозом, стояли, будто оледенелое войско.
Держали путь от кургана к кургану. Было их много. На иных сидели тяжелые степные орлы и казались мреявшими издалека стогами…
Тоскливо курлыкали запоздалые вереницы журавлей.
Мчалась, закинув рога, сайга. На половину перестрела подбегали дикие, лишь немногими из смертных взнузданные когда-либо степные кони.
На иных курганах высились видимые издалека, полуторасаженные каменные истуканы…
Андрей-дворский давно уже с болью сердца посматривал на погруженного в тягостное раздумье князя.
Чтобы отвлечь его немного от дум, он подъехал к нему и в пути запросто заговорил.
– А что, Данило Романович, – спросил он, показывая нагайкою в сторону каменной бабы, мимо которой они как раз проезжали, – давно думал узнать от тебя: эти каменны девки, слепоокие, – кто же их тут понатыкал?..
Даниил рассмеялся. Это и впрямь отвлекло его. Всматриваясь в серое, из дикого камня, изваяние, он ответил:
– Того кому знать, Андрей Иваныч! Многие народы, неисчислимые, тут проходили: и скифы, и гунны, и киммерийцы… прочих же имена один Господь ведает… альбо – и наши предки с тобою: анты, о них же Маврикий-стратиг пишет, да и Прокопий тоже… А про сии холмы пишут, якобы то похоронение богатырей…
– Анты, Данило Романыч, – то чей же будет народ? – какого князя… али царя? – спросил опять дворский.
– Царя не имели… но жили в демократии, общими людьми обладаемы, старейшинами, – отвечал князь.
Дворский, слушая, кивал головою и слегка поглаживал узкую бороду рукой, одетой в кожаную перчатку.
Он довольнешенек был, что удалось разговорить князя.
Солнце закатывалось. Дул северный ветер. На западе высилось и пылало багровое, чешуйчатое, будто киноварью окрашенные черепицы, огромное облако.
Дворский поежился и сказал:
– Студено будет. И буря. Данило Романович, не остудися! Я уж возок велел приготовить!..
Был лют и зол путь! По всему югу та зима долго была голоснежная. Морозы же стояли нестерпимые: кони с трудом дышали от стужи. То и дело дворский приказывал проминать лошадям ноздри, из которых торчали седые от стужи кустики шерсти.
А то вдруг отпускало – и тогда подымалось вдруг невесть что: не то снег, не то дождь, то вялица, то метелица – не видели ни дня, ни ночи!
Потом сызнова прихватывало.
– Ух, – отдирая ледяшки с бороды и усов, бормотал дворский, – до чего не люб путь! А и недаром сей Декамврий Грудень именуется! Гляди, какие грудки настыли! Колоткая дорога: ни тебе верхом – конь ногу засекает! Ни тебе на полозу: лошадям тянуть невмочь – бесснежье! Ни тебе на колесах: колотко, тряско! Хоть возы с продовольствием да с дровами покинь, так в ту же пору!..
Он разводил руками, бранился и, взяв бородку в кулак, задумывался. И уж что-нибудь да придумывал!
Перепрягал коней, одних на место других, подпрягал новых, поотгружал возы на сумных лошадей, в торока, – и двигались дальше.
Лютая стужа лубянила не токмо одежду, а и сыромятные ремни гужвиц.
Местами на бесснежной, застылой, точно камень, земле рвались от небывалой тяги добротные сыромятные завертки оглобель, распрягались кони.
Поезд останавливался.
…Было в пути немало препон. Наконец же в пределах Дона, где простерлось обиталище и кочевье зятя Батыева, Картана, женатого на сестре самого хана, вдруг сильно подснежило и повалил снег, так что коням стало по чрево.
Однако не спадал и мороз.
Хорошо, что Андрей с последнего лесного селенья тянул за собою пять возов сухих плашек и дров, – было чем отогреться людям, когда разбивали иной раз стан свой прямо в степи, на снегу обставясь возами.
Вез дворский и добрый запас берестяных факелов-свеч – на темные ночки.
Князь руководствовал путь почти напрямик: от Переславля – сперва на излучину Волги, туда, где ближе всего она подошла к Дону, а там уже – к югу, где на восточном берегу Волги раскинулася столица Батыевой Золотой орды, а по существу – и столица полумира, – пусть варварская, – великий город Сарай…
…Стояла ясная, звездная и лунная ночь. Оба они с князем ехали верхом. Слышно было, как взвизгивал под полозьями, рвался под копытами конскими крепкий снег.
Далеко различить было в лунном свете залубеневшие от мороза снежные заструги сугробов и острые лунные тени от них.
Даниил поднял очи свои к звездному небу.
Млечный Путь… молоко Геры-богини… А они, татары, Дорогою Батыя посмели назвать эту звездную россыпь!.. Помнит он этот путь Батыя – из Берестья нельзя было выйти в поле по причине смрада множества тел убиенных…
Едва на исходе января преодолели жестокий тот и немилостивый путь – более чем двухтысячеверстный – и, перебив поперек погребенную под сугробами Кипчакскую степь и перейдя по льду на тот берег Волги, вступили наконец в столицу Батыевой Золотой орды.
Да и золотым наименовать было этот огромный и богатейший город с двумястами тысяч разноязычного населения – и владычествующего, монголо-татарского, и насильно согнанного татарами со всех концов мира, и с товаром, с гостьбою пришедшего! Это была поистине сокровищница бездонная, непрерывно наполняемая двоенным грабежом и торговлей, – сокровищница не только чужого золота, серебра, хлеба, труда, чужих достояний, но и обломков чужой, великой культуры, награбленных на Востоке и Западе и сваленных без разбору, в диком, но своеобразном беспорядке, в бездонную кладовую забайкальского хищника, угнездившегося на Волге.
Государственная мудрость и наука всенародного и хозяйственного учета из Небесной империи. Оттуда же, из Китая, и премудрость книжная, да и самая грамота – квадратообразный алфавит Пакбаламы; китайская многошумная музыка с ее пятнадцатью разновидностями одного только барабана, с тамтамом и с гонгом, с флейтою – ди, и шеном – полуфлейтой-полуорганом, с гуслями – цинь.
Но оттуда же, из Китая, и неслыханное еще в Европе многообразное оружие, вырванное Чингизом из заплывших жиром, изнеженных рук выродившихся императоров китайских и сановников их; и порох, которым через подкоп рушили крепчайшие крепостные стены; и невиданный еще в Западной Европе дальнобойный огнемет, кидающий на осажденных пылающую нефть накала столь нестерпимого, что мгновенно вспыхивали даже волглые, непрестанно поливаемые водою воловьи шкуры, которыми осажденные покрывали свои дома, – и вдруг занималась крыша и все строение, так что уже ничем нельзя было потушить.
И многое, многое другое.
Причудливо перемешиваясь друг с другом, громоздились в духовном хаосе здесь и многоразличные чужие веры.
Сакья-Муни – Будда, Лао Цзы, Конфуций – наряду с коренным дикарским беснованием и якутских и тангутских шаманов, забравших неимоверную власть в Орде. Эта власть, правда, была уже на исходе, ибо Магомет, к вере которого склонился брат великого хана, хан Берке, уже все более простирал над Ордою власть свою.
Но и Христос пребывал в Орде.
Не только молитвенные дома христианских еретиков – богумилов стояли в столице Поволжского улуса, но уже и русские злосчастные пленники, среди подъяремного, каторжного труда, под бичами надсмотрщиков, падавшие от голода, испросили через византийских единоверных греков-купцов разрешение у хана и ночным сверхтрудом, подвигом рук своих воздвигли в Золотой орде несколько русских церквей. Приношениями помогали им в том владимиро-суздальские князья: старый князь Ярослав Всеволодич, сын его Александр Невский, что княжил в Новгороде, и другой сын – Андрей Ярославич Суздальский.
А со времени похода на Польшу вознесся на азиатском берегу Волги и островерхий, весь точно стрела духа человеческого, устремленная к небу, римско-католический костел.
И самое зодчество было здесь не свое, все чужое и хаотически перемешанное.
Объемный византийско-индийский купол соседствовал тут с мавританской, витиеватой, но и волшебно легкою аркою.
Иные же зданья покоились – угрюмо-торжественные – на тяжелых, многогранных, разлатых ассиро-вавилонских или же египетских колоннадах, ибо не только монголы, но и Рим, и Византия, и Россия, и родина Руставели, и Египет, и Сирия, и Палестина, оба Ирака, Иран, турки-сельджуки, и уроженцы Парижа, и немцы, и готовые ради корысти и прибыли пройти через все девять кругов ада генуэзцы и венециане, да, наконец, и обитатели острова Британийского – ингляне, уроженцы Лондона и Оксфорда, – в шумном и разноязычном толповращенье сталкивались на широких улицах Сарая.
Одних когда-то влачил сюда жесткий волосяной аркан монгольского всадника, других – не менее прочный и мучительный аркан любостяжания и наживы.
Кварталы чужеземных купцов – каждая народность особо – окружены были стенами, верх которых был усыпан битым стеклом.
Ремесленники пленные – кузнецы, оружейники, кожевники, древоделы, каменотесы, гончары, ткачи и шерстобиты – жили также раздельно, однако не по народности, а по цехам: хозяин Поволжского улуса приказал расселять их, всячески перемешивая одну народность с другой.
Дворцы – и самого Батыя, и ханов, и многих беков – строены были из камня. Однако обитали в них только зимой, да и то отопляя не более двух-трех покоев, ибо тяжело было добывать столько дров. С наступлением же первых ден весны, по первым проталинам, и уже до начала зимы столица Золотого улуса выкочевывала в степь.
И тогда по обе стороны Волги раскидывался необозримый город огромных юрт, и кибиток, и двухколых повозок, город кошмы, город войлока, натянутого на решетчатый деревянный остов, город, окруженный неисчислимыми ржущими, мычащими, блеющими стадами и табунами. Он был столь необозримо велик, что большие юрты с деревянной вышки, стоявшей возле шатра Батыя, показывались точно тюбетейки, расставленные на зеленом ковре.
Такому городу, несмотря на его двухсоттысячное население, потребно было не более часа, дабы вскинуться на коней, на колеса и ринуться, куда повелит владыка, увлекая вслед за собою подвластных и покоренных, топча, сметая, опустошая все, посмевшее воспротивиться.
В спешном строительстве города дикий камень Волги и рыхлый песчаник ее берегов приводил в бешенство наемных архитекторов из Египта и Византии, в отчаяние, в трепет за свою жизнь архитекторов пленных – из Хорезма и русских.
И кто-то из них подсказал Батыю чудовищную мысль – разобрать мечети и дворцы Хорезма и Самарканда и весь тесаный камень, плиты, изразцы, даже целые куски стен переправить на Волгу, для строительства и украшения Сарая.
Батый повелел…
А из Югры, из Страны Мрака, вниз по Каме, на огромных ладьях – насадах – шли к Батыю, а после к Берке, граниты Северного Урала и многоличный дорогой камень.
Мраморы же волокли из Крыма – морем Сурожским, и далее – вверх по Дону, а там уже – на волах.
Десятое от всего – десятый воин, десятая девушка, десятое от стад и десятый конь каждой масти, десятину от жатвы и от прочего достояния покоренных и повоеванных – отымала Орда.
И скакали баскаки и численники татарские, исчисляя и взимая дань-выход и с плуга, и с дыма, и тамгу со всего продаваемого и устанавливая ямские станы от Днепра до Китайского моря и Каракорума.
Только чернцов, попов да игумнов не исчисляли. «С них, – так гласили ханские грамоты, – не надобе нам ни дань, ни тамга, ни поплужное, ни ям, ни подводы, ни воин, ни корм. Но пусть молятся за нас богу своему без вражды, с правым сердцем».
Не страшившиеся никого на земле – от океана до океана, – татарские ханы и сам великий хан татарский боялись затронуть богов даже и побежденного племени и народа.
И едва ли не всех богов забирали в свою божницу.
Итак, для монголов произрастали посеянные на Волыни и на Киевщине хлеба. Для Орды в лесах Севера гнездился соболь и горностай. Для нее гремели, со всею мощностью, шерстобитни и сукновальни Фландрии, превращая в драгоценное сукно корнваллийскую шерсть – наитончайшее руно с пастбищ Йоркшира и Бостона.
Для Орды трудился и червь шелковичный в Китае и шумели ткацкие станы дамасских и византийских шелкопрядилен, изготовлявших пурпуры и виссоны царских багряниц. Для нее, долгорукой и ненасытной, отягощались плодами своими в оазисах Африки и Аравии и финикийская пальма, и древо банана.
Для стола хозяев Поволжского улуса, из Индийского царства, откуп – дань – доставлялся бережно, с неслыханным тщанием: за сохранность сладчайшего груза головою отвечал караван-баши! – амврозии равный плод, услада языка, рай гортани, – плод, именуемый «манго».
Для Орды – для нее – рдели винограды Лангедока, Шампани, Венгрии и Тавриды и точился в точилах сок, и столетьями созревали и янтарели нектару подобные вина и в боярских, и в княжеских, и в королевских, и в панских подвалах и погребах.
Для монголов – ленивых на все, кроме битвы, – текли изобильные рыбою реки. Для Орды струилося вымя в тучных неисчислимых стадах на пастбищах покоренных народов.
Все – чужое, награбленное, нахищенное!.. А что же было свое?
Свое, татарское, было многовековое родовое сцепленье кочевых забайкальских орд под властью князьков и старейшин – табунодержцев и скотоводов. Свой был кумыс, овечья и верблюжья шерсть, шаманы, заунывная песня, домбра, стрелы и луки и бескрайние пастбища. И если чего и недоставало всем этим бесчисленным князькам и старейшинам, так это чтобы весь мир превратился в одно беспредельное пастбище. А уж если где невозможно пасти татарские табуны, стада и отары – там чтобы обитали одни только данники и рабы. Но сперва надо было, чтобы в этих бескрайних степях распыленные, едва слыхавшие о существовании друг друга, бесчисленные племенные комочки были сбиты кровавым пестом в одно чудовищное государственное образование!
Свое, татарское, был гений монгола Темучжина, наименованного потом – Чингиз-хан, – гений военный и государственный, – Темучжина – вожака разбойничьей шайки на притоках Амура, Темучжина, который к возрасту мужа уже с полным правом именовался «Потрясатель вселенной».
Человек этот – дед хана Батыя – поклялся, еще за Байкалом, перед лицом всех первых своих сподвижников:
– Народ, который среди всевозможных опасностей сопровождал своей преданностью каждое мое движение, я хочу возвысить над всем, что движется на земле.
И эту клятву исполнил!
Своя была у монголов неразрывная кровавая круговая порука, пронизывающая всю Орду: от великого хана – императора через ханов, нойонов, батырей до последнего рядового добытчика.
Страшная круговая порука подданных и повелителя с первобытной и дикой силой, свойственной кочевым ордам, племенам-скотоводам, изъявлялась при избрании хана в императоры всех монголо-татарских улусов и стойбищ, где бы ни кочевали, где бы ни располагались они.
Хана с его женою, его старшею хатунью, сажали на войлок. Клали перед ним саблю и говорили:
– Мы хотим, просим и приказываем, чтобы ты владел всеми нами!
– Если вы хотите, – отвечал хан, – чтобы я владел вами, то готов ли каждый из вас исполнить то, что я ему прикажу, приходить, когда позову, идти, куда пошлю, убивать, кого велю?
– Готовы!
– Если так, то впредь слово уст моих да будет мечом моим!
Вельможи и воины говорили:
– Возведи очи свои к небу и познай бога. Затем обрати их на войлок, на коем сидишь. Если ты будешь хорошо править государством, если будешь щедр, если водворишь правосудие и будешь чтить вельмож своих по достоинству, то весь свет покорится твоей воле и бог даст тебе все, чего только сердце твое пожелает. Если станешь делать противное, то будешь злосчастен и отвержен и столь нищ, что не будет у тебя и войлока, на котором сидишь.
Сказав это, они подымали на войлоке хана и ханшу и торжественно провозглашали их императором и императрицей всех татар, всех монголов.
Своей была – неслыханная для европейцев – лютая дисциплина, покоившаяся и в самой битве на той же круговой монгольской поруке.
За одного оказавшегося в десятке труса убивали весь десяток. Если десяток не выручал своего, попавшего в плен, убивали весь десяток.
Если с поля битвы бежала сотня, расстреливали из нее каждого десятого.
Нахмуренная бровь десятника – ун-агаси – где уж там хана! – была для воина страшнее смерти, ибо сплошь и рядом это и означало смерть, но только не доблестную, а позорную.
Потерявшего армию полководца одевали в женское платье и предавали глумленью. А затем багадур, коему еще недавно беспрекословно повиновались десятки туменов, сотни тысяч волчьих сердец, покорно склонял свою шею для шнурка посланного ханом давителя, хотя бы это был простой овчар…
Однако по другую сторону воина, в подспорье к простой, но и страшной системе кар и взысканий, высилась простая же в своем основанье – грабеж и дележ, – но многосложная система наград и поощрений.
Сотников, кто отличался, хан делал тысячниками, одарял их серебряною посудою, множеством коней, рабами, рабынями, отдавал им дочерей и жен побежденных. Тысячников же делал темниками и награждал их в десятикратном размере против первых. Сотник имел серебряную дощечку-пайцзу, тысячник – вызолоченную, темник же – золотую, с львиной головой.
Едва только объявлялась война, как букаул – начальник гвардии Батыя, верховный распорядитель двора – тотчас по взятии большого вражьего города прибывал на побоище и, как верховный судья, примирял дерущихся из-за добычи ханов, нойонов, батырей, присуждая одному то, другому другое…
Да еще своя была неисчислимая монгольская лошадь – бойкая, крепконогая, злая, с толстым хвостом, – лошадь, которую не надо было кормить, – напротив, она сама не только несла, подобно черному урагану, полумиллионную орду, но и кормила ее – и молоком своим, и мясом, и живой своей конской кровью – в пустынях, в крайности.
Из-под толщи аршинного снега эта лошадь выбивала копытом прошлогоднюю траву.
У простого воина было не менее двух поводных, сменных лошадей. Ун-агаси имел их десяток, а не возбранялось и более. Начиная же с гус-агаси – сотника – количество лошадей исчислялось уже табунами.
И своею конницей подавляли.
На Западе, в Европе, как гласит древнее монгольское преданье, вождь татаро-монголов нашел трех незаменимых союзников.
Когда Батый перевалил через Карпатский хребет и вторгся во владения короля венгерского Бэлы, то принес жертву демонам, обитавшим в некоем войлочном идоле, которого хан повсюду возил с собой. Хан спросил идола: остановиться ему или двинуться дальше? И демон, обитавший в том идоле, будто бы отвечал: «Ступай смело! Ибо впереди тебя, в станы врагов, я посылаю трех духов, и они уготовают тебе путь. Первый дух – дух раздоров, второй дух – неверия в свои силы, третий – дух страха».
Услышав это предсказание, Батый двинулся в глубь Мадьярии.
А сколь ревностно эти нечистых три и губительных духа служили татарам, то изведали на себе неисчислимые народы земные и государи.
Сам папа римский, «наместник Господа на земле» – Иннокентий IV, «государь государей», смиренно принял мерзкий и глумливый татарский ответ на свое посольство, принял от какого-то второстепенного хана, который единственно тем наглым ответом и сохранил свое имя от забвенья:
«Ведай это ты, папа: слышащий непреложное наше установленье да сидит на собственной земле, воде и отчине, а силу пусть отдает тому, кто сохраняет лицо всей земли… Ты, папа, приходи к нам своею собственною персоною („Tu, papa, propriam personam ad nos venias“) и предстань пред того, кто сохраняет лицо всей земли. Если же ты не придешь, то мы не знаем, что из этого будет, бог весть!.. Повеленье сие посылаем через руки Айбега и Саргиса. Писано месяца июля 20 дня, в области замка Ситиэнса».
Другой посол Иннокентия, из ордена миноритов, Иоанн де Плано-Карпини, прибывший к хозяину Поволжского улуса чуть позднее Даниила, сильно и горько сетовал на обиды и утесненья, коим подвергали его – и у Батыя, и в ставке самого императора, за Байкалом, в Каракоруме.
Заставили преклонить колена не только перед самим Батыем, но и перед битакчи[20], объявлявшим ритуал ханского приема.
Шаманы заставили пройти меж двумя огнями, подгибая головы под ярмом – веревкою, натянутой меж двумя копьями.
«Говорили мы нашу речь, стоя на коленях, а потом подали грамоту Святейшего отца.
Пищи нам не давали никакой, кроме небольшого количества пшена на блюде, да и то лишь в первую ночь нашего приезда».
Так сетовал горько брат Иоанн на монголов. Однако худшее ожидало его, легата «наместника Божия на земле», еще далее – за Байкалом, у императора Куюка.
Не давая аудиенции, его, Иоанна Карпини, и сопутствовавшего ему Бенедикта, доминиканца, протомили более месяца.
«Целый месяц терпели мы такой голод и жажду, что едва могли жить. Ибо запас, даваемый на четыре дни, был явно недостаточен и для одного дня. К счастью, Бог послал нам на помощь одного руса, по имени Кузьма, золотых дел мастера, которого император очень любил. Кузьма показывал нам только что сделанный его руками императорский престол, прежде чем поставили его на место, а также императорскую печать, им же сделанную» – так писал Иоанн де Плано-Карпини.
Русский пленный гравер и резчик по слоновой кости, некий Кузьма, в течение целого месяца содержал на своем иждивении посольство римского папы в Большой орде.
От Батыя, с берегов Волги, королю Франции, Людовику IX Святому, через посла его Рюисбрэка велено было сказать, что ни горы, ни моря не защитят короля франков от десницы Батыя и что когда подойдет очередь короля, то властелин Золотой орды вычерпает шапками своих воинов океан, сроет саблями горы, буде понадобится, а до короля таки доберется.
Однако очередь до Людовика не дошла. Зато с неуклонной неотвратимостью Батый исполнил свою угрозу, собственноручно начертанную им в письме к венгерскому королю:
«Я – Батый, наместник Небесного Царя, который дал мне власть возвысить тех, кто мне покорится, и убивать тех, кто окажет мне сопротивление. Я удивляюсь, что ты, Бэла, такой ничтожный король Венгрии, не ответил ни на одно из тридцати моих посланий.
Я узнал, что ты принял куманов[21], моих рабов. Я приказываю тебе не держать их более в твоем королевстве. Со своими шатрами они еще могут спастись бегством, но ты, у которого имеются дома, дворцы и города, – каким образом ты сможешь скрыться бегством от меня?!»
Бэла IV долго со своими баронами смеялся над этим посланием монгола.
А вскоре золотистого шелка огромный шатер короля венгерского, одного из могущественнейших католических государей, кинутый Бэлою в бегстве, посол Иннокентия Карпини увидел у Батыя на Волге…
Между тем стоило «наместнику Христа на земле» Иннокентию воззвать от всего сердца ко всем католическим народам, и, быть может, тысячи и тысячи честных и бесстрашных людей, по крайней мере из числа славянских народов, обращенных в католичество, ринулись бы подкрепить истекавшую кровью Россию.
Еще ведь и тогда, при Иннокентии IV, страшной силой были крестовые походы в руках Рима!
Однако не было сказано такое слово, не было дано мановенье!..
И вот и светлейшие герцоги и князья, не говоря уже о послах – папских, королевских и прочих, – принуждены были проходить меж двумя кострами, под веревкою, окуриваемые дымом из кадильниц кудесничавших шаманов.
«И мнозии князи Рустии, с бояры своими, идяху сквозь огнь и поклоняхуся солнцу, и огню, и идолам их».
Один Михаила Черниговский отринул это. Тщетно повелевал Батый, тщетно, по его просьбе, Александр Ярославич Невский, принужденный в то время бывать у Батыя и у сына его Сартака, умолял свойственника своего, князя Михаила Всеволодича, не гневить хана и хотя бы пройти меж кострами, ибо, убеждал Александр Ярославич, то не в поклоненье делается, но ради якобы волшебного очищения всех приходящих от злого умысла против хана.
Тщетно!..
Тогда и священник, прибывший с князем Черниговским, присоединился к мольбам, и бояре стали говорить, что если даже сие и в поклоненье творится, то пусть грех его на них ляжет.
Князь не слушал их, и попросил священника причастить его, и стал готовиться к смерти.
И смерть не замедлила!
Разъяренный хан послал на князя палача своего, и тот, будто буйвол, повалил Михаила на землю и, разодрав светлые одежды его, пинками в сердце тяжко обутых ног убил князя… А потом обезглавили…
Пред такого-то человека с часу на час, но, быть может, и через месяц, если вздумают потомить, поглумиться, – ибо целиком был в их власти, – надлежало предстать Даниилу.
3
Протянув на маленький, перламутром выложенный восьмиугольный столик левую, обнаженную по локоть руку – руку могучую и как будто резцом Лизимаха изваянную, Даниил предоставил отделывать жемчужно-розовые миндалины ее ногтей ножничному отроку Феде, а правой рукой перелистывал большую, в кожаном переплете книгу, лежавшую перед ним на откосом и узком стольце, наподобие налоя.
От кожаного переплета, настывшего на морозе, от самых листов пахло еще улицею, снегами и веяло легкой прохладой, и это особенно было приятно в жарко натопленной комнате, о чем не преминул позаботиться Андрей-дворский, едва только успели прибыть.
Кстати молвить, ордынское отопленье – посредством деревянно-глиняных труб, отводящих жаркий воздух из печи вдоль стен, – отопленье это дворский весьма одобрил: «Не худо бы и нам такое, Данило Романович!» – но решительно и гневно воспротивился, когда истопник принес вместо дров целый пестерь верблюжьего кизяка. Дворский счел это за обиду и поношенье, выгнал истопника, пошел сам к векилю – смотрителю караван-сарая, где отведены были им покои, и посулами и угрозами: «Я ведь и до самого хана дойду!» – добился-таки, что навозные кирпичи убрали и привезли дров.
Зато одобрил Андрей Иванович, что стены покоев были почти сплошь увешаны яркими керманшахскими коврами, а также коврами застланы и полы:
– А это добро у них! Лепо!.. Да и с полу не дует… Хоромы нам добрые достались, Данило Романович: прежде нас тут масульманский архиерей стоял – к хану Беркею приезжал: в Мухомедову веру его звать. И хан Берка приклонился! А ведь Батыю – родной брат!.. А и тот што думает? Конечно, всего милее, достойнее – наша вера, православная… Но… – дворский развел руками. – Но я, княже, тако мыслю: хан Батый – стольких земель обладатель!.. И не зазорно ему каким-то тряпишным идолам кланяться? Уж я бы на его месте лутче бы к Мухомеду приклонился… право…
Ковры, изукрашавшие стену, причинили, однако, немало и хлопот дворскому: вместе с Федей, русоголовым, остриженным в кружок, тихим, безответным отроком, он под каждый ковер заглянул, да еще и простукал: «А нету ли где потаенных слуховых продухов?»
– А то ведь, князь, татары – они любят шибко за коврами подслушивать!
– И откуда ты узнать мог? – сказал князь, изумляясь его осведомленности. – В Татарах ты не бывал…
Дворский лукаво прищурился.
– А как же, Данило Романович? – возразил он. – А когда у Куремсы были! Оно, правда, пролетом, проездом, но, однако, в той Орде у меня такой дружок завелся – и не говори!.. Когда бы не будь он из поганых… Я и то ему говорил: «А што, Урдюй, женка-то у тебя, видать, не праздна ходит, на сносех, – когда бы ты веру нашу принял, я бы в кумовья к тебе – с радостью…» Он, этот Урдюй, – толмач: с русского языку на свой перекладывает и обратно… Он многое мне про их норов-обычай порассказал!..
Эти беседы с дворским немало отвлекали князя от суровых раздумий…
Удивлялся было, с какой расторопностью и упорством Андрей-дворский устроил покои, отведенные князю, на тот самый образ и вид, что был привычен ему в Холме!
Первым делом приказал своим слугам и татарским рабам, обслуживавшим жилой этаж караван-сарая, вынести вон различные безделушки из нефрита и бронзы, украшавшие комнату: изображение некоей китайской девки-плясовицы, кумирню с миниатюрными колокольчиками и какого-то лысого, головастого уродца, едущего на быке. О последнем изображении дворский сказал:
– Ну к чему было такую кикимору изваяти? Какое в том человеку утешенье? А, видать, художник делал!..
И прискорбно прищелкнул языком.
Затем внес в комнату привезенный из Руси налоец для книг, свещники, свечи и свечные съемцы-щипцы, и все это, вдвоем с Федей, расположили так, как стояло оно все в рабочей холмской комнате князя.
В переднем углу, на легком кипарисовом кивоте, поставил икону-складень: Деисус и святый Данило Столпник.
Затем, спросясь князя, сбегал за попом в русский конец Сарая, и отслужил тот краткий молебен, и все углы окадил ладаном.
Не менее поражала и забавляла князя и та быстрота, с которой дворский, не знавший татарского языка, вынужденный прибегать то к содействию приставленного к ним толмача, то к добровольным переводчикам из татар, половцев или русских, освоился, однако, в Орде.
Возвращаясь после каждого своего пробега по столице Волжского улуса, дворский и воевода князя Галицкого, словно из большой торбы, высыпал перед ним, улучив подходящее мгновенье, разные разности про Орду. И мелочное, частное, а порою забавное перемежалось в его рассказах иногда с такими наблюденьями и сведеньями, которые – так считал князь – могли весьма и весьма пригодиться даже ему: «Если жив буду!»
– Сей – в великой силе у хана! – пояснял дворский, упомянув кого-либо из багадуров. – Ну, а Бирюй-хан – сему уже веревка около шеи вьется! Уже более месяца к Батыю не зван! Ханова лица не видит. Печальный ходит!.. Ну, а до чего же, Данило Романович, настырный народ сии татары! Такая назола… все подарки клянчат!.. От хана – и до слуги!.. Ну, прямо не отвяжешься!.. Которому и сунешь что – иной раз сущую безделицу: абы отстал! – а глядишь: довольнешенек. А на иного зыкнешь: «Что, мол, я тебе, пуговицу от жупана либо от шаровар своих оторву да отдам?! Чудак-человек!.. Погоди, говорю, как дело свое справим у хана, тогда и тебе будет!..» Так вот, Данило Романович, и воюю с ними: тому посулишь, того пригрозишь!.. Ох, Орда!.. Ох, Орда!.. Одно слово – орда!..
И, повздыхав, посетовав, оглядывал комнату князя или еще вспоминал что-либо недоделанное и сызнова мчался – добывать, грозить, сулить, добиваться.
Даже и Андрея-дворского, который немало перевидал и на Руси и на Западе преизобильных и всяким великолепьем изукрашенных городов, Андрея, который недолюбливал похвалить чужое, на этот раз поразила многообразная, хотя и нагроможденная роскошь Батыевой столицы, и протяженность, и многолюдство ее.
– Это есть действительно град! – говорил он. – Улицы, дома – что тебе былой Киев наш!.. Конечно, Киев – посветлее!.. А на улицах, княже, на базарах такой галман стоит! Будто в нашем Галиче: все языки перемешалися… не разберибери!.. Столпотворение вавилонское!
Сами ордынцы, внешностью своею, весьма не приглянулись дворскому.
– Лики нечеловеческие! – воскликнул он и даже зажмурился, покачнул головой. – Ротасты, челюстасты, утконосы, а глаза – как точно бритвой скупенько кто резанул… едва-едва мизикает ими!.. А видят глазами своими дале-еко! – тут же восклицал, поражаясь, дворский. – И якобы оттого далеко видят, что соли не кладут в яство. А кто, говорят, солоно любит кушать, у того глаза не вострые и стреляет худо… Не знаю, то верно или нет?.. Но лицом, Данило Романович, и здешни – все на один болван: точно бы все из одной плашки тесаны – в один голос, в один волос, в один миг, в один лик!.. Я было взялся, попутно, того батыря пошукать, который к нам в Дороговско был послан от хана, – думаю: по халату нашему, что я ему подарил, да и по шапке нашей дареной должен я его признать! Ну, где там! В одного вклепался, в другого, да и бросил: все на одно лицо!.. А и всякий-каждый главизну как-то по-чудному бреют: за лево ухо косичку плетут. Смех!..
К татаркам дворский отнесся благосклоннее:
– Женщины – те у них поприглядне будут. Которые даже и на русский погляд – леповидны. А все же против нашей русской женщины альни сравнить!
Дворский махнул рукой.
– И все ихние бабы, – продолжал он, – в шароварах должны ходить, како мужской полк! То понять можно: Чагоныз повелел всему народу на коне обучиться… И всю жизнь – на коне… с ребенком – и то на коне. Тогда в шароварах удобнее. Но пошто на головы взгромождают такое строенье – не возьму в толк! – ни тебе клобук архиерейский… да что клобук!.. Более приравнять можно: акы ушат кверху дном опрокинут и полотном обтянут… Сие ни к чему, я считаю…
Хвалил семейную чистоту и целомудрие жен татарских:
– Мужнину честь хранят! – Нахмурясь, добавлял: – Жен – и по три и по четыре имеют: кто сколько сдюжит прокормить. То во стыд не ставят. А наложница коли заимела ребенка, то уж стала в полном чине жена. И если ханенок от таковые посадницы, то может и на ихный престол взойти…
Осуждал татарскую пляску:
– Черного своего молока напьются кобыльего – кумыза, сделаются пьяны, сейчас – плясать! Гусли, сопели, бубны… А пляска у них неладная, Данило Романович!.. Дерг, дерг… якобы кукла-живуля… срамота, бесстудьство одно!.. То ли дело – наш колымыец гопака спляшет али киевлянин!..
И сызнова начинал о городе:
– Чудно изукрашен их град! Улицы – широки. Инде торцами кладены. Хоть бы и не татарам в таком граде жить! Только улицы градские не чисто содержат!..
Тут Андрей-дворский понизил голос и с некоторою опаскою сообщил:
– К примеру молвить: некий грек пленный устроил им водометы. Дивно, окаянный, измечтал: воду по трубам – колесами, шатунами – прямо из Волги подает, за несколько верст, – конской тягой. Ходит конь округ колеса… глаза у него завязаны… Ладно. Кажись бы, у Волги хватит воды на все! А почему же в домах даже и руки обмыть нечем?.. А и не моют!.. Осалит за обедом руки – тотчас их о голенища, об шубу отрет! И рыгают – не приведи господь!.. И того у них нету, чтобы чашку ополоснуть!.. Одно слово – варвы!..
За немалую, надо полагать, мзду первый битакчи выдал дворскому грамоту и пайцзу, с которыми можно было невозбранно посещать любой из кварталов Сарая.
И тогда такого насмотрелся галицкий воевода, о чем не смог промолчать перед князем, едва только возвратился к нему: пусть знает, пусть ведает Данило Романович, как волынские и галицкие его гинут у проклятых, и нет им заступника; пускай хоть словом своим заступит и оградит своих-то, когда позовут к Батыю!
И начал было рассказывать дворский:
– Рязанским, суздальским, ростовским, а и киевлянам пленным, – тем куда легче, не то что нашим галичанам несчастным! Ихние-то князи: Ондрей Ярославич, Олександр Ярославич, а то и сам Ярослав Всеволодич – сей вот намедни проехал через здешни места к великому хану, в Каракорум, – ихние-то князья ведь по всяко дело когда не один, ино другой наезжают в Орду…
Князь молча слушал, а сам перелистывал в это время манускрипт, в котором, по его повелению, монахи, работавшие в его скрипториях, и толковники-греки, руководимые обоими Кириллами – и печатедержцем и митрополитом, – собрали, переписали в выдержках все, что только можно было прочесть о русских и о славянах в писаниях древних авторов.
Здесь, в этой книге, на белоснежном цареградском пергаменте, средним уставом, с заглавными буквами, изуроченными киноварью и золотом, списано было все о славянах и о народе русском, именовавшемся у древних – «анты». Обширный, пытливый ум и сердца многих древних мыслителей, да и хронографов-летописцев, и захватывала и потрясала, наполняла то гневом и ужасом, то упованьями и надеждой судьба этих антов, или русов, что то же, – народа, загадочного и для римлян, и арабов, и греков, обладавшего всем севером, всей срединой Балканского полуострова, всеми землями от Карпат и Дуная до Тмутаракани, и до великой пучины морской, именуемой Каспий, и до Урала, уходящего в Страну Мрака.
Кто только не писал о них, о его карпаторусах, о галичанах, волынянах и о киевлянах, – начиная от Геродота, Плиния и Тацита!..
Вот хронограф византийский свидетельствует об ответе русского князя Лавриты аварскому хану, который требовал дани:
«Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе силу нашу? Нет! И мы в том уверены, пока существует на свете война и мечи!»
И вторит ему ученый араб Масуди:
«Словяне – народ столь могущественный и страшный, что если бы не делились на множество разветвлений, недружно меж собою живущих, то не померялся бы с ними ни один народ в мире!»
И все ж таки: «Вся греческая империя ословянилась!» – в тревоге восклицает император-историк.
«Словяне научились вести войну лучше, чем римляне!» – одержимый тем же страхом, взывает хронограф эфесский.
«Словяне и анты любят свободу, не склонны к рабству. Сами же взятых в плен не обращают в рабов», – заключает римский стратег.
Сколько раз, припадая к фолианту сему, точно тот сказочный исполин к груди своей матери-земли, Геи, вдыхал в себя князь в часы душевного мрака, в годы чужеземных нашествий неизреченную силу древних чужестранных повествований о бессмертном своем народе!
Сколько раз сопутствовала ему книга сия на съезды его с врагами, только что замиренными, и за столом мирных совещаний решала нелицеприятным древним словом своим жесточайшие пограничные споры!..
…В словах дворского вновь и вновь послышалось Даниилу дорогое, но и заповедное имя – Александр. Князь вслушался.
Андрей же дворский, заметя сие, подступил поближе и обрадованно проговорил:
– Как же, Данило Романович. Я, стало быть, иду себе… Гляжу – впереди меня идут двое. Одеянье, речь – наши, русские. Бояре, видать, и бояре великие! Говор, слышу, новгородский либо суздальский. Идут вольготно. Я пообогнал их. Ну ведь как тут не спросить? «Чьи вы, говорю, будете, господа бояре? Которого князя?»
Дворский слегка вытянул шею и закончил радостным шепотом:
– Самого-то Ярослава Всеволодича оказалися ближни бояре! Оставлены здесь при Олександре Ярославиче – помогать ему. И сам Олександр Ярославич тут!..
Дворский с торжествующим и лукавым выраженьем лица ожидал, что отмолвит на это радостное, он знал, сообщенье повелитель его и господин.
И князь отмолвил:
– Вот что, Андрей Иванович, я своею рукою сниму с тебя пайцзу, да и пропуск твой отыму и под замок велю замкнуть, дабы не мог ты по Орде более бегать! – так, хмурясь, хотя и не повышая голоса, отвечал князь.
Воевода оторопел.
Но тотчас же, привыкший с полуслова понимать недоговоренное владыкой своим, он схватился за щеку и, покачивая сокрушенно и виновато головою, начал просить у князя прощенья за свое «самочинство и самостремительность»:
– Княже мой, господине мой! Данило Романович, батюшко! Вот с места мне не сойти, коли еще что промолвил с нима! Токмо оббежал их, опередил, да и спрашиваю: чьи, мол, вы? Даже и за ручку меж собой не поздравствовались!
– Ну-ну, добре!.. – желая прервать его оправдания, ответил князь.
Однако воеводе еще хотелось изъяснить некоторые обстоятельства этой встречи.
– Данило Романович! – сказал он. – Я ведь их обоих еще ранее заприметил. Один-то боярин – именем Соногур. И якобы не из русских: жидкоусый! А на другого – на того ведь как обратил я внимание? Вижу, посреди пленных наших, обнищавших, между русского народа нашего, галицкого, ходит чей-то боярин, и расспрашивает, и нагинается к ним, и пособие подает… И до того мне больно стало сие и радостно!.. Ведь, Данило Романович!.. – воскликнул, прослезясь, дворский. – Ведь против наших-то, галицких, и рязанским людям, и суздальским…
– Перестань! – вдруг оборвал его князь окриком, каким еще ни разу не оскорблен был слух «великого дворского». – Хватит! Довольно молвил!
И, оборотившись к ножничному отроку, приказал:
– Кончай…
Федя ускорил бережное движение своих тонких пальцев, вооруженных маленькими ножницами с напильником…
Они думают, мыслил князь, что он тогда ничего не увидел, при въезде в Орду, потому что ехал потупя взор свой в гриву коня! Видел, все видел он и слышал, что творилось по обе стороны их дороги, переметанной гулкими, залубеневшими от мороза сугробами!
Полуголые, в отрепьях, босые, с ногами, обернутыми от стужи в мешковину, в дерюгу, галичане, волынцы его протягивали за подаяньем ко всем проезжавшим обмороженные, беспалые или же вздувшиеся гнойными пузырями руки.
А у иных и руки не было, тянули к стремени всадников трясущуюся, побагровевшую от стужи и от воспаленья, гноящуюся култыгу.
Но когда бы и очами не видел, то разве до гробовой доски забудет он песню той помешавшейся девушки-полонянки – там, на снегу, в толпе?!
Где бы ни услыхал он эти с детства знакомые и таким светом, такою полудетскою, полудевическою гордостью напоенные слова, – он тотчас признал бы, что поет их «девча» откуда-либо из-под Синеводска.
В таких же изветшавших, черствых от грязи и от мороза лохмотьях, как все прочие вкруг нее, изможденная голодом и стужей, юная, но уже с запавшими в костистые орбиты глазами, с космами седых волос, которые, однако, даже и в безумии своем не забыла она взамен былой и непременной для ее девического убора низанки лелиток повязать первой подвернувшейся грязной тряпицей, – стояла на сугробе потерявшая рассудок девушка-галичанка, с босыми ногами, завернутыми в ремки, и пела, пела, как будто желая, чтобы услышал ее там, у Карпат, «милейкий» ее:
Кобысь мя видев рано в неделю,
Як станет мати мене вберати:
Ой, на ноженьки жовти чоботки,
А на лядвоньки кованый пояс,
А на пальцы сребни перстенци,
На головоньку перлову тканку…[22]
И, откидывая голову, кривлялась, горделиво приподымала в грязных лохмотьях плечо, поправляла надо лбом узкую тряпицу, заменившую ей навеки венок и лелитки, и непристойно ругалась…
Поодаль же, также на снегу, на клочке почерневшей соломы, сидел слепоокий, с деревянною чашкою и, время от времени приоткрывая белесые незрячие бельма, ибо выколоты были зеницы очей его татарами за побег, тоже еле слышным голосом пел – заунывно, однообразно – одно и то же:
Не вижу неба, земли.
Не вижу хлеба, воды.
Братья, воззрите на мое калецтво!
Молча, не придержав коня, проехал мимо этих людей своих – искалеченных, нищих, сирых и божевольных – великий князь Галицкий. Знал князь, что иные из тех, что сидят при дороге, знают, кто проезжает, минуя их.
Но в то же время видел косвенным взором князь Даниил, как одна и другая татарская рожа остановилась невдалеке, и, запрятав руки в сомкнутые рукава чепанов своих, стояли неподвижно, подобно островерхим столбам, в своих колпаках, и высматривали.
И не отдал властелин Червонной Руси того повеленья, которого вот-вот ожидали все дружинники и поезжане его, ожидал и Андрей-дворский, успевший было тогда приготовить уже большие кисы с деньгами, – повеленья остановиться, и перемолвиться с пленниками-единоземцами, и порасспросить, кто откуда, и скрепить изнемогший дух, и поддержать щедрым братским даяньем!..
Вышедший было в переднюю комнату, где расположилась дружина, дворский поспешно вернулся.
– Княже, – тихо проговорил он, – сии двое пришли – Олександра Ярославича ближние мужи: Соногур и тот, другой… суздалец, Поликарп Вышатич…
Князь резко, на полушаге, обернулся к нему.
– От Ярославича? – спросил он дворского и пытливо на него посмотрел.
Воевода слегка развел руками.
– Про то не хотят сказывать… Соногур… А он, видать, и набольший. При князе-то, видно, постарей будет Вышатича Поликарпа.
Князь колебался с мгновенье.
– Введи! – коротко сказал он.
Дворский поклонился и вышел.
Скоро оба боярина, – приставленные от Ярослава к юному сыну его, князю Новгородскому Александру, для совета и помощи у Батыя, а Сонгур Аепович, половчин, еще и как переводчик, – вступили в палату.
Вышатич сперва перекрестился на образ, чего не стал делать Сонгур, ибо хотя на протяжении многих лет служил князю Суздальскому, однако придерживался веры, в какой был рожден. Ярослав же Всеволодич не только не понуждал Сонгура креститься, но и во многом, особенно для посольства в Татары, к половцам, полагал даже выгоднее иметь половчанина некрещеного.
Поясным поклоном оба они – и Сонгур и Вышатич – почтили князя, а затем боярин Сонгур Аепович, как старший, сказал за обоих приветствие.
– Здравствуй, князь! – молвил он и, сипя от немалой тучности, распрямился.
– Здравствуйте и вы, бояре, – очень сдержанно отвечал Даниил, спокойным взором оглядывая обоих.
Князю ясно стало из одного их приветствия, что не посланы они Ярославичем, не от Александра пришли!
Оба суздальские боярина были одеты почти одинаково: одного и того же покроя и пошива бархатные, с золотыми узорами кафтаны, одинаковые колпаки, только цвета разные: темно-зеленое все – на Поликарпе Вышатиче, малинового цвета – на Сонгуре. А сапоги – узорчатые, сафьянные – были в цвет.
На Данииле же в час их прихода было излюбленное его карпаторусское одеянье. И не только впервые увиденный ими облик властелина Карпатской Руси и Волыни, но и необычайная для Руси Новгородской и Суздальской одежда князя немало изумили вельмож Александра Невского.
Длилось неловкое молчанье.
И, убедившись, что гостями им все равно здесь не быть, Сонгур Аепович, жирнолицый, но губощапый и впрямь, по слову дворского, жидкоусый, еще больше сощурил свои узкие, заплывшие глаза и с поклоном промолвил:
– Уж ты прости, не гневайся, князь, ежели мы пришли, не званы, не посланы! Я подумал: как не забежать? – свои, русские, приехали, а и дальние! Ведь только вас, галицких, здешни хозяева и не видали на поклоне!.. Думаю: может, службой своей на Орде погожуся князю Галицкому? Братья твои – Ярослав Всеволодич, Олександр Ярославич, – те ведь жалуют меня, худоумного!..
Боярин смолк и стоял, ожидая ответа. Однако его не последовало.
Сонгур обиделся. Он причмокнул губами и продолжал так:
– Предупредить хочу, княже: вовремя ты приехал, – как знал! Гнев лютый воздымал на тебя царь Батый за долгую неявку твою и ослушанье. А и ныне трудно будет с ним тебе обойтися. Разве что сегодня удой будет у царя добрый! – Тут Сонгур подступил немного поближе и, хохотнув, поведал: – Любима кобыла ожеребилась у хана на сих днях. То велик праздник! А тое кобылу хан Батый, коли на мирном положении, то завсегда своими царскими перстами доит. Седни – первый задой. Я и говорю: если с кобылой все благополучно, да как молока царь надергат полну доиленку, то и ко всем будет милостив!
Сонгур негромко засмеялся. Жадным оком вглядывался он в лицо князя Галицкого.
– Что ж! – спокойно, благожелательно, без малейшей усмешки отвечал Даниил. – Доброе дело, коли сам доит: домостроитель хан, домовладыка!
И, сказав это, князь увидал, как просветлело успокоеньем строгое, сухоносое лицо второго боярина.
Будучи на голову выше своего спутника, стоя за спиною его, Поликарп Вышатич еще до этого легким кивком головы в сторону Сонгура и нахмуром бровей давал знать князю, чтобы тот поостерегся в беседе.
– Да и я говорю про то же, – ничуть не смутясь и опять напуская важность на лоснящееся свое лицо, сказал Сонгур, – удой будет добрый, тогда и хан будет добрый. Ну, а все едино, кусту-то не миновать кланяться! Брат твой Ярослав кланялся кусту, и тебе кланяться!
Даниил мгновенье молчал. Белые и алые пятна пошли по его прозрачно рдеющей, тонкой коже.
Потом:
– Дьявол глаголет из уст твоих! – почти проревел он. – Бог да заградит уста твои, чтобы не слышно было и слова твоего!.. Шелудивая влаза!.. Вон отсюда!..
И, наклонив голову, сжав кулаки, пошел на Сонгура.
Тот дрогнул, попятился, раскрыл было рот, но вдруг, придя в ужас, кинулся прочь, ударясь о косяк двери.
За ним, выронив шапку, бросился бежать и Поликарп Вышатич.
Дворский поспешил вслед за ними.
Слышно было сквозь неплотно закрывшуюся дверь, как немного отошедший Сонгур пытался что-то изъяснить дворскому, слышен был и ответ дворского, с которым он выпроваживал незваного гостя:
– Ладно, ступай, ступай! Мне с тобой, боярин, калякати нету время. Добро – колбаса длинная, а не добро – речь длинная! Мы по тебя не слали! Ступайте, ступайте!..
Слышно было, как захлопнулась наружная дверь.
– Экой нечувственник!.. – и укоризненно, и облегченно проговорил вслед ушедшему Андрей-дворский, обращаясь, по-видимому, к дружинникам, находившимся в передней, гридней палате.
Прошло, однако, не более четверти часа, как дворский сызнова стал выпроваживать кого-то.
Князь вслушался.
– Не дело, боярин, не дело, Поликарп Вышатич! – говорил дворский. – Обронил колпак, а по эдакому пустяку самого князя обеспокоить хочешь! Я тебе лучше сам капку твою вынесу…
Даниил громко сказал:
– Впусти, Андрей Иваныч!
И боярин вошел.
В комнате никого не было, кроме князя и Вышатича. Даниил своей рукой покрепче притворил дверь.
И так как некогда было разводить предписанные обычаем церемонии, и не для того возвратился, то, взяв с полу преднамеренно, а будто бы со страху оброненный убор свой, боярин проговорил торопливым шепотом:
– Княже, поостерегися человека сего! Соногура! К брату твоему, Ярославу Всеволодичу, от татар приставлен. Я Олександру-то Ярославичу говорил. Но только соследить не можем: лиса! А то ведь Олександр Ярославич крут! А старый князь – тот вверился Соногуру сему донельзя!.. И как вкрастися мог – не знаем!..
– Да-а… – угрюмо проговорил князь, – лицом похабен! Такого бы ко князю Александру и на швырок камня не подпускать! Ну ладно. Спасибо, Поликарп Вышатич! Того не забуду, если останусь жив. А поостерегите же и князя Александра! Сонгур сей не носит ли нож сокровен в сапогу своем?!
Даниил Романович подошел к Поликарпу. Положил ему левую руку на плечо. Глянул в глаза.
– Ну ступай, – сказал он. – А брата от меня целуй!
Боярин ушел. И в тот же час князь Галицкий был позван к Батыю.
Даниил ожидал этого, ожидал непрестанно, а потому и не было никаких сборов.
Застегнув, он оправил шелковый плащ и на мгновенье замедлился.
Федя понял это по-своему и через секунду стоял перед князем, благоговейно держа на вытянутых руках прадедовский меч князя.
Скорбная усмешка чуть тронула губы Даниила.
– Нет, Федя, – покачнув головой, тихо сказал он отроку, – ныне твоему князю меча не надобно.
На мраморных ступенях просторного и отлогого крыльца, которым дворец Батыя, выстроенный на высоком насыпном холме, открывался в сторону Волги, Даниила встретил векиль – дворцовый смотритель – и коротко, через переводчика, предупредил князя, что ни один входящий не должен попирать ногою порога, иначе смерть! Однако тут же векиль Батыя и нехотя и брюзгливо принужден было добавить, что своею волей сам Излучающий свет освободил князя от непременного обыска, а заодно уже и от столь же обязательного очистительного прохождения между огнями, ибо убежден, что князь Галицкий чужд злоумышлению на священную особу хана.
«Ну, отошло хотя бы это! Не будут хоть кудесничать и волхвовать вкруг меня!» – подумалось Даниилу.
Недвижимые телохранители – тургауты, исполинского роста, в сверкающих шишаках, с круглыми, выпуклыми щитами и высокими копьями, поставленными вверх острием, на которые они как бы слегка опирались, – подобно живой, в два ряда, колоннаде, высились по обе стороны нескончаемой ковровой дорожки.
В каждой паре воины, стоявшие друг против друга, располагались столь близко один от другого, что им достаточно было с той и другой стороны склонить копья – и дорога во внутренние покои была бы преграждена.
Один из телохранителей, ближайший к двери ханских покоев, желтолицый гигант, особенно поражал непомерным ростом своим, бычьей шеей и чудовищной мощью обнаженных рук, скорее похожих на бедра.
«Экий колосс! – подумалось Даниилу. – Такой вот пинками – в сердце!..»
Как бы сама собой, бесшумно распахнулась тяжелая, черного дуба, огромная, двухстворчатая, окованная бронзою дверь.
Даниил мысленно перекрестился. Захолонуло сердце. Однако, внешне спокойный, он бестрепетно вступил в обширную, многоцветно освещенную солнцем сквозь римские стекла палату.
Золотистый отсвет ложился на все предметы: даже зимой, даже вынужденный жить во дворце, Батый не изменял обычаю обитанья в юртах – и едва ли не большую половину покоя охватывал золотой, рудо-желтого шелка, шатер.
Даниил узнал его: сколько раз видывал он этот горделивый королевский шатер под стенами Галича, Перемышля, Владимира-Волынского! Да и неоднократно беседовал он, в часы мира, под сенью этого золотистого шелка с былым обладателем шатра – королем Бэлой.
Некогда осенявшая купол сего шатра вытканная золотом корона Стефана снижена была – преднамеренно же, конечно! – до уровня глаз.
Князь Галицкий, желая увидеть Батыя, смотрел прямо перед собою. Напрасно! Один лишь пустующий трон, широкий, низкий, наподобие округлой тахты, дабы можно было сидеть вдвоем с хатунью, – трон, удивительно изваянный из слоновой кости, с золотым обкладом, с невысокой, полуобхватной спинкой, стоял прямо в конце ковровой дорожки, на ступенчатом возвышенье с круглой площадкой наверху.
Смотритель дворца – векиль, предшествующий князю, вдруг резко свернул налево, и тогда только Даниил увидал Батыя.
Векиль не посмел последовать далее: остановясь на грани обширного смирнского ковра, он преклонил колена и распластался в азиатском поклоне.
Затем встал и, пятясь, дабы не повернуться спиною к тому, кто излучает свет, с поклоном покинул шатер.
Остались трое: Батый, некто возле него и Даниил.
Батый сидел в левой от входа половине шатра, поджав по монгольскому обычаю ноги, на подкладной малинового цвета подушке, положенной поверх полосатой шкуры царственного уссурийского тигра.
На повелителе полумира надето было малинового же цвета халатообразное одеянье, затканное золотом и всякой неправдоподобной китайщиной. На голове – отороченная пушистым мехом, глубокая, мягкая шапка. Под распахнувшейся одеждой виднелось широкое и многократно обмотанное вкруг туловища зеленое шелковое полотно, за которым засунут был глиняный горшочек с тлеющими углями, согревающий живот Батыя.
Даниил своим легким, сдержанным шагом подошел почти вплотную к другой, лежавшей на ковре, цветной подушке, очевидно приготовленной для него, и, сняв левой рукой и держа на отлете свою княжескую круглую шапочку – соболиную, с бархатным голубым верхом, – приветствовал хана глубоким поклоном.
– Да продлит Небо твои священные дни, казн! – по-татарски, хотя и с медлительной тщательностью иностранца, боящегося ошибиться в чужом языке, сказал он.
Сказал – и увидел с глубоким удовлетворением, как дрогнули от неожиданности раскосые, поднятые к вискам, выбритые в ниточку брови на большом, желтом и отечном, безусом и безбородом лице Батыя.
Однако не полагалось, чтобы кто-либо из смертных, даже и на мгновенье, стоял, возвышаясь над ханом. Поэтому Батый с некоторой поспешностью, но в то же время и властно указал на вторую подушку.
– Садись, князь, – угрюмо проговорил он по-татарски. – Русские не привыкли так сидеть. Однако что ж делать! Мы же, народы Тэта, считаем, что должно восседать на земле: ибо из земли вышли и в землю пойдем…
Произнося эти слова, Батый слегка покосился на человека, безмолвно сидевшего по левую руку от него.
И тогда человек этот, одетый, как монгольский вельможа, но рыжий, с тонким, длинным лицом и светлопустынными и точно бы разбрызганными глазами, вдруг обратился к Даниилу по-латыни:
– Герцог светлейший Даниил! – сказал он. – Тот, кто излучает свет, Покровитель вселенной, Бату-хан, повелевает, чтобы ты сел! Мне же, Альфреду фон Штумпенхаузену, рыцарю ордена Святой Марии, хан приказывает переводить и его и твои речи ради взаимного понимания.
Альфред из Штумпенхаузена смолк, ожидая ответа.
Даниил, не отвечая ему ни слова и не взглянув на него, сказал на татарском языке, обращаясь к Батыю:
– Пресветлый каан! Обычаи моего народа не позволяют гостю сесть прежде, нежели узнает о здоровье высокочтимой госпожи дома и всего семейства. Хатунь твоя, Баракчина, императрица, – Даниил сознательно как бы обмолвился этим титулом, принадлежавшим одной лишь супруге Куинэ-хана, Огуль-Гаймыши, – императрица Баракчина, и царевич Сартак, и все твоего дома, в добром ли здоровье?
Батый пожевал губами, передвинул за поясом горшочек с тлеющими угольками с левого на правый бок и, видимо довольный вопросом князя и «обмолвкой» его, слегка кивнул головою и ответил:
– Да. Благодаренье богу. Здорова ли твоя хатунь… Анна? – припомнил он.
И тогда, – но уже усевшись по-монгольски на подушке своей, которая – он заметил – была несколько пониже той, на которой восседал хан, – Даниил ответил Батыю:
– Спасибо. Великая княгиня Анна в добром здоровье и просила меня поклониться хатуни твоей, Баракчине.
Батый прокашлял несколько раз свое татарское «да» и кивнул головою, а кивнув, не сразу смог остановить это свое движенье. Когда же прекратилось киванье, то долго еще раскачивалась золотая серьга в его левом ухе с подвескою из многоцветного камня.
Даниил продолжал по-татарски:
– Пресветлый каан! Если только ты соизволишь говорить медленнее, чем обычно, то я пойму все, что тебе угодно будет сказать мне. И если неправильное произношение мною слов твоего языка не оскорбит слух твой, то я предпочел бы обойтись без переводчика.
И Даниил, в подтверждение этой просьбы своей, произнес древнюю арабскую поговорку:
– Вода из наичистейшего источника, пройдя через несколько сосудов, загрязняется. Я очень опасаюсь, как бы царственная мудрость и чистота мыслей твоих и речей, пройдя через лишний сосуд… а тем более через этот… не потерпела бы ущерба!.. А для своей скромной речи я опасаюсь какой-либо посторонней примеси. Так что, если возможно, то я бы предпочел насладиться беседою с кааном без переводчика.
– Вступающий под этот кров оставляет за порогом слово «невозможно», – отвечал Батый. – Пусть будет так!
Рыцарь, хмурясь, рассматривал ногти.
– Я сказал! – прохрипел Батый.
И фон Штумпенхаузен вдруг прянул на ноги, будто его толкнула снизу вырвавшаяся из подушки пружина.
От гнева, униженья, досады, что не через его посредство будут происходить переговоры, рыцарь забыл на мгновенье весь этикет Востока и, дергаясь нервным лицом, осмелился переспросить:
– Я так понял, каан, что я должен уйти?
– И освободи моего гостя от его головного убора, – не отвечая рыцарю, приказал Батый.
Альфред молча поклонился хану, стиснув зубы, взял шапку Даниила с его колен и вышел тем же способом, каким покидал палату векиль.
Батый и Даниил остались с глазу на глаз.
Однако чуть колыхалось местами шатровое полотнище. «Телохранители», – понял князь. Он сидел молча: ждал, что скажет Батый.
– Данило! – насупясь, проговорил хан. – Почему же ты давно не пришел? Ты неисправен и горделив! Я собирался уже отдать Галич другому – тому, кто почтил нас достодолжным образом. Ибо не подобает сидеть кому-либо на своей отчине, не поклонившись тем, кто сохраняет лицо всей Земли, – императору Куинэ и мне! И вот я отдал было твой Галич другому…
Князь молчал.
«Знаю я тебя, старый бурдюк, кому ты продал Галич и за сколько…» – подумал князь Галицкий, глядя в желтое, отечное лицо этого полубезграмотного забайкальского скотовода, который сумел, однако, вот этой самой своей грязной, обрубистой пятерней взнуздать уздою неслыханной дисциплины шестисоттысячную конницу дьяволов, говорящую к тому же на сорока пяти разных языках.
Он смотрел в лицо дикаря, к седалищу которого, однако, на карачках подползали послы великих государей, герцоги и цари.
Голос Батыя между тем все усиливался, и, распаляясь, ярея, старый хан распрямился и вот уже стал как прежний Бату, каким запечатлело его потрясенное ужасом воображение народов.
Резким движением он вынул из-за пояса горшочек-грелку, отставил далеко от себя.
– Князь Галицкий! – продолжал он. – Тебе и того оказалось мало, что ты столько лет пребывал ослушником нашей воли! Ответь мне, зачем ты Болоховских князей побил? Они сеяли для меня пшеницу и просо. Я потому и пощадил их. А ты землю их повоевал и людей к себе увел? Болоховские имели тарханную грамоту от меня! – взревел Батый.
Нижняя губа его затряслась. Лицо почернело. Колыханья шелковой завесы шатра усилились…
Убедившись, что хан ничего не хочет добавить к сказанному, Даниил, тяжело вздохнув, отвечал так:
– Пресветлый казн, уж тебе ли не помнить битву на Калке – битву, в которой Небо даровало тебе победу над теми, кто сам привык побеждать, битву, в которой и тому, кто ныне сидит перед тобою, пришлось изведать всю скорбь и стыд пораженья?[23] Вспомни же, каан, чем вызвана была эта битва: ты послал прославленных багадуров деда своего, Чжебе и Субедея, дабы покарать, кого ты считал изменниками и оскорбившими волю твою. Однако ведь то не были твои татары, но были половцы. О Болоховских же, русских князьях, возьми во внимание то, что они сидели на земле и отца моего, и деда, и прадеда… Я покарал их за измену, а не вперекор твоему могуществу.
Подумав немного, князь добавил:
– А тарханной грамоты и ярлыка твоего мне явлено от них не было.
Но этих слов уже и не слушал Батый. Он сидел откинувшись, закрыв глаза, блаженно, точно насытившийся кот, пригретый солнцем.
Ему, которого в последнее время на курултаях многие ханы, особенно же ненавидевшие его Чингизовичи – и дядья и двоюродные братья, – то и дело укоряли, что он прежде времени одряхлел, обабился, оставил стезю войны, по которой ринул народ свой великий предок его, – не могло быть ничего ему, Батыю, более отрадного, более лестного, чем напоминанье о Калке, о первом потрясающем ударе народам Запада, который нанесен был именем его, Батыя, тогда еще совсем юного.
Ничего не могло быть приятнее для него, человека, живущего уже под гору, чем напоминанье о том невозвратном времени, когда он, внук Темучжина-Чингиза, только что явился во главе дедовских и отцовских орд в рассвете силы и мощи.
Батый снова открыл глаза, и взгляд его был благосклонен.
– Князь Данило! – проговорил он. – Ты сказал недолжное о себе. Да! Ты, будучи князем русов, должен был тогда испытать скорбь поражения. Но только не стыд! Нет, стыд не должен был коснуться тебя. Нойоны мои – и Субедей-багадур и Чжебе, – они оба в той битве, точно два старых беркута, приковали свои взоры к тебе, когда ты врубился в самую гущу их туменов[24]. Субут мой отдал тогда приказ захватить во что бы то ни стало тебя, живьем… И мы тоже с тех пор запомнили твое имя, князь Данило, сын Романа!..
Так молвил Батый.
Помолчав немного, он добавил с напором на титул:
– Я верю тебе, князь Галича и Волыни!
Сказав это, он слегка постучал ладонью о ладонь, и тотчас блюститель дворца появился перед властелином.
Хан безмолвно повел рукою в сторону ковра, и через мгновенье ока легко ступающий раб поставил два невысоких персидских столика: один – под рукою Батыя, другой – возле Даниила.
На хрустальных, окованных золотом блюдах лежали грудой финики, инжир, сладкие рожки, льдистый сахар и виноград.
В цветистых деревянных чашах – ведь всякий иной сосуд отымает целительную силу напитка! – был подан кумыс.
Кислый, уже и сам по себе вызывающий оскомину, а и немного как бы винный запах распространился по комнате.
Глаза Батыя увлажнились. Взяв свою чашу, он сказал Даниилу:
– Пьешь кумыз?
– Доселе не пил, – отвечал, взглянув ему в лицо, князь Галицкий, – но от тебя выпью.
Он взял чашу и почти с таким же чувством, с каким ступал в распахнувшуюся перед ним дверь, стараясь не обонять разивший закисшею сыромятной кожей, терпкий, кислый напиток и усиливаясь не морщиться, стал пить.
Батый пристально всматривался в это время в его лицо.
– Э-э! – одобрительно и как бы с гордостью сказал он. – Да ты уже наш, татарин!.. Пей, князь, пей наш кумыз – здоров будешь! Сто лет батырь будешь!.. Это – радость гортани, напиток Неба!..
«Господи! – подумалось Даниилу. – И у этих свой нектар! Что сказали бы олимпийцы!..»
Батый тем временем припал к своей чаше и, выпив ее всю, крякнул и обтер губы ладонью.
Векиль тотчас появился из-за шатра и сызнова наполнил ее из ручного сморщенного турсука с деревянной затычкой.
Следуя знаку Батыя, он долил и чашу Даниила и опять вышел.
– Пей, князь Данил, пей! – нахваливая кумыс, говорил хан. – Это напиток великих батырей. С ним народ мой завоевал вселенную… Я подарю тебе двух обильных молоком кобылиц!..
Так, благодушествуя, он чествовал и угощал князя. Но это была только личина покоя, только затишье перед ураганом!..
Батый долго сидел в неподвижности и молчанье, закрыв глаза и время от времени отрыгая.
«Вероятно, первая аудиенция на этом и кончится… а потом начнут бесконечно мытарить, домогаясь того и этого… Пойдет наглое выпрашиванье подарков, волокита и происки!..» – думалось Даниилу.
Вдруг Батый встрепенулся, хакнул, немного посунулся к Даниилу, даже оперся рукой о подушку, будто порывнулся встать. Глаза его вперились в лицо князя.
И тотчас же сильнее заколыхались полотнища золотого шатра.
– Князь Данило! – закричал Батый, ударяя себя кулаком по колену. – Как смел ты не допустить к себе нашего ямчи, зная, что при нем наша пайцза и грамота?! Ты знаешь ли, что гораздо за меньшее я приказывал заливать расплавленным свинцом горло князей и владетелей!.. Ты… ты… – продолжал он, сипя и задыхаясь. – Ты не мог не знать, что это навлечет на тебя гнев наш! Иль, быть может, ты думал укрыться?
Хан усмехнулся.
– Но куда же ты укроешься от нашего лица, князь?! Не в Ургенч ли? Не в Булгар ли? Не в Кафу ли? Не в Багдад ли? Или, быть может, в Египет? Но воля наша и посланные ее добудут тебя повсюду!.. Думал ли ты о том, едучи сюда, что ты заживо можешь сгнить в сырой глиняной яме, полной тарантулов?! Думал ли ты о том, готовясь предстать пред лицо наше, что, быть может, никогда больше не увидишь Карпаты свои, никогда не прижмешь к сердцу жену и детей, ибо стоит мне вот сейчас двинуть бровью – и петля, накинутая рабом, захлестнется вокруг твоей высокой шеи?.. Подумал ли ты об этом?!
Батый ждал ответа.
– Да, – ответил Даниил. – Сперва я подумал об этом… Но, во-первых, каан: ты сам сказал мне недавно, что издавна и хорошо меня знаешь, – так разве ты можешь допустить, чтобы я покинул землю и державу свою на худые руки?
Хан перебил Даниила.
– Знаю, – угрюмо пробурчал он. – Василий – доблестный воин…
Даниил продолжал:
– Да! Не в худых руках оставил я державу свою и войско. Отнюдь!.. Да и не без наказа на случай смерти моей… да и не без доброй защиты!.. Волынцев моих и галичан ты сам похвалил только что. Зиждителей же моих, что строили мне укрепления Кременца, Колодяжна, Холма, я смею думать, даже и ты, великий государь и полководец, не отказался бы иметь на своей службе… Да и не без друзей, каан, оставил я державу свою, и не без союзников в соседях… если только потребуется… – добавил князь Галицкий, знавший превосходно, что союза его на Западе более всего остального страшится Батый. – Во-вторых, я скажу, великий каан, если дозволено будет мне продолжать…
– Продолжай, князь…
– Во-вторых, каан, разве мудрость твоя позволит тебе столь бесцельно моим убийством ожесточить до отчаянья народ мой?! И, наконец, в-третьих, – а это самое главное, каан! – возвыся голос, продолжал Даниил, так что Батый сдвинул брови и насторожился. – Наконец, третье: ты не только могуч, но и мудр, но и свято хранишь обычаи своих предков: нарицая тебя Покровителем вселенной, подвластные тебе народы в то же время наименовали тебя и Саинхан – Добродушный! Я – не в плену у тебя. Я не захвачен тобою в битве. Я приехал сам. Я – гость твой! – закончил слово свое Даниил.
Некоторое время оба молчали.
Наконец Батый проговорил:
– Ты прав. Сидевший на одном со мною ковре, испивший под моим кровом напитка небес, отныне ты – гость мой! Горе тому, кто осмелится тронуть хотя бы один волос на голове твоей!
Батый повеселел и приказал налить Даниилу третью чашу кумыса.
Сам, немного уже опьяневший, он тоже стал пить.
– Скажи мне, князь Данило, – спросил он, – говорят ли что-либо на Западе – румы, франки и немцы – о предстоящем этой весною моем великом новом походе в их земли?
– Не знаю, – отвечал князь. – Но мне ведомо было, что ты ладишься этой весною в великий поход на западные державы.
– Да! – сказал Батый. – Мы сильны настолько, что можем и не таить этого! И запомни, князь: пожалеют о том, что родились на свет, все, кто будет немирен мне на пути или ослушается. Я имею обычай – посылать по всем землям головы и руки ослушников.
– Каан! – отвечал Даниил. – Народ наш, русы, более всего привыкли чтить плуг земледельца и серп, а также и топор строителя. И только по необходимости меч их всегда лежит под рукою… Я убежден, что руководимый таким великим полководцем, как ты, великий поход не может не быть победоносным. Однако не разрешишь ли ты мне рассказать вкратце записанное в древних книгах народа сербского нечто из жизни Александра Великого, царя Македонии?..
– Искандер?! – весь оживившись, воскликнул Батый. – Искандер, который был царем румов? Э! Его и доселе чтит весь народ наш. Его чтил и великий дед мой, перед кем содрогалась земля от океана до океана!.. Но я думал, что я знаю от сказателей моих и от мудрецов все-все о жизни его и о подвигах! Тот самый Искандер? Э?
– Да, – ответил Даниил. – Тот самый. Но мы привыкли более называть его Александр, сын Филиппа, ибо Искандер, как вы его именуете, был царь нашей, русской крови. Отец его, царь Филипп, происходил из народа Рус. Антами именовали нас древние. А матерь Александра, Олимпиада, была княжна сербская…
Брови Батыя полезли вверх. Хан слегка открыл рот и выпрямился, жадно внимая.
– Да, да? – сказал он. – Рассказывай, рассказывай, князь Данил!
Он, сам не замечая того, опустил ноги свои, в красных шагреневых туфлях, с подушки на ковер, чуть привстав, и, обеими руками подсунув под собою подушку, придвинулся поближе к Даниилу.
И Даниил стал рассказывать:
– Когда великий князь царь Александр повоевал Перское царство…
– Да, да, царя Дария, – негромко вставил Батый.
– …тогда он вступил в Индийское царство, перейдя Гангес…
Батый, как бы подтверждая все это, кивал головой.
– Там, – продолжал Даниил, – царь Александр, желая напитаться мудростью брахманов, а также и нагих мудрецов – йогов, приказал, чтобы наиболее знаменитых приводили к нему. Он выслушивал их, а затем отпускал. Но единого нагого мудреца, именем Колань, царь Александр удержал. И хотел беседовать с ним и получить от него поученье. Тогда велел тот Колань принести ссохлую бычью кожу и положил ее на пол. И ступил нагий мудрец Колань на один край этой кожи, и тогда другой конец ее задвигался и поднялся. Когда же он стал на середину этой шкуры, ее края остались неподвижны. И сказал индийский мудрец Александру: «Великий царь! Не оставляй никогда середину державы своей, если не хочешь, чтобы поднялися ее края, а стой на середине царства, и тогда краища державы твоей будут лежать неподвижно». Так поучал сим примером нагий мудрец Александра… Я кончил, каан, – заключил князь и наклонил голову, приложа руки к груди. – Это все написано в древних сербских книгах.
Батый, по-видимому, готовился слушать еще. Он вздохнул с сожаленьем и что-то прошептал по-татарски.
Потом весело и лукаво глянул на князя.
– Ой, Данил, Данил! – протяжно проговорил он, покачивая головою. – Какой ты хитрый, князь!..
И погрозил Даниилу пальцем.
Князь почувствовал, что время закончить затянувшуюся аудиенцию.
Опять приложа руки к груди и наклоня голову, Даниил сказал Батыю:
– Великий каан! Позволь поклониться великой хатуни твоей Баракчине!
– Иди, – благодушно ответил хан. – Но подожди немного.
Он похлопал в ладоши. Явился векиль.
– Пусть придет битакчи! – приказал Батый. – А также букаул и начальник стражи.
Скоро все четверо великих вельмож Батыя предстали перед своим владыкой с подобострастными поклонами.
Хан молча протянул в стороны обе руки, и тотчас, помогая Батыю подняться, под правую подхватил его битакчи – начальник всей канцелярии, под левую – букаул – начальник всей гвардии, а смотритель дворца и начальник стражи, опустясь на колени, оправили одеянье хана и завернувшуюся кромку красных туфель.
Мгновенно поднялся на ноги, изрядно-таки замлевшие от непривычки сидеть по-монгольски, и князь Галицкий.
Батый, щурясь, посмотрел на него и вдруг подошел к нему вплотную и чмокнул князя в обе щеки.
Затем оборотился лицом к вельможам, у которых от неожиданности подсеклись ноги, и, подняв палец, сказал назидательно и властно:
– Это пусть будет Данилу как бы инджу – великий тарханный ярлык, что имеют члены моего дома!
И все четверо великих вельмож хана поясным поклоном поклонились Даниилу.
– Ты, – обратился Батый к битакчи, – немедля изготовишь для князя Галича и Волыни тарханный ярлык на его земли и золотую пайцзу царевичей. Ты, – сказал он букаулу, – в любое время дашь ему охрану, если он вздумает проехать куда-либо по нашей столице или за черту города. Ты, – приказал Батый начальнику стражи, – дашь распоряжение, чтобы тургауты приветствовали князя, как царевичей моего дома. Да-да… – вдруг спохватился хан, снова обращаясь к начальнику своей канцелярии, – напомнишь мне, чтобы в следующий раз, когда князь Даниил посетит нас, двое лучших скорописцев списали бы все его слова, которые он скажет о Искандере Великом. А теперь ты, – обратился он к векилю, – проводи его поклониться великой хатуни Баракчине.
И, предвидя, что Даниил не станет пятиться лицом к нему, как другие, но и чтобы избежать нарушенья этикета в глазах вельмож, Батый сказал ему по-татарски: «Прощай!» – и, сам повернувшись к нему спиной, в сопровожденье букаула и начальника стражи направился к заднему полотнищу шатра, которое тотчас же распахнулось перед ним.
Даниил же, сопровождаемый векилем, вышел в прихожую дворца, чтобы перейти на половину Баракчины.
Здесь дожидались князя Андрей-дворский и мальчик Федя, которые не были пропущены с князем во внутренние покои.
Векиль, не разрешив пройти на половину ханши дворскому, позволил, однако, князю взять с собою отрока.
Даниил остановился, вспомнив о шапке. Но рыжий рыцарь, увидев его, уже приближался к нему из-за колонны, держа в руках шапку князя, позванивая по мраморным плитам золотыми шпорами на мягких татарских ичигах.
Слегка кивнув князю, он левой рукой поднес ему шапку, а правую протянул для рукопожатия.
– Герцог Даниэль! – сказал он по-немецки, к немалой досаде дворского и татар. – Я был изумлен: как ты, при твоей проницательности, мог не усмотреть во мне друга… быть может, друга единственного, который бы многим, весьма многим смог тебе помочь здесь в твоей нелегкой миссии!
Даниил молча принял из левой руки тамплиера шапку, а в правую – руку рыцаря, протянутую для рукопожатия, опустил взятый из-под плаща небольшой замшевый кошелек, туго набитый золотыми монетами.
– Вероятно, барон, – сказал он рыцарю по-немецки, – вы терпите здесь большую нужду, если живете только на получаемые вами тридцать сребреников!..
Векиль Батыя не мог без особого повеленья входить на половину царицы. Поэтому, дернув за ручку звонка у наружных, будто из чугуна отлитых дверей, он поручил Даниила старшему евнуху Баракчины, вместе с Федей, который бережно, на вытянутых руках, внес вслед за князем нечто плоское, квадратовидное и многократно обернутое пунцовым струйчатым шелком.
В приемной пришлось обождать.
А когда были введены, то Даниил увидел старшую ханшу Батыя уже сидящею на престоле.
Евнухи-чиновники Баракчины, строго по рангу, стояли по правую сторону престола, а по левую – «фрейлины», из числа знатнейших монголок.
Поодаль же и немного впереди две рослые служанки – одна смуглая, с длинными дешевыми серьгами, а другая похожая обликом на русскую, худая, бедно одетая и пожилая, – обе, стоя внаклон, изнеможенные и вспотевшие, разворачивали перед глазами ханши сокровища чужеземных приношений: и фландрские разноличные сукна, и бархаты, и шелка.
Блистал, отсвечивая, похрустывал и шелестел и дамасский, и византийский, и венецианский шелк.
Глухо постукивали о ковер медленно разворачиваемые служанками тяжелые штуки диксмюндских и лангемарских сукон, золотых и серебряных «земель».
Величаясь и шелками и бархатами, но в то же время как бы и не глядя на них, сидела на белом с золотом троне монголка с лицом юного Будды.
На супруге Батыя был китайский шелковый, неистовых цветов, пестрый и золотом расшитый халатик, как бы с ковровым, бахромчатым, отложным, запахнутым накрест воротником.
На голове Баракчины была роскошная «бокка» – тот непонятный головной убор – вернее, сооруженье, – который изумлял и прежде всего кидался в глаза каждому европейцу: глубокая, охватывающая почти до бровей лоб, зеленая бархатная, туго насаженная тюбетейка с жемчужною низанкой, застегнутой под подбородком. А на тюбетейке надстройка – иначе не назовешь ее! – и, по-видимому, из легкого каркаса, ибо где ж было иначе выдержать шее! – сперва как бы некая узкая полуаршинная колонна, а кверху вдруг переходящая в четырехугольный раструб.
Все это у Баракчины обтянуто было зеленым шелком, в цвет тюбетейки, и украшено гроздьями сверкающих каменьев и жемчугом.
Жемчужно-аметистовые круглые серьги отягощены были перекинутыми на грудь, очень длинными, так что вчуже становилось жаль бедных маленьких ушей ханши, жемчужными же в три ряда подвесками.
Из-под кромки халатика видны были маленькие ножки, обтянутые шелковым красным чулком, обутые в миниатюрные пестрые сафьяновые туфельки на высоком красном каблуке.
Ноги ханши, когда она сидела на троне, чуточку не доставали его подножья.
Не обращая никакого внимания на русского князя – слишком много она перевидала их! – Баракчина тихим, но звонким голосом отдавала краткие ленивые приказанья невольницам, трудившимся над разворачиваньем и свертываньем шелков и сукон.
– Разверни… Довольно… Тот… Да нет же!.. Дура!.. Да… этот! Довольно!.. Тот… – говорила она по-монгольски.
Запах добротного свежего сукна перебивал ароматы восточных курений.
Даниилу больших усилий стоило сдержать улыбку. Остановясь на должном, по татарским обычаям, расстоянии от трона, Даниил по-татарски сказал:
– Да продлятся бесконечно дни твоего благоденствия, императрица!..
Хатунь вздрогнула – от звука ли его голоса, от неожиданного ли и столь благозвучного по-татарски приветствия ей, сказанного этим русским князем, а бььть может, и от впервые услышанного, да еще от чужеземца, титула «императрица», обращенного к ней, – титула, столь вожделенного, которым, однако, именовали не ее, супругу Батыя, а ту, что обитала где-то за Байкалом, эту хитрую Огуль-Гаймышь, которая вертит, как ей вздумается, своим глупым и хилым Куинэ. Подумаешь, «императрица»!..
«Однако где, кем рожден этот высокорослый, темно-русый, нечеловечески прекрасного облика чужеземец?» – так подумалось маленькой ханше с чувством даже некоего испуга, когда оборотила наконец свое набеленное и только в самой середине щек слегка натертое для румянца порошком бодяги плосконосое прелестное лицо.
И уже не понадобилась бы ей сейчас бодяга! – так вспыхнули щеки. Однако буддийски неподвижное, юное лицо маленькой ханши для подданных ее оставалось все так же недосягаемо бесстрастным.
«Понял ли он, этот рус-князь, какие слова я кричала на этих дур? – высечь их надо!» – подумала с беспокойством хатунь и еще больше покраснела. Однако тут же и успокоила себя тем соображением, что, наверное, русский заучил для почтительности и для благопристойности два-три татарских приветствия, как нередко делают даже и купцы – франки и румы. «Сейчас узнаю!»
И, уже вполне справясь со своим волненьем, ханша, не прибегая к переводчикам, слегка гортанным голосом по-татарски обратилась к Даниилу:
– Здравствуй, князь! Мы принимаем тебя, ибо таково было повеленье того, кто излучает свет, приказанье нашего супруга и велителя Бату-каана. Скажи: что можем мы сделать для тебя? О чем ты пришел просить нас?
Положив руки свои – с длинными пунцовыми ногтями – на подлокотники кресла, хатунь застыла в неподражаемом оцепенении.
Черные наклеенные ресницы еще более затенили и без того узкие, хотя и длинные в разрезе глаза.
И снова на ее родном языке, только медленно, необычайный человек ответил:
– Нет, хатунь! Я ничего не пришел просить от щедрот твоих. Но я пришел поклониться тебе тем, что в моих слабых силах. Я пришел засвидетельствовать тебе, что имя твое почитают и народы далекого Запада. Прими, хатунь, пожеланье мое, чтобы ты пребывала вечно в неувядаемой красоте своей. И прошу тебя, отнесись благосклонно к скромному приношению моему!..
Сказав это, Даниил принял из рук мальчика белый, тончайшего костяного кружева, плоский и довольно широкий ларец.
В изящном полуобороте, еще на один шаг приблизясь к престолу, Даниил легким нажимом на потайную пластинку возле замка открыл перед ханшею ларец. Прянула с тихим звоном белая, с большим венецианским зеркалом изнутри, резная крышка, и перед хатунью Батыя сверкнула, повторенная зеркалом, в гнезде голубого бархата, унизанная драгоценными каменьями золотая диадима.
Хатунь пискнула, как мышонок.
Красные высокие каблучки ее туфель стукнули о подножье трона: она привстала.
Но тотчас же и спохватилась, опомнилась. Тонкая меж бровями морщинка досады на самое себя обозначилась на гладком монгольском лбу.
Искоса хатунь глянула по сторонам: видел ли, слышал ли, запомнит ли кто ее восхищеньем исторгнутый возглас?
Но где ж там – и евнухи-чиновники Баракчины, и несколько ее «сенных девушек», и знатнейшие монгольские жены ее свиты, позабыв на мгновенье этикет, заповытягивали шеи, заперешептывались между собою – о диадиме и о ларце. А и не одна только золотая диадима была на том голубом бархате, но и золотые серьги, с подвескою на каждой из одного лишь большого самоцвета – и ничего более! – на тонкой, как паутина, золотой нити, да еще и золотой перстень с вырезанной на его жуковине печатью Баракчины покоились в малых голубых гнездах!
Ханша, уже успокоившаяся немного и притихшая, созерцала то диадиму, то серьги, то самого Даниила.
Что-то говорил ей этот человек – и говорил на ее родном языке, но Баракчина вдруг будто утратила способность понимать речь.
Ее выручил старый евнух – правитель ее личной канцелярии. Простершись перед нею, он промолвил:
– Супруга величайшего! Князь Галицкий, Даниил, просит, чтобы кто-либо из нас, кто разумеет язык греков, огласил бы перед лицом твоим надпись именного перстня-печати: будет ли она благоугодна твоему величеству?
– Да… да… – проговорила Баракчина.
И тогда личный битакчи ханши взял перстень-печать и громко и с подобающей важностью прочел:
– «Баракчина-императрица», – так гласила первая надпись на древнегреческом. А по-уйгурски: «Силою Вечного Неба – печать Баракчины-императрицы».
Маленькая монголка на троне еще более выпрямилась и глубоко-глубоко вдохнула воздух.
Она сделала легкий жест левою рукою, означавший: «Убрать!» Однако ревностные рабыни, скатывая поспешно сукна, произвели шум, и хатунь слегка сдвинула брови. Тогда один из вельмож догадался попросту закрыть всю эту кладовую пурпурным шелковым полотном.
И тогда наконец Баракчина сказала:
– Мы благодарим тебя, князь!
И снова молчание. С великим усилием хатунь отводила взор свой от диадимы. И Даниилу вдруг стало понятно, как хочется этой женщине с лицом отрока Будды выгнать всех за исключеньем служанки и поскорее примерить перед зеркалом диадиму и серьги.
Он подыскал слова, с которыми приличествующим образом можно было бы откланяться ханше.
Но в это время хатунь тихим словом подозвала своего битакчи и что-то еле слышимое приказала ему. Сановник быстро подошел к одной из служанок – исхудалой и бледнолицей, возможно русской, – и что-то спросил ее.
Женщина с глубоким поклоном что-то ответила ему.
Он возвратился к престолу и тоже едва слышно проговорил раздельно какие-то слова почти на ухо своей повелительнице.
Баракчина беззвучным шепотом, про себя, как бы стараясь запомнить, несколько раз повторила их.
Даниил в это время, поклонившись, попросил разрешения не утруждать более своим присутствием императрицу.
И тогда, отпуская его, Баракчина, краснея, однако с видом величественным, сказала по-русски – впервые в жизни своей! – слегка по-монгольски надламывая слова:
– Мы хочем тебя увидеть ичо!..
…Приблизительно через час после возвращения из дворца князь принял в своих покоях двух сановников Баракчины: супруга Батыя прислала князю Галицкому большую серебряную мису драгоценного кипрского вина и велела сказать:
– Не привыкли пить молоко. Пей вино!..
А не более как через день после поднесения печати и диадимы один из ярлыков Баракчины с новою печатью – «императрицы», ярлыков, выданных разным лицам по разным поводам, мчался, зашитый в полу халата Ашикбагадура, прямо в Каракорум, в не отступавшие ни перед чем руки Огуль Гаймышь, в руки великого канцлера Чингия.
Другой же ярлык, с такою же точно печатью, в шапке другого ямчи, Баймура, несся к неистовому, до гроба непримиримому ненавистнику обоих златоордынских братьев – Бату и Берке – к хану Хулагу.
«Яблоко Париса» докатилось и ударило в цель!
Неслыханное благоволение Батыя к Даниилу простерлось до такой степени, что ему, единственному из князей и владетелей, единственному из герцогов, разрешалось входить к хану, не снимая меча.
И весьма круто изменилось отношение к галицким среди всевозможных нойонов, батырей, багадуров и прочих – несть им числа! – сановников хана.
Правда, по-прежнему вымогали подарки – все, начиная от канцлера, кончая простым писцом и проводником, однако с некоторой опаскою, и не обижались, не пакостили, получая отказ.
– Что с ними будешь делать, Данило Романович! – восклицал дворский. – Вся Орда на мзде, на взятке стоит!.. Видно, уж ихняя порода такая!..
Особенно же заблаговолил Батый к Даниилу после золотой диадимы и перстня с печатью.
Дар свой, пребывавший у Баракчины в великом почете, князь Галицкий мог созерцать на первом же приеме послов, где ему, вместе с дворским, предоставлено было в зале наипочетнейшее место – на правой, считая от хана, ближней скамье царевичей.
Здесь Даниил впервые увидел Невского, однако и не приветствовал его и даже виду не подал, что знает.
Юный Ярославич нахмурился.
Баракчина, сидевшая на приеме рядом с Батыем на троне-тахте, только одного и приветствовала Даниила легким наклоненьем темноволосой, гладко причесанной головы, которая на сей раз, вместо диковинного убора, увенчана была тою самою диадимой, что преподнес Даниил.
И драгоценные подвески князя также сменили прежние, жемчужные, – и казалось, что реют, что сами плавают вкруг смуглой и стройной шеи ничем не удерживаемые самоцветы.
Особый почет, воздаваемый князю Галицкому на каждом шагу, был всеми и чужеземными замечен.
А были тут, кроме русских князей и послов, кроме грузинского царевича, бесчисленное множество прочих коронованных владетелей: были и от китаев, и кара-китаев, и булгар, и куманов, и меркитов, и туркоманов, и хазаров, и самогедов, и от персов, и эфиопов, и от Венгрии, и от сарацинов – всего от сорока и пяти народов!
После большого посольского приема князь был снова позван к Батыю, на этот раз вместе с дворским.
Беседовали за кумысом, пилавом и фруктами – неторопливо, о многом, и мысль и воля карпатского владыки боролись с мыслью и волей азиатского деспота, как бы переплетаясь и обвивая друг друга, подобно двум гладиаторам, которые, уже отбросив мечи, стиснули друг друга в крепком, смертельном, а извне как бы в братском объятии.
– Князь Данило, – сказал вдруг Батый, – почему все приходящие ко мне государи просят у меня один – то, другой – другое, ты же у меня ничего не просишь? Проси: ты отказа не встретишь.
Батый испытующе смотрел в лицо Даниилу.
– Великий казн! – сказал Даниил. – Возврати мне моего Дмитра!
Батый надвинул брови.
– Того нельзя, князь, – угрюмо ответил он.
Наступило молчанье.
– Это, – промолвил, вздохнув, Батый, – даже и вне моей власти! Твой доблестный тумен-агаси недавно умер. Но его прах с великими почестями вашими единоплеменниками похоронен за городом, на христианском кладбище… Я держал Дмитра, хотя он был и захвачен с оружием, поднятым на меня, в великой чести, точно нойона. Дмитр умер…
– Я знал это… – тихо промолвил князь. – Разреши мне перевезти его прах, дабы похоронить на родной, на карпатской земле…
Возвратясь после этой аудиенции, князь и дворский сперва тщательно просмотрели все настенные ковры, а затем стали делиться наблюдениями.
– Да-а… одряхлел хан, – сказал дворский. – И, видать, желтенница у него и отек… А будто бы и кила: нет-нет да и за чрево двумя руками схватится… Али желудок у него больной? Онемощнел, – добавил дворский, покачав головой, – а ведь, почитай, боле пяти десятков ему никак не будет. Но то больше от беспутства! Мыслимо ли дело столько иметь жен? В его ли это годы?! Ну и пьянство! Вино-то само собой. Но и кумыз ихний тоже! Я ежели выпью того кумызу три чашки, то и головы делается круженье!
– Как?! – изумился князь. – Ты уже и кумыз пьешь? И не брезгуешь? Так на тебя ж теперь митрополит Кирилл епитимью наложит!
Дворский лукаво отразил нападенье.
– После тебя, княже, что не пить! – воскликнул он. – Коли ты испил – все равно что освятил!..
Даниил рассмеялся и только головой покачал.
– Увертлив! – проговорил он.
А Андрей-дворский, уже и без тени усмешки, продолжал:
– Но если, княже, того кумызу испивать в меру, то на пользу!
– То-то я смотрю на тебя, – пошутил князь, – в бегах, в бегах, а потолстел как!
– Шутки шутками, Данило Романович, – сказал дворский, – но разве я для себя творю? Да ведь мне муторно у них на пиру. Неключимое непотребство творят!.. А говорят между собою – якобы себе в горло, ужасным и невыносимым образом. А как запоют!.. – Дворский схватился за голову. – Как быки али волки!.. А черное молоко свое, тот кобылий кумыз, ведрами пьют, будто лошади, – и то не в пользу!.. Тошно смотреть! А хожу по ним, зане постоянно зовут на гостьбу: то векиль, то какой-либо туман-агаси, то иной какой начальник; а намедни сам букаул позвал – то как не пойти?! – нашему же будет народу во вред!..
– Ох, Андрей Иванович! – сказал Даниил. – Боюсь, отгостят нам они как-нибудь за все сразу! Батый сам говорил мне, что весной собирается в великий поход…
– Ничего, Данило Романович! Поборает Господь и сильных! – успокоил его дворский. – Аще бы и горами качали, то все едино погибели им своей не избегнуть!.. А я про то и хожу и кумыз их кобылий пью, что разведки ради! – сказал он, понизив голос. – Ты знаешь, Данило Романович, – продолжал он, – от кого приглашенье имею на гостьбу? Диву дашься! От Соногура Аеповича, которого ты выгнал. Но уж тут переломить себя не могу! А надо бы сходить. Сей Соногур – он все с Альфредом-рыжим между собой перегащиваются. А Альфред-то враг наш лютый, да и как иначе? – из темпличей, из тевтонов. И Альфредишко тот наушничает хану все на тебя: «Он, мол, не хочет ни войска, ни дани давать… А ты, хан, дескать, ему потакаешь!..»
Так, мешая дело с бездельем, частенько беседовал с князем своим дворский. И тот любил эти беседы его, ибо у дворского был хваткий глаз, и памятливое ухо, и смекалка, и большой ум.
А теперь дворский невозбранно ходил по всей столице улуса – было и заделье: собирать и снаряжать к выезду пленных, которых выкупил у Батыя князь, – и галичан, и волынцев, и киевлян, и берладников.
Так что видел он много – от дворцовых верхов до преисподней, где под бичами надсмотрщиков, в зубовном скрежете, изнемогали и гибли сотнями от каторжного труда, от голода и мороза русские пленные.
– Жалостно зрети на наших людей, княже! – не в силах удержаться от слез, говорил дворский. – Сердце кровью подплывает! Ну, еще мастеры, рукодельцы – те как-никак, а прозябают, друг друга поддерживают: в братствах живут, в гильдиях. Ну, а которых татаре к себе разобрали, на услугу, – те на помойках у псов кости отымают, до того оголодали!
И с неистовым рвением, но и с немалой осмотрительностью отбирал дворский пленных для возврата на родину. О каждом узнавал, чем занимался в Орде, каков был для братьев, не отрекся ли от веры и отечества своего.
Однажды к Даниилу пришел в караван-сарай старейшина крымских караимов, плененных Батыем и угнанных в Золотую орду: он умолял князя выкупить их и поселить где-либо в Галичине. Было их двести семейств.
Князь посоветовался с дворским.
– А дельные люди, князь, и трудовые, и оборотистые: от таких государству – польза. Караимы – они и здесь, в Орде, стройно живут. На мой погляд – надо их выкупить, княже.
Князь отпросил у Батыя и караимов.
Шла уже четвертая неделя пребывания князя Даниила в Орде. Дела приходили к завершению. Готовились в обратный путь. Дворский поднимался ни свет ни заря. Возвращался же только под вечер, запыленный, усталый.
– Ух… пришел есмь! – утирая пот красным платком, говаривал он. – Охлопотал караимов! И лошадей под наших пленных дадут, сколько надо. Дровни, сани, хомуты с великой радостью сами взялись строить наши галичаны, волынцы… Княже, – сообщил он, и скорбя и радуясь, – а тот ведь слепец на родину просится ехать!.. А и божевольна дивчина просится.
– Ну дак что ж, возьмем!.. – Отвечал князь. – Очи, правда, не возвратишь. Ну, а этой девушке, не вернет ли ей рассудок родимая сторонка? Про то не нам знать… А возьми!
Не выходя из своих покоев никуда, помимо аудиенций у Батыя, князь знал и видел благодаря дворскому все, что совершалось во всех закоулках и клеточках утробы чудовищного левиафана, именуемого Золотой ордой.
А что совершалось в голове этого чудовища – об этом своевременно сведать и разгадать ставил он задачею для себя самого.
Каждая встреча с Батыем, с ханом Берке, с нойонами приносила ему что-либо новое.
Каждодневные доклады Андрея-дворского восполняли недостающее.
Дворский сведал и уразумел в Поволжском улусе многое: начиная от всех тонкостей механизма гениальной китайской администрации, от изумительного устройства конницы буквально вплоть до копыта лошадиного.
– О! Княже! – говорил он. – Долго еще нам с ними не потягаться!
Он принимался рассказывать:
– Смотрел я, смотрел на их конницу: экое сонмище! Где же тут совладать!.. Нет! Доколе союзных нам нету – одна надежда на строителей, на градоделей наших, что крепости созидают, – на Авдия, на Олексу, на прочих! А на чистом поле не устоять! И правильно ты, Данило Романович, устроял. И впредь надо города укреплять. Но и конницы добывать, елико возможно!
Однако воевода, высоко оценивая татарскую конницу в массе, о каждом отдельном всаднике отзывался пренебрежительно:
– Сидит некрепко. Сковырнуть его не долго дело. Телом против наших жидки. А пеши ходить вовсе не способны. Но лошадь ихняя, Данило Романович! – Дворский от восхищения закрывал глаза, прищелкивая языком. – Копыто у ихней лошади твердее железного! Подков не кладут. Некованая отселе и до нашего Карпата дойдет. Копытом своим корм из-под снегу, из-под чичеру выбивает прошлогоднишний! Это есть конь!.. Одним словом – погыбель Западу!
Даниил внимательно слушал его.
– Норов и обычай их пестрый, – говорил дворский. – Есть хорошее, есть худое. Самое лучшее, я считаю: нету у них, чтобы кто из войска сотворил нечто бы самовольно. А когда хан прикажет, то и в огонь головой кинутся! Что царь потребует – свято! И обычай добрый имеют: спать в шатрах при полном вооруженье. И сызмальства, с двух-трех годков, учатся стрелять, и копья метать, и на конях ездить, – учатся, окаянные, художествам сим!
И вдруг разводил руками в недоуменье и начинал осуждать:
– А работать – глядишь, все женщина и женщина! Ленивцы эти татары, мужской полк, и не говори!.. Разве что кобылу когда подоит да кумыз потрясет в турсуке! А с телегами ихними – арбами – все татарушка, бедная, ворочает! Мужик ихний – только бы ему война, да грабеж, да охота! Более нет ничего! Не любят работать!..
Не укрылось от зоркого его взгляда и расслоение Орды:
– Богатый у них тоже бедными помыкает: просто сказать – как вениками трясет! Взять хотя бы кумыз: ведь в том и радость им, и пища, и лакомство. А простой татарин всю зиму и чашки единой кумызу не увидит. У богатых – у тех и всю зиму не переводится. И богаты татары уж до чего же ленивы! – лень ему, барсуку, даже и ладонь свою за спину дотянуть, когда спина зачешется. Но другие ему спину чешут!
Дворский едва не плюнул.
Сильно расхваливал рынки.
– Рынок у них, что море!
Не нравилось ему, что при этаком богатстве Орды нет у татар призрения нищих и жалости к больным.
– У нас ведь на Руси к нищим жалостны: издревле ведется. А у татар – захворал, занедужил, сейчас возле шатра черну тряпку на копье взденут: не ходите сюда, здесь больной! Ни больниц у них нету, ни странноприимных домов, ни богаделен!
Иное увиденное им в Орде вдруг неожиданно изумляло и умиляло дворского:
– А огольцы у них, ребятишки, в бабки тешатся, в свайку, ну точно бы наши, галицки!.. Стоял я, долго смотрел. Только понять ихню игру не мог. Девчушки – те в куклы играют, в лепки, в мяч тряпишной… Ну точно бы наши!..
И слеза навернулась на глаза воеводы.
– Не утерпел, княже, дал им леденца: своих ребятишек вспомнил…
Беседы с дворским были не только что пригодны, но подчас и утешительны князю. Иногда же – забавны:
– Хан к сударке пошел…
Поражаясь охвату его наблюдений, Даниил как-то пошутил с ним:
– Эх, Андрей Иванович, и всем бы ты золото, да вот только неграмотен ты у меня! Это не годится! Тебя же и государи западные и послы именуют: «палатинус магнус». Нет! Как только возвратимся в Галич, так сейчас же за книгу тебя посажу. К Мирославу – в науку.
Дворский не полез за словом в карман:
– То воля твоя, княже. Прикажешь – и за альфу сяду, и до омеги дойду! Но только и от книг заходятся человецы, сиречь – безумеют! Ум мой немощен, страшуся такое дело подняти!..
Помолчав, добавил:
– А вот про Батыя говорят, будто и вовсе малограмотен: только что свой подпис может поставить!..
4
Дня за два до выезда из Орды Андрей-дворский сказал Даниилу:
– Княже! Соногур на базаре мне повстречался: тоже всякую снедь закупает на обратный путь. Олександр Ярославич свое отбыл у Батыя: к выезду готовится.
– Когда? – как бы между прочим спросил князь.
– В среду, до паужны.
– Среда – день добрый ко всякому началу, – сказал князь. – Увидишь Поликарпа Вышатича, скажи: брату Олександру кланяюся низко.
Дворский опять заговорил о Сонгуре:
– Я ведь не домолвил, княже. Соногур на рынке и говорит мне: «Прискорбно, говорит, для меня, если худодумием своим огневал твоего князя. Да простит! Хочу, молвит, повинну ему принести: прощенья попросить. Узнай: не допустит ли перед светлые свои очи?»
– Нечего ему у меня делать, – отвечал князь.
– Ино добро! – довольный тем, сказал дворский. – Соногур тот не иначе лазутчик татарский, а и пьяница, празднословец, развратник! – добавил он.
– Вот что, Андрей Иванович, перебью тебя, – сказал князь. – А у тебя все готово в дорогу?
Дворский даже обиделся:
– У меня-то, княже?
– Добре! – сказал князь. – И у меня все готово. А уж досадила мне погань сия донельзя!
– И мне они, княже, натрудили темя пронырством своим бесовским и лукавством! Надоело кумызничать да хитрить с ними: который кого!
– Прекрасно! – заключил князь. – А среда – хорош день для всякого доброго начинанья!
Дворский понял.
Потеплело. Стоял неяркий зимний денек. Шел тихий и редкий снег. В безветрии и не понять было, падают или подымаются большие снежины. Под расписными дугами княжеской тройки звенел золоченый колоколец, а на хомутах пристяжных, ярившихся на тугой вожже, сворачивавшихся в клубок, мелодично погромыхивали серебряные круглые ширкунцы.
Галицкие ехали к северу по льду Волги, держась правого, нагорного берега. Местами начал уже встречаться набережный лесок.
Ехать льдом Волги, дабы не измытариться опять в половецкой степи, посоветовал дворскому Вышатич.
– Зимою мы завсегда так ездим в Орду, – сказал он. – Уж глаже дороги не сыщешь! Суметов гораздо меньше. Только правого берега держитесь. А по стрежени такие крыги в ледостав наворочало – рукой не досягнешь!.. Волгою поезжайте!..
Решено было ехать сперва на север льдом Волги, вплоть до Большой Луки, а там уже свернуть на запад, на устье Медведицы, и далее – прямо на Переславль, людными, хотя и сильно опустошенными местами.
…Князь ехал в возке, но так как было тепло, то откидной верх кибитки, на стальных сгибнях, снаружи кожаный, изнутри обитый войлоком и ковром, был откинут.
Даниил надел тулуп наопашь, сдвинул слегка соболью шапку на затылок и ехал в одном коротком гуцульском полушубке. На его ногах были сапоги из оленьего меха.
Князь дышал отрадно и глубоко.
«Боже! – так думалось Даниилу. – Да неужели же все это позади: Батый, верблюды, кудесники, ишаки и кобылы, лай овчарок, не дававший спать по ночам, и все эти батыри, даруги, нойоны, агаси, исполненные подобострастия и вероломства, их клянча, и происки, и гортанный их, чуждый русскому уху говор, и шныряющие по всем закоулкам – и души и комнаты – узкие глаза?! Эти изматывающие душу Батыевы аудиенции… Неужели все это позади, в пучине минувшего?
Неужели скоро увижу увалы Карпат, звонкий наш бор, белую кипень цветущих вишневых садов… Анку?.. Неужели вновь буду слышать утрами благовест холмских церквей?.. Дубравку мою увижу?!»
Так и порывало крикнуть на облучок, чтобы дал волю тройке лютых коней, которых, однако, сам же он приказывал сдерживать, сколь возможно.
И ехали медленно. Иногда же останавливались и поджидали.
Дворский, ехавший впереди, на розвальнях, чтобы проминать дорогу, то и дело слезал и, пробежав обратно, до конца растянувшегося по белой льдяной равнине галицкого поезда, долго с последней подводы всматривался назад.
Потом возвращался к повозке князя, присаживался на боковом облучке и говорил:
– Еще не видать, княже. Но должны догнать непременно. Поликарп Вышатич заверил в том. А его слово – то все равно что крестное целованье.
И впрямь, когда зимнее солнце, багровое, стало западать на правый берег Волги, когда рубиновой стала снежная пыль, а тени лошадей на снегу сделались неправдоподобно длинными и заостренными, будто неумелой рукой мальчугана выстриженные из синей бумаги, дворский заметил, как из-за белого, накрытого снегом утюга-утеса вымчалась первая, заложенная тройкой, яркая ковровая кошевка князя Александра.
Спотыкаясь в снегу, дворский кинулся известить своего князя.
– Едут! – только и смог проговорить он, завалясь в возок Даниила. А когда отдышался, то изъяснил: – Олександр Ярославич догнали нас!..
Уже поблизости звенел новгородский звонкий колоколец, и осаженные на всем скаку, храпя и косясь налитым кровью оком, разгоряченные пристяжные жадно хапали снег.
Прочие сани и кошевы, где разместились дружина и воины Александра, вскоре примкнули в конец поезда галицких.
Даниил поспешно сронил накинутый на плечи тулуп, вышел из возка и пошел навстречу приближавшемуся Александру, высвобождая правую руку из длинной, с раструбом, шагреневой готской перчатки.
То же самое сделал и Александр.
Встреча их произошла на льду Волги, возле выдвинутого над берегом, накрытого сугробом утеса.
На мгновенье остановились. Снова шагнули. Приблизясь, одновременно сняли левой рукой шапки и, обменявшись крепким рукопожатьем, обнялись и облобызались друг с другом троекратным русским лобзаньем.
Легкий парок клубился от их дыханий в зимнем воздухе.
– Сколько лет вожделел сего часа, брат Александр! – промолвил властелин Карпат и Волыни.
– Всей душой тянулся к тебе, брат Данило, – ответствовал голосом столь же благозвучным и мощным, голосом, обладавшим силою перекрывать и само Новгородское вече, победитель Биргера и тевтонов.
Молчали.
Душа их испытывала в тот миг неизреченное наслажденье – наслажденье витязей и вождей, впервые созерцающих один другого!
«Так вот где встретились по-настоящему… Мономаховичи, одного деда внуки!..»
Порошил легкий снежок, ложась на их плечи и волосы. Тишина простерлась над белою Волгой. Лишь изредка вздрагивал под дугой колоколец. Всхрапывал конь. И опять – белая снежная тишина…
На ветвях нависшей с берега, отягощенной пышным снегом березы трескотала сорока, осыпая куржак. И снег падал с ветвей – сам точно белая ветка, разламываясь уже в воздухе. А иногда и долетал не распавшись, и тогда слышно было падение этого снега, а в пухлом сумете под березой обозначалась продолговатая впадина, будто и от впрямь упавшей ветки.
Оба в оленьих меховых унтах, в коротких княжеских полушубках, светло-румяные, подобные корабельным кедрам, высились Мономаховичи даже и над дружинами своими из отборнейших новогорожан, псковичей и карпаторусов!
О таких вот воскликнул арабский мыслитель и путешественник: «Никогда не видал я людей с более совершенным сложеньем, чем русы! Стройностью они превосходят пальму. У них цветущие и румяные лица».
Даниил любовался Александром:
«Так вот он каков, этот старший Ярославич, вблизи – гроза тевтонов и шведов! – светло-русый, голубоглазый юноша! Да ведь ему лишь недавно двадцать и четыре исполнилось. В сыны мне! Да еще и пушком золотится светло-русая обкладная бородка. И самый голос напоен звоном юности! Но это о нем, однако, об этом юном, пытали меня и Миндовг, и Бэла-венгерский, и епископы – брюннский и каменецкий – легаты Иннокентия. Это о нем говорил скупой на хвалу князьям Кирилл-митрополит: „Самсон силою, и молчалив, и премудр, но голос его в народе – аки труба!“»
И со светлой, отеческой улыбкой князь Галицкий проговорил:
– Ну… прошу, князь, в шатер мой! – Даниил повел рукой на возок и слегка отступил в снег, пропуская вперед Александра.
Стремглав кинулись по коням, по кошевам и окружавшие их дружинники – новгородцы, суздальцы, волынцы и галичане – и возчики, столпившиеся вокруг.
Облучной князя Даниила разобрал голубые плоские, с золотыми бляхами, вожжи, приосанился, гикнул – и запели колокольцы! И понеслись, окутанные снежною пылью, уже ничем теперь не удерживаемые кони-звери!..
Буранная, безлунная ночь. И хотя по льду, Волгою ехали, но едва было не закружили, – да ведь и широка матерь!
Раза два заехали в невылазный сумет.
И Андрей-дворский, приостановив ненадолго весь поезд, приказал запалить на передней подводе и на княжеской высоченные берестяные свечи, укрепленные на стальных рогалях, – нечто вроде факелов, туго свернутых из бересты.
Даниил велел накинуть кожаный верх болховней, в которых они ехали вдвоем с Ярославичем.
Горела в ковровом возке большая восковая свеча, озаряя лица князей.
Мономаховичи, одного деда внуки, – о чем говорили они?
О многом. И о Земле, и о семьях. И о Батые, и о святейшем отце. О Фридрихе Гогенштауфене и об императоре монголов – Куюке.
И хотя надежнейший из надежных дружинник сидел на козлах княжеского возка, однако князья предпочитали иногда говорить по-латыни.
Ярославич рассказывал, как на сей раз погостилось ему у Батыя. Худо! Хан орал, ярился, кричал, что высадит из Новгорода, а посадит где-нибудь на Москве, чтобы и княжил под рукою, да и чтобы не заносился.
– Москва? – и владыка Карпат и Волыни, как бы припоминая, взглянул на Александра.
Тот ответил:
– Суздальский городец один. Деда, Юрья, любимое сельцо.
Говорили о том, что Миндовг литовский уже захватил и Новгородок на Русской Земле, и Волковыск, и, по всему видно, зарится на Смоленск.
– Да-а… – сказал Ярославич. – Черный петух литовский не уступит серому кречету Чингиза. Разве крылом послабее! Но продолжай, князь!
И Даниил раскрыл перед Александром свои подозренья. Говорил ему о том, что не случайно же Фридрих-император, только что многошумно сзывавший христианских государей в крестовый против монголов поход, вдруг как-то затих, притулился где-то в своем недосягаемом замке и даже признаков жизни не подал, пока Батыевы полчища топтали земли Германии.
И если бы не воевода чешский, Ярослав из Штаренберга, а в Сербии если бы не князь Шубич-Дринский!..
Да что говорить! Случайно разве – в одночасье с Батыем – и тевтоны и шведы ударили с двух сторон против Александра, приковав к Шелони, к Неве, к Ладоге отборнейшие его силы?!
Ярославич усмехнулся.
– Покойник Григорий-папа – тот анафемствовал даже и меня и новогорожан моих! – сказал он. – Однако прости, брат Даниил, и прошу тебя, продолжай!
И князь Галицкий развернул перед юным братом своим улики чудовищного заговора против Руси.
Германия. Тевтоны. Меченосцы. Шведы. Фридрих Гогенштауфен, фон Грюнинген, ярл Биргер фон Фольконунг – ведь это же отбор среди лучших стратегов Запада! И что же? Все это ринулось не против Батыя, нет! – а против христианской Руси: против Александра и Новгорода, против Даниила и Волыни!
В марте тридцать восьмого года татары берут Козельск. И в тот же год, в тот же месяц немцы воюют волынскую отчину Даниила. Он вынужден драться с немецким орденом за Дрогичин, откуда гигантский паук-крестовик силится раскинуть лапы свои и на всю остальную Волынь.
Разве это случайно, что знаменитый полководец Батыя Урдюй-Пэта, тот самый, что вторгся в Чехию и взят был чехами в плен, оказался англичанином-тамплиером, родом из Лондона? Сэр Джон Урдюй-Пэта! И ведь, возвращенный из плена, этот христианнейший полководец Батыя не был удавлен тетивою лука, нет, а только отстранен от вождения войска и поставлен в советники к хану!..
А Бэла? Миндовг? Едва прослышал сей последний, что венгры вторглись в Галичину, как тотчас кунигасы его устремились к востоку, и многое – и Торопец и Торжок – заяты были мечом. Спасибо, брат Александр вовремя шатанул их у озерца Жизца – так, что не оставил и на семена!
А ведь тот же Миндовг ему, князю Даниилу, обещал помощь. Приволоклись помогать, когда уже и побоище остыло!
Думалось ли брату Александру о том, почему спокоен оставался святейший отец Иннокентий – человек не из храбрых, – когда Батый стоял уже в предместьях Венеции?
Случайно ли Субут-багадур поворотил свои загоны на далматинцев, на хорватов и сербов, когда уже кардинал Иннокентия в страхе готовился покинуть Венецию?
Случайно ли советником у Батыя по делам Европы – немец, рыцарь-тевтон Альфред фон Штумпенхаузен?!
И князь Даниил рассказал Александру происшествие с шапкой и кошельком.
Попутно он предостерег брата Александра о Сонгуре.
Ярославич нахмурился.
– Сомнителен и мне этот Сонгур, – проговорил он. – А ничего не поделаешь: отца ближний боярин!
В свою очередь Александр рассказал Даниилу, что когда они с братом Андреем были в Каракоруме, у великого хана Угедея, то и у этого консулом по европейским делам тоже был рыцарь-тамплиер, только англичанин из Оксфорда.
Говорили о единенье друг с другом, о согласованье усилий, о том, как бы обойти неусыпную бдительность баскаков, говорили о неуемных распрях князей. Александр сетовал на дядю своего Святослава – подыскивается в Орде!
Вспомнилось братьям, что и отец Даниила изведал новгородского княженья.
Нахмурясь, Невский сказал:
– Горланы. Вечники. Сколь раз покидал их!
Даниил рассмеялся.
– О! Брат Александр! – сказал он. – Эти горланы пошумят, погалдят, а чуть что – головы за тебя сложат! А бояре у тебя на строгих удилах ходят. Но посидел бы ты в Галиче моем – изведал бы Мирославов, Судиславов моих!
– То верно, – согласился Александр. – Дед мой, отец княгини твоей, и не рад стал, что добыл Галич!..
Вспомнили братья и пращура своего, Мономаха, и Долобский его и Любечский съезды. Скорбели, что сейчас уже и помыслить нельзя о том, да и поздно – отошло время княжеских съездов! – над каждым князем сидит баскак, в семье и то уж Батыевы наушники!
И признали – одного деда внуки, – что если окинуть оком, не обольщая себя, обозреть все и всех, и на Западе и на Востоке, то и не на кого им уповать, как только один на другого.
Наступило молчание.
Откинувшись в свой угол возка, сдвинув совсем на затылок соболью шапку, открыв большой лоб, властелин Карпатской Руси долго в раздумье любовался Ярославичем.
И наконец, от всей-то души, попросту и как бы с великою болью душевной, тихо проговорил:
– Эх, Саша… Сына бы мне теперь такого!.. Ты – у моря своего, я – на Карпатах!..
Ярославич зарделся…
И опять к языку Цицерона прибегли они, когда заговорили о семейном. И странно и чудно прозвучало бы какому-либо Муцию, Сципиону или Атриппе в безукоризненной римской речи по-русски произносимое: «Княжна Дубравка, князь Андрей Ярославич, Кирилл-владыко, Батый!»
И не один испылал снаружи берестяной багрово-дымящий факел, и не одна догорела ярого воску свеча внутри ковровой кибитки, мчавшейся в буранную волжскую ночь.
Надлежало расстаться. Суздальским – дальше к северу, Волгою, галицким – налево, в Переславль.
Время от времени делали краткие остановки – дать выкачаться лошадям. И тогда и Александр, и Даниил, и дружина выходили поразмять ноги.
Кичливые силачи новгородцы и ухватистые, проворные суздальцы сами напросились было на одной из стоянок бороться – в обхват и на опоясках, только без хитростей, без крюка, без подножки, а на честность, с подъемом на стегно.
А и зря напросились – клали их галицкие! – только крякнет иной бедняга новогорожанин, ударенный об лед!
– А не надо было нам соглашаться без подножки! – огорчались володимирцы, суздальцы и новгородцы.
Александр же Ярославич, неодобрительно усмехнувшись, сказал, с досадою на своих, слегка пощипывая пушок светлой небольшой бороды:
– Что же вы, робята мои?! Срамите князя. Данило Романович скажет: плохо он, видно, кормит своих!..
Новгородцы и суздальцы стояли понуро.
– Да то от валенков! – попробовал было оправдаться один.
– Разулся бы!
И тогда, осмелев, один из парней, во всю щеку румяный, громко и задорно сказал:
– Круг на круг не приходится! Сборемся еще!..
– Ну смотрите!.. – отвечал Александр.
Как-то одной из темных ночей Андрей-дворский, взявший за правило совершать еженощный обход не только своих, галицких поезжан, но и новгородских, прибежал к повозке князя таков, что и лица на нем не было.
– Княже! – вымолвил он, всхлипнув. – Подлец-от Вышатича-то ведь убил!
Одним прыжком Даниил очутился на снегу. Оба кинулись к новгородским. А там уже, у последнего возка, пылали во множестве берестяные факелы в руках рослых дружинников, багровым светом своим озаряя сугробы и угрюмые лица воинов.
В середине круга стоял сам Александр. Перед ним за локти держали Сонгура.
– Отпустите его, – приказал Невский, – не уползет!.. Ты? – угрюмо спросил он Сонгура и указал рукою на труп Вышатича, лежавший тут же, на снегу, прикрытый по грудь плащом.
Пробит был левый висок чем-то тяжелым и острым, и крупные брызги загустелой крови, точно рассыпавшаяся по снегу застывшая брусника, видны были на заиндевевшей щеке и на бороде.
Сонгур молчал.
– Ты?! – возвыся голос, произнес Александр опять одно это слово, но произнес так, что иней посыпался с береговых деревьев и шарахнулись кони.
Сонгур рухнул в снег на колени.
– Прости! – прохрипел он, воздев свои руки. – Враг попутал… Поспорили… Слово за слово: он меня, я его!..
– Полно лгать! – проговорил Ярославич, ибо уже дознали другое.
Не доверяя Сонгуру, Вышатич со встречи Александра и Даниила ехал все время на самой задней подводе.
В ту самую ночь в кошевку задремавшего Вышатича подсел Сонгур. Слова два перемолвив с полусонным, он ударил его свинчаткой в голову и проломил кость. Затем кинулся на оглянувшегося было облучного и оглушил. Затем выбросил обоих в сугроб и заворотил лошадь.
Однако и оглушенный, поднялся новгородец из снега и кинулся вслед, крича. Через задок вметнулся он в кошеву, и повалил, и притиснул Сонгура коленом, а там уже прибежали остальные.
Сонгур намеревался вернуться в Орду и немедля донести Батыю, что Александр и Даниил встретились и что встреча их была преднамеренной.
Сонгур Аепович обнимал ноги князя. Просил хоть немножечко повременить – не судить его, обождать, пока вернется из Большой орды Ярослав Всеволодич:
– Я ведь – его человек!
Супились воины:
– До чего ехиден!
– Княже, – спрашивали угрюмо, – в железа его?
– Пошто! – негодуя, возражали другие. – Чего там еще с ним меледу меледить! Кончить его на месте – и конец!
Прядали ушами и косились на мертвое тело кони. Пылали, дымя и треща, факелы. Падал снежок.
Выл у ног Александра Сонгур.
– А хоть бы и весь снег исполозил! – медленно проговорил Невский.
И, как будто боясь даже и ногой опачкаться о Сонгура, на целый шаг отступил.
– Встать! – вдруг закричал он.
Боярин, пошатываясь, поднялся.
– Да-а… – все еще не веря тому, что произошло, проговорил Александр. – Знал, что сомнителен, а не думал, что до такой степени гад!
– Княже!.. – начал было Сонгур, заглядывая князю в лицо, но тотчас и осекся.
Из голубых страшных глаз Александра глядела ему в лицо неподкупная смерть.
Из-под сугроба торчали две оглобли. На одной из них – красная шляпа.
Дворский, ехавший на передних санях, остановился и остановил весь поезд.
Вышел князь Даниил.
– Княже! – сказал дворский. – Прикажи откапывать – замело-занесло православных…
Даниил взглянул на верхушку оглобли с красной шляпой и ничего не сказал, только усмехнулся.
В две деревянные лопаты – без лопат как же в такой путь! – принялись откапывать.
Лопаты стукнули в передок саней.
– Бережненько, робята! – приказал дворский. – Гляди – ко – шубное одеяло! – добавил он, когда возчики раскидали снег с погребенных под сугробом людей. – Богаты люди!
В больших розвальнях, под общей меховой полстью и каждый в тулупе, лежали трое скрючившихся мужчин, подобно ядрам в китайском орехе.
Подымался легкий парок.
– Живы! – обрадованно вскричал дворский.
Один из лежавших под снегом простонал и начал приподыматься, цепляясь закоченевшими руками за отводину саней. Шапки на нем не было. Седая голова была повязана заиндевевшим шарфом. Ветер шевелил короткие седые волосы.
Короткая и тоже седая и, как видно, по нужде запущенная борода и усы щетинились на тощих, сизых от холода щеках.
– Ну-ну, отец!.. Подымайся, подымайся, батюшко!.. – соболезнующе проговорил дворский, подпирая старика под спину.
Тот, мутно поводя очами, что-то проговорил.
– Ась? – переспросил дворский, приклоняя ухо. – Нет, не по-русски глаголет! – сказал он обступившим сани дружинникам и воинам.
Даниил, успевший уловить несколько бессвязных латинских слов, произнесенных залубеневшими устами незнакомца, спросил по-латыни:
– Как ваше имя, преподобный отец? – ибо князь теперь уже не сомневался, что перед ним католический священник.
– Иоаннэс… – начал было старец, глядя в наклонившееся к нему лицо Даниила, однако далее этого не пошло и с посиневших губ долго срывалось лишь многократно повторяемое какое-то «плы» и «пры».
– Иоаннэс де Плано-Карпини?! Легат апостолического престола! – вырвался у князя Даниила возглас невольного изумленья. – Боже мой! Епископ! Но… как вы здесь? И что произошло с вами?
Ответ на это князь вскоре и получил – ответ искренний и подробный, – когда, отпоив и оттерев папского легата и двоих его спутников – киевлянина Матвея и второго, монаха-францисканца, Бенедикта-переводчика, князь взял Иоанна Карпини в свою повозку.
– Латынский бискуп! – успел сообщить дружинникам и возчикам, обступившим его, Андрей-дворский. А князю своему успел шепнуть на ухо: – Ох, Данило Романович! Не вверяйся сему старику: нос клином и губы тонки, щаповаты, – хитер!
Посоветовавшись с дворским, князь решил, что легата и Бенедикта они довезут до ближайшего стойбища, подвластного Батыеву зятю, и здесь он, Даниил, как обладающий теперь пайцзою царевича Батыева дома, окажет Карпини содействие в продолжении его пути.
Вот что поведал, без утайки, князю Галицкому брат Иоанн де Плано-Карпини, из ордена миноритов, и в то же время странствующий легат святейшего престола, прославленный виноградарь католической церкви среди славян Пруссии, а также в Польше, в Чехии, Венгрии и в Литве, златоуст католицизма.
На прошлогоднем соборе в Лионе верховный Понтифекс огласил следующее: святейшего отца волею и советом кардиналов, излюбленнейший из братьев Иоаннэс де Плано-Карпини, ордена миноритов, сразу после сего собора будет послан с другим францисканцем, Бенедиктом, сперва к Батыю, а там, если представится возможным, то и далее – на Орхон, к самому императору монголов, Куинэ-хану.
Легат получил указание все узнавать и рассматривать у татар внимательно и усердно.
«У татар ли только?» – подумалось Даниилу.
Плано и Бенедикт ехали сперва через Германию. Один из вассалов императора Фридриха – король Богемии Оттокар оказал легатам достодолжную встречу и препроводил со своим письмом к племяннику своему, герцогу Силезии Болеславу. Оный же в свою очередь – к герцогу Лаутиции Конраду Мазовецкому. Но в Кракове был в это время князь Василько. И, по горячей просьбе герцога Болеслава, Василько Романович взял Карпини с собою, дабы тому было безопаснее ехать, и привез его в Холм.
Даниил с все большим вниманием слушал повествование брата Иоанна.
– Ходатайство Болеслава и Конрада за нас, светлейший герцог Даниэль, было принято братом твоим, герцогом Василиком, с великой благосклонностью и вниманием. Герцог Василик уговаривал нас погостить, но мы неуклонно стремились выполнить повеленное нам папою… Однако, видя благосклонность брата твоего, мы, имея на то повеление папы и кардиналов, просили герцога Василика, чтобы он созвал епископов русских, так как имеем сделать чрезвычайной важности сообщение, что он и выполнил.
Даниил слегка нахмурился. Карпини продолжал:
– Тогда мы прочли герцогу Василику, а также всем его епископам грамоту святейшего отца, в которой папа увещевает Руссию возвратиться к единенью со святой матерью церковью. Они, то есть Василик, и епископы, и бояре, благожелательно преклонили слух свой к нашему заявлению. Однако герцог Василик сказал, что впредь до возвращения твоего от Бату, пресветлый герцог, они ответа никакого дать не в состоянии.
«Узнаю моего „герцога Василика“», – подумал Даниил.
Иоанн де Плано-Карпини повествовал далее. Обласканные Васильком, они вдобавок получили от него несколько весьма ценных мехов на неизбежные подарки татарам.
– И это явилось, – ответил папский легат, – большим дополнением к тем драгоценным мехам, которые преподнесли нам польские верующие дамы с тою же целью – одаривать этих гнусных язычников. Мы ведь, отправляясь к татарам, не знали, что это народ, столь приверженный к мздоимству!.. Увы мне!..
И Карпини заплакал.
– Полноте! Что с вами? – спросил сочувственно князь.
– Ничего, ничего, герцог… благодарю вас… – пытаясь удержать рыдания, отвечал Карпини. – Это плачет моя ветхая, изнуренная плоть, а с нею скорбит и онемощневший дух мой…
И легат перекрестился по-латынски – с левого на правое плечо и всеми пальцами.
– Я плачу оттого, – продолжал он, – что оказался недостоин своего преблаженного и великого учителя, Франциска из Ассизи, который не только телесные мученья свои и добровольно принятую нищету любил и радостно благословлял, но и самую смерть именовал не иначе как «сестра наша Смерть!».
Я же, маловерный и малодушный, который давно ли еще просил господа в молитвах своих даровать мне мученический венец среди язычников, – я, стоило мне испытать надругательства и глумленья язычника Коррензы – правда, они были ужасны! – тотчас и не вытерпел и вознегодовал! А стоило мне побыть несколько часов среди снежной бури, под страхом смерти, – как начал взывать и молиться, дабы отсрочен был конец мой, все равно уже столь близкий!..
– Скажите, дорогой легат, – спросил Даниил по-латыни, ибо и вся их беседа происходила на латинском языке, – разве герцог Василько, разве палатин и комендант Киева Дмитр Ейкович не предупредили вас о том, что вам предстоит испытать в Татарах?
– О! – воскликнул, складывая ладони, брат Иоанн. – Молитвы мои всегда будут сопутствовать высокочтимому брату вашему, герцог! Я никогда не забуду также и услуг и советов наместника, поставленного в Киеве от герцога де Создаль, Ярослава. Наместник и комендант Киева дал мне, помимо продовольствия и повозки, целый ряд незаменимых советов. Так, например, сказал, чтобы я любою ценою выхлопотал и купил у Коррензы татарских лошадей, которые умеют отыскивать корм под снегом, ибо у татар нет ни соломы, ни сена, ни пастбища. Однако хан Корренза бессовестно выманил у меня, помимо денег, также и повозку мою, заменив ее тем простым, скользящим по снегу экипажем, без верха, в котором вы и нашли меня под снегом, – выманил за одну только лошадь и за проводника… А затем, не давая покоя, непрестанно спрашивал через своих дворецких: чем хотят папские послы поклониться ему? Когда же я ответил, что у меня уже все выпросили и отняли татары на предшествующих ямских станах, то Корренза распалился гневом и закричал: «Зачем же вы лжете, что пришли от великого государя папы, если вы столь нищие?»
На это я смиренно отвечал, что хан Корренза прав: мы и впрямь нищенствующие, ибо живем по заповеди апостола: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои»; что, в знак добровольно принятой нищеты, мы с братом Бенедиктом препоясали чресла свои не поясом, но простою веревкою, которую хан видит на нас.
Тогда сей нечестивец Корренза засмеялся ужасным и страшным образом – как бы в горло свое – и сказал мне: «Когда мы захватили страну Ургенч, мы встретили таких же точно нищенствующих монахов – дервишей, как вы. Они тоже были подпоясаны веревкой, как ты и твой товарищ. И они кружились и прыгали. Будешь ли ты кружиться и прыгать?»
Далее посол папы Иннокентия рассказал Даниилу, как татары Куремсы обобрали их до нитки, как, выехав за пределы стойбища, проводник татарин вероломно оставил их во время бурана в степи, ускакав на выпряженной лошади; рассказал, как, блуждая вкруг саней в поисках обратной дороги, он, Иоанн де Плано-Карпини, потерял шапку, и о том, как сопровождавший их до приказанного места киевлянин подал спасительный совет: поднять оглобли саней, укрепив на оглобле что-либо яркое, а самим залечь и укрыться и предать себя на волю всевышнего.
Тогда легат вспомнил, что в его кожаном бауле есть красная кардинальская шляпа, не столь давно пожалованная ему папой Иннокентием, – шляпа, в которой Карпини собирался предстать перед Батыем и перед императором Куинэ.
Ее-то и укрепили на конце оглобли…
Вспомнив муки голода и о том, как замерзали, вспомнив отчаянье свое перед тем, как на него нашло забытье, старик опять заплакал.
Тогда князь Даниил приказал остановить свою тройку – здесь ехали уже гусевой запряжкой, по причине глубокого снега по сторонам, – и велел дворскому накормить легата и Бенедикта.
Руки старика задрожали, когда он принялся есть, вознесши краткую молитву.
Дабы не смущать изголодавшегося человека, князь вышел из возка – поразмяться.
Дворский, подойдя к нему, тихонько спросил:
– А как же, Данило Романович, с посудою быть после него? Истребить – жалко! Путь еще дальний!
– Ты что – рехнулся? – рассмеявшись, ответил ему князь.
Дворский отрицательно покачал головой:
– Чему – рехнулся? Нет! Но ведь латынин! А о таковых поп в проповеди предостерегал: ни с ними в одном сосуде ясти, ни пити, ибо неправо веруют, и едят со псами и кошками… и желвы[25] в пищу приемлют, и хвост бобровый!..
Князь перебил его:
– Стыдно мне от тебя такое слушать, Андрей Иванович! – сказал он.
– …Одни чистые доводы никогда не бывают достаточны, дорогой легат! Непременное пособие для ума – это опыт! – так, возражая на сказанное Иоанном Карпини, отвечал князь Даниил.
– Но я спрошу вас, дорогой герцог: понятия – это реальности или нет? – возразил Карпини. – Или же вы считаете, что общие понятия – это лишь пустые мысленные образы? Что они такое, по-вашему, – «вещи» или только «слова»?
– Ни то ни другое, господин легат! Я присоединяюсь к тем, кто утверждает, что универсалии[26] – это и не вещи, но и не пустые слова. Понятия – это просто приемы нашего мышления. Однако не отымешь, не вылущишь из них и реального содержания!
И, поясняя, Даниил воспользовался тем, что было наиболее близко.
– Вот лошадь – «эквус», – как же я могу утверждать, что это лишь пустой мысленный образ, звук, пустое «слово», когда именно эта самая «эквус» и мчит меня и вас всеми своими четырьмя копытами! И это есть самое существенное, неотъемлемое содержание слова «эквус».
Сверкая запавшими под седыми бровями глазами, легат перебил князя:
– Я вас понял, герцог Даниэль! Однако позвольте спросить вас: чистая математика – она априорна? Она предшествует опыту или нет? Как вы мыслите об этом?
Даниил, слегка потрогав бороду, задумался.
Стал слышен сквозь стены возка звон колокольчика, стук снега из-под копыт в передок саней. Изредка ветер отпахивал боковой запон и кидал горсть снега в повозку. Обоих спорящих – и легата и князя – время от времени, на ухабах, на раскатах, толкало плечами друг на друга, однако они и не замечали этого.
Наконец-то Даниил отводил душу!
Как вырвавшегося из безводной, песчаной пустыни человека, у которого от жажды уже ссохся язык, нельзя оторвать от сосуда с прохладной водой, так сейчас и его невозможно было бы оторвать, после всех этих турсуков, багадуров и кобылятины, от этого спора с человеком, стоявшим на вершине философского и богословского мышления!
– Чистая математика? – переспросил князь, обдумывая ответ. – Нет, дорогой мой легат, и эта царица наук не априорна. И ей предшествует опыт. Да и самое математику создал… глаз человека. И еще такое приходило мне, когда я размышлял об этом: математика создана чувством одиночества: «Я – один. Но мне страшно одному!» Впервые чувство одиночества испытал Адам, хотя и обитал в раю. И видимо, он очень тяготился одиночеством. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему…» И создал жену. «Я и ты. Я и другой!» Но ведь это уже и есть зарождение математики!.. Я, быть может, смутно выражаю свою мысль, дорогой легат, ибо я воин и не привычен к диалектике!..
– Нет, герцог, – ответил Плано. – В сказанном вами я улавливаю зерно великой идеи… Но это несколько необычно и требует от меня сосредоточенного размышления. Я верю, что в следующую встречу мы еще вернемся к нашей теме… А пока в куманских степях, если только я не приму смерть от стрелы какого-нибудь кочевника, мне будет большой досуг размышлять о том, что мы с вами затронули сегодня.
– Я рад буду, господин легат, видеть вас на обратном пути своим высокочтимым гостем!
Легат поблагодарил. Помолчав, добавил со вздохом:
– Но ведь сколько еще мне предстоит встретить подобных этому Коррензе!
Даниил утешил его:
– Как только прибудем к хану Картану, – а это зять Батыя, – я устрою так, что ваш дальнейший путь будет гладок и беспрепятствен!
– Господь вознаградит вас!.. Итак, стало быть, даже чистая математика не априорна?
– Нет.
– Аристотель признал бы вас за своего!
– Так же, как вас – Платон!
Кардинал улыбнулся. С лукавым восхищеньем глянул на Даниила.
– Итак, – полуспросил он, – стало быть, опытом познает мудрец настоящее, прошедшее и будущее?
– Да! – отвечал Даниил. – Пифагор свидетельствует, что еще египетские жрецы умели предсказывать солнечные затмения.
Так невозбранно, в теплых болховнях, нырявших в необозримых снегах донецкой степи, упивались они этой своей беседой – великий князь Галицкий и легат папы Иннокентия.
Заговорили о новых открытиях Бекона – о стеклах, которыми будто бы можно читать мельчайшие буквы с больших расстояний и которые якобы могут исправить несовершенства глаза. Вспомнили и о трубе, в которую, как повсюду разгласили ученики философа, можно будто бы созерцать устройство Луны. Коснулись магической и зашифрованной Беконом формулы, с помощью которой – так похвалился необдуманно сам оксфордский мыслитель – якобы можно завалить все подвалы земных владык тем самым порошком, посредством которого татары взрывают стены.
Беседовали и о мыслителях Эллады, и об отцах церкви. О веществе и силах. О последних университетских новинках Парижа и Оксфорда, Болоньи и Салерно. О восстании парижских студентов. О побоище их с горожанами. Говорили о знании и авторитете, о том, является ли авторитет необходимою предпосылкою знания или же, напротив, великим препятствием на его пути, как считает Бекон.
Спор об авторитете и знанье неминуемо повлек за собой суждения о догмате папской непогрешимости, который пытался было утвердить и обнародовать еще Иннокентий III и о котором все еще шумели Оксфорд и Сорбонна.
– Не понимаю! – с гневным недоумением сведя седые взъерошенные брови, проговорил Иоанн Карпини. – Как могут злонамеренные находить в этом догмате о непогрешимости папы, вернее, святейшего престола, в делах веры что-либо противное человеческому смыслу?! И возмущаются этим утверждением те самые люди, которые спокойно допускают, что древние философы, даже и не имея Святого писанья, были поучаемы свыше!
Турнир переходил в битву!
– Такова догма римского престола – догма, провозглашенью которой воспрепятствовал, однако, целый ряд иерархов самой католической церкви, – все еще стараясь избежать столкновенья, сказал князь. – Наше воззрение другое.
– Простите, герцог, – возразил Карпини, – но разве восточная церковь не утверждает богодухновенность своих путеводителей?
– Собора их! – поправил князь. – Но и то для утверждения какого-либо нового догмата веры необходим вселенский собор, а правом на таковой одна православная, греко-русская, церковь не обладает по причине прискорбного разделенья церквей. А здесь, простите, легат, выдвигается притязанье на непогрешимость одного лишь римского епископа!
– Я убежден, что светлейший герцог понимает непогрешимость папы в делах веры не столь узко, как другие?
– Вы правы, дорогой легат, – отвечал Даниил. – Я понимаю это, как понимаете вы: святейший отец лично – и как человек, и как верующий – может согрешать и заблуждаться, но…
Карпини воспользовался паузой Даниила и договорил за него:
– И даже более! Наместник Христа может быть даже и неверующим… да, да! В глубинах своего сердца папа может даже исповедовать атеизм, но когда он выступает с высоты апостолического престола, он богодухновенен и, невзирая ни на какие свои грехи и пороки, непогрешим. Господь не допустил бы повреждения церкви своей. Вздумай папа провозгласить что-либо неподобающее – он упал бы бездыханен!.. Скажите, герцог, – внезапно для Даниила спросил его Карпини, – если бы завтра собор всех православных церквей, даже греческой, признал бы за благо воссоединение с нашей римско-католической церковью – полное или в форме унии, – что сказали бы вы?
– Скорбел бы… как русский государь.
– Почему?
– Потому, дорогой легат, что, будучи соседом Венгрии, Польши, Чехии – стран католических, – я убедился, что господин папа утверждает непогрешимость свою и в политике. Как христианин, я чту крест Петра, однако против меча в его руках.
– А разве не помните вы, герцог, – сурово воскликнул легат, – какая судьба постигла всех европейских государей, отвергших верховенство святейшего отца?
Голос прославленного проповедника наполнил собою глухой возок, перст его руки как бы указал поочередно на упоминаемых государей.
– Смотрите: все они гибнут! Все их начинанья бесплодны!.. Генрих… Фридрих Барбаросса!.. Кто был равен ему? И вот прославленный полководец тонет, на глазах всей армии, в жалкой речушке в самом разгаре не благословенного папою похода… Иоанн английский… Стоило папе отлучить его от церкви – и смотрите, герцог, как будто Пандора опрокинула свой ящик бедствий над головою несчастного монарха – восстание баронов! Под угрозою меча своих подданных подписанная хартия!.. Возьмем ныне царствующего императора Фридриха… Что сказать о нем?.. Если бы сей Гогенштауфен возлюбил Бога и церковь его, если бы он был добрым католиком, немногие сравнялись бы тогда с ним! Но император восстает против того, кто именуется ключарь царствия небесного, – и смотрите, как рушатся все его предприятия, точно он зиждет их на песке!.. Нет, государь, под ногами тех, кого проклял наместник Христа, под ногами тех разверзается бездна в тот самый миг, когда они уже досягают рукою вожделенной цели, – и все они стремительно гибнут!
Даниил угрюмо посапывал.
– Тогда, – медленно проговорил он, – по-видимому, викарий Христа благословил Батыя… и, – добавил он, – Коррензу.
Уклоняясь от возражений, легат апостолического престола сказал:
– Меня чрезвычайно радует, герцог, что вы изволили высказать открыто все, что препятствует воссоединению церквей. Я верю, что, когда пробьет час, вы, чей голос властно звучит и в Константинополе, и в Никее, не откажетесь отдать свою добрую волю и свое могущество на службу святому делу воссоединения церквей… А тогда – смею заверить вас отнюдь не от своего лица, – тогда пробьет час вашего всемирного величия, герцог, и заветная цель вашей жизни будет достигнута.
Замыкаясь и настораживаясь, Даниил сказал:
– Что вы разумеете, святой отец, под этим «всемирным величием»? А также в чем полагаете заветную цель моей жизни?
– Корона первого императора Руссии! Крестовый поход против татар, предводимый императором Даниилом! – громозвучно и вдохновенно провозгласил Карпини.
Лицо Даниила оставалось невозмутимым.
– Видите ли, господин легат, – отвечал он, – разрешите попросту миновать первое и ответить лишь на существенное. Я всегда был врагом вероломства, даже в политике. По договору, который мы только что подписали с ханом, Батый обязуется по первому моему требованию предоставить свою армию в мое распоряжение…
Карпини оцепенел.
– И, я повторяю снова, – продолжал Даниил, – мы чтим крест апостола Петра, но мы скорбим, что в руках его наместников меч Петра упорно подымается против христиан же…
– Вы подразумеваете, герцог, быть может, искоренение альбигойского нечестия? – хрипло спросил Карпини. – Но где же еще примеры?
– Их слишком много! – отвечал князь. – Я коснусь лишь некоторых. Объясните, господин легат, почему и в двадцать девятом, и в тридцатом, и в тридцать втором году особыми буллами святейшего отца потребовалось воспретить всем католическим купцам и государям доставлять Руссии лошадей, корабельные снасти, деревянные изделия? Почему в год и в час Батыева вторжения в нашу Русскую Землю папа Григорий призвал к крестовому походу против Новгородской земли и предал проклятию новгородцев?
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
Гора и Горбы – древнерусские названия Карпат.
2
Дворский – чин древней Киевской Руси, едва ли не самый высший.
3
Рэкс – царь, король (лат.)
4
Разделяй и властвуй! (лат.)
5
Пусть, пускай (древнерусск.)
6
Стряпати – медлить, мешкать (древнерусск.)
7
Племянник (древнерусск.)
8
Уже в XII веке некоторых русских князей титуловали «царь».
9
Область в бассейне реки Южного Буга, в противоположность нагорной Галиции.
10
Звательный падеж от доня – дочь (древнерусск.)
11
Осадные башни.
12
Если, ежели, когда… (древнерусск.)
13
Супруг (половец.)
14
Древнерусское насмешливое прозвище Батыя.
15
Особая иконка на груди епископов (греч.)
16
Греческий путь – по Днепру, в Византию; Залозный шел, отклоняясь в область Дона; Соляной торговый путь (за солью) – одни полагают – в Коломыю (Галицкая Русь), другие – в Крым, к соленым озерам.
17
«Король Галиции и Лодомирии (Волыни)»
18
Палатин – средневековый высокий сан.
19
Украина – в летописях употребляется как название окраинных областей Руси.
20
Начальник канцелярии Батыя.
21
Половцев.
22
Когда б в воскресенье ты увидел меня рано,
Как станет матерь меня убирати:
Ой, на ноженьках желтые чеботки,
На бедрах кованый пояс,
На пальцах серебряны перстенечки,
На головоньке жемчужная тканка…
23
По свидетельству арабских историков, хотя Батый в дни битвы на Калке был малолетен, однако номинально армия возглавлялась им.
24
Тумены – отряды (около десяти тысяч), на которые делилась армия татар (татар.)
25
Черепахи.
26
Общие понятия; спор об универсалиях один из любимых в средневековых диспутах.