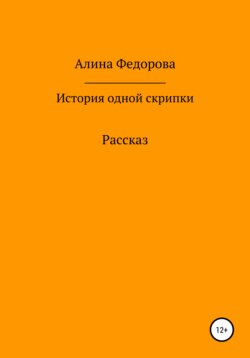Читать книгу История одной скрипки - Алина Федорова - Страница 1
ОглавлениеСкрипка чувствовала, что пришла весна. Изменился не только окружающий мир; скрипка сама словно наливалась робкой весной изнутри, и это было приятно. Ведь еще вчера она сонно лежала в своем футляре на мягком красном бархате, где было так привычно уютно, что она, разнежившись, с легкой ленцой в голосе отзывалась на неловкий смычок хозяина. А сегодня, когда он только откинул крышку футляра, что-то волнующе-свежее дыхнуло ей в лицо, мгновенно пробудив, а потом мокрый весенний ветер проник в нее сквозь эфы, отчего скрипке сделалось очень щекотно, да так и остался в ней, заполнив ее влажным и томящим воздухом. Этим новым воздухом была окутана и вся комната, а в окно прорывался серебристый звон капели.
Взявший ее в руки мастер заметил произошедшую с ней перемену, иначе и быть не могло – ведь ему пришлось заметно дольше обычного настраивать ее перед тем, как передать своему маленькому ученику – хозяину скрипки.
Ох уж ей этот хозяин! Вечно таскает с собой противные липкие штучки – леденцы. Да еще считает, что ее футлярчик подходящее для них место: ничего не высыплется. Как будто не знает, что стоит только положить ее ближе к камину, и этого будет достаточно, чтобы леденцы превратились в омерзительную массу, сладкий разноцветный комок, который оставляет на ней следы и который так трудно отодрать от бархата. Скрипка вздохнула. Если бы не маленькая трещина, закравшаяся в нее в детстве, она никогда бы не досталась этому беспутному мальчишке с неуверенным смычком!
А весна постепенно сменилась летом, осень – зимой; шли годы. Мальчик взрослел, и скрипка взрослела вместе с мальчиком. Эпоха растекшихся леденцов закончилась; неаккуратный хозяин запихивал теперь в футляр растрепленные тетрадки с залитыми чаем краями, пирожки, которые он вечно таскал с завтрака из школьной столовой и которые от тряски рассыпались жесткими мелкими крошками и кололи скрипке бока, да поцарапанные стеклянные шарики – они никогда не воспринимали уличные звуки и не резонировали, а потому казались скрипке существами другой, неживой природы. Потом старый футлярный бархат поменяли, и как-то незаметно скрипка стала коротать вечера с мятыми листочками стихов, нежно пахнущими фиалкой печальными письмами и покоробившейся от воска или нечаянной слезинки фотографией. Скрипке навсегда запомнился этот грустный период взросления хозяина, когда он бережно перебирал свои реликвии и предавался тоскливым мелодиям, а скрипка страдала вместе с ним – именно тогда она научилась плакать…
Молодой человек играл все лучше и лучше: он выступал в церквях, в ресторанах, на свадьбах и танцах, – везде, где платили за игру или где можно было приятно провести время с веселой удалой компанией. Его хвалили, им восхищались. Считалось модным иметь его в числе гостей на праздниках. У него завелись друзья, которые вырывали его из комнаты, где он возился со своей «скрипочкой», и увлекали за собой. Он полюбил ночной город: огни призрачных баров, а особенно доступные красотки манили молодое тщеславное сердце. Все чаще он возвращался домой лишь под утро. Скрипка ревновала его, хотя он всегда брал ее с собой и играл, пока слушались пальцы, что-то манящее, призывно заглядывая в глаза скучающим женщинам, пробуждая в них страсть. Скрипка не могла помешать ему, она чувствовала его беспокойство и сама трепетала под его мятежными пальцами.
Вскоре ей в первый раз стало тесно лежать в своем футляре. Она пыталась отодвинуться от надушенных подвязок, скомканных чулок, но футляр был тесный, а чулки душили ее, и тогда, чтобы досадить ему, она подцепила один из них зазубренными кончиками струн, разрушая магическое кружево.
Молодой человек не заметил этого. Он пил слишком много. Его руки становились все более трясущимися. Пошли слухи о том, что он волнует замужних женщин. Его перестали приглашать играть в дорогие рестораны, и для того чтобы раздобыть денег на вино, сигары, он соглашался играть в самых злачных пивных, прокуренных добела ночных барах, где гуляла самая дешевая портовая публика и где ему приходилось играть такую музыку, которую он раньше презирал. Он все глубже увязал в своем беспечном образе жизни. Позже он пристрастился к гашишу, которым его попотчевал один из завсегдатаев.
Футляр давно был продан, и скрипка чувствовала себя такой беззащитной в пьяной атмосфере кабаков, где гуляющая братия норовила смахнуть ее со сладкого липкого стола, освобождая место для кружек или карт. Но он, словно чувствуя за собой какую-то вину перед ней, всегда о ней заботился и даже будучи пьяным следил за тем, чтобы она была рядом с ним и ее никто не раздавил неосторожным движением. Он уже почти не играл, но продолжал брать ее с собой, как будто она являлась ему чем-то вроде напоминания о прошлой жизни. Но однажды все это кончилось.
Это была бесконечно длинная, бесконечно холодная летняя ночь. Он выходил из подворотни, направляясь к себе домой через парк, и, как обычно, сжимал ее в левой руке. Одежда его была грязной; уже несколько раз он оступался, и брюки его были промочены до колен, а полы пиджака хлопали на ветру, оттопыривая пустые отвисшие карманы. Он был очень пьян и очень болен. Несколько раз он прислонялся к столбам уличных фонарей и кашлял сухим завывающим, раздирающим грудь кашлем. Вдруг он споткнулся и упал, нелепо вывернув ногу и хрипло вскрикнув. Потом он посмотрел на скрипку и улыбнулся. Скрипке стало страшно.
Он лежал в вонючей грязной канаве, запрокинув голову, смотрел как ветер треплет черную листву и совсем не пытался вставать. Он понимал, что в такой поздний час в парке никого не встретишь, а вывернутая нога делала его совершенно беспомощным. Тогда он запел, и странная раздалась в ночи мелодия:
«Ты меня оставил, Джеми,
Ты меня оставил,
Навсегда оставил, Джеми,
Навсегда оставил.
Ты шутил со мною, милый,
Ты со мной лукавил —
Клялся помнить до могилы,
А потом оставил, Джеми,
А потом оставил!»
Он подыгрывал себе, прижав скрипку к подбородку; язык его заплетался, и его то и дело прерывал кашель. Он порядочно продрог, находясь в этой канаве; сырая одежда облипала его и холодила на ветру. Он перестал петь и закрыл глаза.
Рука, держащая гриф, холодела, неверно разжималась, он был без сознания, но все-таки не выпускал ее, свою «скрипочку». А ей оставалось лишь лежать, слушать все слабеющие удары его сердца и пытаться не верить в происходящее. Она изо всех сил прижималась к хозяину, стараясь поймать эту легкую затухающую вибрацию, затаить ее в своем скрипичном нутре, а потом передать ее струнам, как-то позвать на помощь – но она была слишком слабой, ее струны дрожали, но не звенели. От злости и жалости к себе она заплакала. Она плакала долго, но кто мог слышать рыдания скрипки в безлюдной темной ночи. Сверчали цикады, зловеще шелестели листья, шуршала трава, а она была нема, хотя, казалось бы, именно сейчас ее голос был ему так необходим.
В первый раз страшно холодно заныла ее трещина. Скрипка перестала плакать и молча завыла…
…Из его некогда талантливых, а теперь безжизненных рук ее отнял, расцепляя зажим окостеневших пальцев, отставший от табора и случайно наткнувшийся на него цыган. Скрипка знала, что человеческий век короче ее жизни, но на такую разлуку она не была согласна. И если этому было суждено случиться, то тогда и она погибнет вместе со своим хозяином! Вот почему она билась в отчаянии, вырывалась из чужих рук, хотела укусить цыгана, лишь бы он оставил ее на этой холодной груди. А цыган, заметивший в канаве странный блеск и спустившийся проверить, что там такое сверкает, немного презрительно смотрел на этого жалкого опустившегося бродягу и, недоумевая, откуда у того взялась скрипка, решил забрать ее с собой. Взглянув повнимательней в бледное лицо несчастного, цыган увидел, что тот еще довольно молод, и жалость тронула его сердце. Опечаленный его судьбой, он выволок молодого человека из канавы и повалил, прислонив спиной к дереву, – кто-нибудь да заметит того утром.
Цыган уносил скрипку, а она, изнемогая от не скрипичной тоски, теряла силы и постепенно впала в забытье. Ей виделось детство…
… Ее самые первые впечатления были довольно смутными, какими-то расплывчатыми. Она не помнила точно тот момент, когда мастер соединил обработанные куски дерева и она поняла, что она – скрипка; вернее, когда ее коснулась идея скрипки. Сначала она как будто еще не родилась. Все что она чувствовала – это удивительно приятное розовое тепло, окутывающее ее волнами, ласковое, дарящее ощущение безопасности. Она также знала свет и тьму, и казалось, ничего больше и не надо, кроме как покачиваться на этих убаюкивающих волнах, впитывать в себя их длину и поглощать то гармоничное излучение, которое они приносили с собой. Днем она вдыхала сладкий запах лака, царивший в комнате, свежий аромат деревянных стружек и таяла от прикосновений рук мастера.