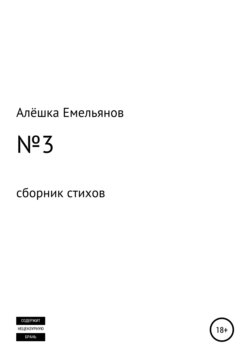Читать книгу №3 - Алёшка Сергеевич Емельянов, Алёшка Емельянов - Страница 1
ОглавлениеRussia
Многие пили муть водочных луж
иль загубили в тюремьях сок душ;
плавали в ямках и стоках канав,
где утонуло бесчисленье глав;
в петли ныряли, как в цирке зверьё,
или прослыли ленивцем, ворьём;
пулю и яда вкусив иль иглы,
больше суметь ничего не смогли;
в вечность шагали с больших этажей
или вдыхали дым, гарь гаражей,
иль, перепортив всех дней полотно,
вмиг обнимали озёрное дно;
с иным же духом, отринувши зло,
в тину печали садились средь снов,
иль угождали в семейности быт,
чтобы былые прогулки забыть;
в гроб позагнались рабочим ярмом,
не накопив на загранный паром;
вены косили во штиле, страде
в этой недобро-измятой стране.
Магазинчик грехов
Грехов накучил ворох,
в вязанки их стянул.
Из них мне каждый дорог.
Ни крохи не минул.
Набрал четыре в закром,
пять, шесть – на чердаке.
Сложил по цвету, жанрам.
Три пары – в сундуке.
На случай, впрок запасся.
Заначек сделал чуть.
В подвале банок масса,
в которых похоть, жуть.
Любой на вкус и выбор.
Есть новый, есть б/у.
В подарок, ради выгод
иль в шутку. Хоть кому…
Салон знаком и вечен.
Цена оплат – душа.
Товар не скоротечен,
дождётся не спеша
своих клиентов злачных
и чистых, чей бел пух.
Отведают всё смачно.
Мошной не буду сух.
Четыре дороги
Берут уже Бога за руки
и мнут тихо траву в раю
незнавшие, знавшие муку
в наземно-бытийном краю.
Гуляют они, где – не знаю,
но Господа видят в лицо
поклонники святости, мая.
Милуясь с извечным Отцом,
витают всемысленно, тельно,
настроив третьокую связь.
А тут темь умов и безделье,
мятежье, средь толпища грязь.
Достичь не сумею я Бога.
Стихают и слёзы, и вой.
Отправлен в четыре дороги.
Лежу четвертован, больной.
Вселившийся
Среди ролей и ипостасей
живя всеразным, но собой,
в покое иль огне опасий,
идёт в гамак или забой
Великий ум. Слывёт чудесным
века и сотни тысяч лет,
незримым, мощным и безвесным,
и старцем, знающим ответ
на всё, любую шкурь примерив,
испив, отъев добра и зла,
несчастье, страсти и примеры
любви, бессонниц, ремесла.
И вот моя судьба попала
ему… Поживши чуть одной,
Бог вяжет петелье овала,
устав, наверное, быть мной.
Алкари-богатыри
Мой ринг от лавки и до двери.
А рефери – патруль, семей
глаза, бессонные соседи.
Судья сего – зелёный змей.
И сыплет винный дух удары.
Я – витязь русского бытья,
потомок бьющих род татара,
любое иго. Средь белья
и слёзных старцев я порхаю,
как завещал боец Али;
и меж маханий вслух ругаю
все поколенья и слои
врага, собрата по России.
Недолог бой. Предатель – хмель,
что, разъяривший мои силы,
коварно сводит их на мель.
Всему виной, конечно, Запад,
отнявший труд и пуд зарплат,
в подъезде ссущий, наглой лапой
моей души укравший клад.
Вот, не жалея крови, жизни,
чтоб мир боялся сил моих,
я бью за честь и стать Отчизны
сограждан пьянистых своих!
Девичник
Мотай, вращай шарами, эй,
жонглируй, мой Тарзан!
Осыплю вмиг дарами дней,
повысив суммы, сан.
И пей, дыши кальянами,
о чём-то лепечи.
Зажги, раздуй буранами
огонь в сухой печи!
И смейся юно, радужно,
тяни арканом чувств.
Вина, абсента градусом
заправь сосуды буйств.
И лоском тёмной кожицы
касайся, как во сне.
И лишь в приватной ложе ты
раскрой все тайны мне
изгибом, жаром талии.
Минута, будто час.
О, гений гениталии,
веди, ласкай сейчас
везде, фривольно властвуя!
Манящим, всяким будь!
По мне развратствуй, странствуя!
С утра ж про всё забудь!
История любви
Давай прочтём историю Ромео?
А, может, вместе сочиним свою?
Но без тоски и юных душ родео,
и без семей, зовущих нас к суду.
Красивая строка! Другая интересней!
Но мы прекраснее напишем, проживём,
заменим кислое, что серое и пресно,
на мёд и сдобу. Яркие сошьём
картины дней, одежды, покрывала,
построим замок выше, краше всех.
И будем греть, да чтоб не остывали,
сердца свои, смотря на солнце, снег.
Скажи, хорош сюжет, мечтания, идеи?
Коль нет, дополни. Веряще приму.
И Бог поможет в явь ввести сии затеи.
Начнём с утра. Прильни, я обниму…
Поэзия
Знаешь, правдива, печатна,
вечна поэзия мига, -
будь то вулканна, печальна?
Зеркало мыслей и мира.
Искренна, также искряща
суть её, что бессудебна.
Видится мне, настояща,
как и умами потребна.
Честь её чистая, частна,
честная, вестная в каждом
слове, что гордо и властно,
и сердцевина в всём важном.
Знаешь, сильна и всеочна,
малое истины племя?
Метко её троеточье.
В каждой главе её семя,
вырастет что иль увянет.
Буква – ядро или бремя,
что коротит жизнь иль тянет.
Каждой строке своё время.
Muse
Сине-сатиновый взор удивляет
средь карнавала, мозаик очей.
Бархатом, юностью тела влияет
на настроения, пыл. А лучей
ровные линии сеет помада.
Веер накидок почти невесом.
Полная магией лисьей и ладом.
Волосы пахнущи липой с овсом.
Скромно-игрива и жарко-умела.
Броска браслетов резных красота.
Слышали б вы, как она ему пела!
Всегероиня стихов и холста.
Вновь наблюдаю смешливо и тонко
с облачных высей уже третий год,
как каблуками звенит в пути звонко;
он ожидает, как рыбоньку, кот.
Мило нахолившись, смотрит участно,
давние складки размяв пиджака.
Как и впервые, поклонно и страстно
ищет свой выигрыш азарт игрока.
И на былых она чем-то походит, -
в этом и глупость, и шарм, и секрет.
И на свидание снова приходит
шлюха, которую любит поэт…
Классный
Люблю его! Расчётливый, упрямый.
Он пишет обо мне поэзии листы,
и лечит все мои печали, боли, раны,
и новых не творит. Наводит он мосты
богатства и знакомств, иного состоянья.
Знаток искусств, любого ремесла,
нежнейший кавалер, и с мышечным стояньем.
Везде он пионер. С задатками посла.
Почти боец плацдармов, октагонов.
Всевидец, праведный. Иной, и тем манящ!
Блюститель чести, правил и законов.
Красив и выглажен, сияющ и пьянящ.
Живой сосуд из ласки, рифм и власти.
И слава вся завидна, не дурна.
И даже тень изящная прекрасна!
И я, по мере сил, умна, нежна, верна.
Важны ему: покой, уют и женскость.
А грива царская приятна и пышна.
Такой, как он, – мечта награда, редкость.
Но я, обратная, зачем ему нужна?
Спасающийся
Щекочет спину дробь
и ветви хлещут морду.
Хоть троп я взял сто проб,
но псов так хватки орды.
Уже не гордый волк,
а пёс, от псов бегущий,
которых будто полк.
И пуль полёт стригущий
рядит листву, как сеть,
достать трофей желая.
Мне б выводок успеть
спасти, следы петляя,
ведя стрелков от нор.
Раж конно-пьяной шайки.
И меж опушек, гор
несусь, ищу утайки.
Усталость, вдохов муть.
Смирит погоню вечер.
И выстрелами чуть
ослаблен и помечен…
Олень
Сезон охот пришёл.
Рога бы скинуть раньше,
оставить плод и жён,
бежать чтоб легче, дальше.
Но нет! И лес – мой дом.
Враги пристали хватко.
Не нужен лис иль сом,
а я желанен сладко.
Сбивая столб дерев-
собратьев и их славу,
цветы, мох, озверев,
топчу сестричек-травы,
бегу, размяв в труху
и камни, и валежник.
Я где? В каком кругу?
Я весь уже не прежний.
Но стихли бой, шаги.
Дышу вполне резонно -
стрелки ещё плохи.
Лишь первый день сезона.
Багровый мёд
Багровый мёд со вкусом цинка
из сот овражного куста
течёт, из устья половинок,
порой питает мне уста.
Преспорный акт, сырое действо
наводят страсть и страх, и хмель.
Твоя услада и судейство
в забавном шоке в токе дел.
Ведь срок пришёл. Хозяин пасек
готов добыть, изведать сорт
и урожай, что ало красит
ладони, губы в свой узор.
Ну что же ты опять вертлива,
иль непривычна, иль скромна?
Пикантна так, тепла подлива
к любовным блюдам, и равна
изыскам, что вкушал не каждый,
не смевший то узреть, принять.
Лишь сомелье влюблённый, в жажде
готов испить опять, опять…
Парк скульптур
Тающий сумрак теплее могилы.
Каждая птаха на прежних местах,
с обликом мощным и гордым, нехилым.
Древние птицы без дрожи в костях.
Каменной грудью и взором открыты
жару, невзгодам. Обид не таят.
Перья ветрами совсем не разрыты.
Снегом одетые в парке стоят.
Где-то вдали уже век не охочий
гривистый лев, чья животная стать
видит цветы у подножья, их хочет,
пастью голодной не может достать.
В свисте морозном и тихом молчаньи
старо скворечники смотрят вперёд,
выглянув из-за стволов на прощанье,
вновь провожают гуляющих ход.
И наблюдая красот перемены,
в зиму метели, а летом – галчат,
в муках терзаясь без записи темы,
в бронзе поэты промёрзло молчат.
Внезапность
Хотел бы увидеть Вас раньше,
до праздника свадьбы, колец!
Я б духом ещё не ослабшим
надел бы на Вас тот венец,
совсем не на нынешню деву,
какой лишь названье "жена",
какая без мыслей и плевы,
без цели, умений. Она
прекрасна и знатна лишь видом
и платьями, тушью, словцом,
но с нею не хочется быта,
быть мужем, а детям – отцом.
Бесцельно-сожительна пара.
На радость лишь семьям родных.
Без счастья, тепла и запала.
Для неодиночеств двоих.
Теперь птице – клетка бетона,
иль рыбе – аквариум, мель.
Явились спасти ль из затона?
Ах, где же Вы были досель?!
Печалящие о великого
Многие люди печалят меня:
с Богом и бесом водящие дружбу,
кто пьёт, чудачит, иное виня,
и получает неслуженно службу;
водит любови за стенкой домов,
новой интригой ломая, калеча
вечну доверчивость душ и умов;
стадом идущие в мнимое вече;
кто обучает дам в крик, кулаком;
кто шкуру, душу мужичьи терзают
ревность-изменами, иль тумаком
высшие рангом; кто меры не знает.
Ох, нетерпимы и те, кто, увы,
близких могильников не навещает,
кто клоунадит с экранов в умы,
рабство труда насаждает, вещая;
девы забывшие скромность и стать,
давшие рубль, что в страхе нищают,
и не забывшие с бедного взять…
Может, кого-то и я злю, печалю.
Красные дни
Месяц прошёл, выливайся
чашей двуручной, смелей!
Вызволить розовь пытайся,
ту, что уж стала спелей.
Дата потока желанна,
чтоб был он вольно излит.
Крась воду, краешки ванны.
Нёбо в волненьи кислит.
Лаской согрею и речью.
В боли не плачь, не тужи.
К ране, начавшейся течи
тесно бинты приложи.
Рядом тихонько побуду.
Как минет буйство крови,
голодно, нежно приступим
к новым этапам любви.
Вселенский закон
Удобный пруд стеклянный.
Зверь топчет зоосад.
Бетонный рай желанный
для расы всей людят,
что ищет сон, уютность,
бесслёзность, пир и смех.
Отдав за деньги юность,
душой оплатит мех.
Уходит в высь иль мели.
Хранит себя дикарь
в окопе тёплой кельи.
Могила тоже ларь.
Весь мир, как соты, гроты,
склады, участок, цех.
Невольный дом природы
для каждого и всех.
Memory
Память – скопление хлама,
выжженный выплеск, салют,
прошлых затей панорама.
Вкусом с дешёвейший брют
нынче, что было изыском
с ранних, цветастых годов.
Будто побитую крыску,
тихо мусолю котом,
явно седым и беззубым,
чуть озираясь назад.
Правила жизни так грубо
рушат ухоженный сад
думок и дел, заселяя
тлёю сомнений, жуком,
что селит тьму, облысяя
мыслей цветенье кругом.
Сводит в единое краски
красный закат, позже ночь.
Сохнет надежды вся смазка.
Вянет ума свет и мощь.
Карточки фото, веселье
ил будоражат, печаль.
Смерть входит в серое тело,
в дух, что измучен и чал…
Великая глубинка
Дырявая ватника ветошь.
По крышам солома и толь.
Гляди на селянскую немощь,
вдыхая поганую смоль
сигарки, дымящей порханьем
из властихвалящих газет.
Морозит холодным дыханьем
за садом древесный клозет.
Дороги разрытые шиной,
где кашица, топь, непролазь.
Поля и макушки с плешиной.
Лишь брага – от быта, дум мазь.
С управой глухой поединок.
Натёртый язык, сбитый плуг.
Подковы на паре гвоздинок
в копытах, как сбитый каблук.
Заезжены шеи. Баб роты
без женскости. Беден массив.
Прелестен лишь облик природы,
который лишь летом красив.
Стада, как худобные рейки.
И гниль, недовес ячменя.
Навоз пропитал телогрейки.
И брань даже тут от шмеля.
А взоры уставше-бесправны.
Сор, сытость даёт огород.
Мне город по телу и нраву,
хоть в нём погряз…нее народ.
Познавшие Бога
Познавший Бога знает,
что нет других богов;
что паству не бросает,
что в злате, тьме потов,
дела и боль зачтутся,
порядок помнит дуг,
что радугой зовутся;
что нет у Бога слуг,
а есть родные дети
из глины райских кущ,
из духа, рёбер клети.
Былой Эдем грядущ.
Впустивший Бога снова
вдвойне, наверно, чист.
Он, внявший тяге, зову,
открыл к спасенью лист
и к чуду, правде, чарам,
жилец снегов, степи.
Единки, тройки, пары
верян – звено цепи.
Да будет сумма света
свечей, глаз, звёзд. Парад!
Что верным дал ответы,
что я им нужен – рад!
Почтивозлюбленная
Троганья плавные, божьи
жадно предчую и жду.
Раструбы сняты сапожьи
ею, а платье, узду
стяжек грудных и иное
с дрожью чуть позже сниму.
Вид распаляет живое.
Час наслажденью и сну
выдан хозяином счастья,
магом с корыстью очей.
Выбрана лучшею мастью,
будто бы в дар из вещей,
что передарен бывал уж,
может, не раз уж на дню.
Но я вселепетен, тающ,
может, немножко люблю.
Славная, речи не грубы.
Лёгки витанья, как моль.
Жаль, это платные губы,
ласки, улыбки и голь.
Внереальность
Видал рост туч и травок,
оттенки вод, ветров,
все поры глаз и ранок,
и клетки крови, дров;
знавал тепла окрасы
и космос разных грёз,
ветвистость душ, гримасы,
сплетенья молний, поз;
не знал межи, запретов,
я слышал пыль, зерно;
был мир без зла и бреда,
подобьем счастья, снов;
всего касался взглядом,
имея чувств заряд;
народов ум, наряды,
кажись, я вечно знал;
экстазы, транс покоя,
заход за сто границ,
феерью чуял боя,
когда впускал я шприц.
Регата
Обжат в сыром туннеле.
Толпой теснимся душ.
Войдём во влагу белью
иль выпадем на сушь?
Дрожат теснее стенки.
И красный шум быстрей.
Толчками переменно.
Хозяин ждёт гостей.
Ах, запах там, свет розов!
Как помню курс и пыл,
соседей, шторм и грозы.
Как будто прежде жил.
И голос мне знакомый
кричит и шепчет вновь.
Накат и жар искомы
то в одинокость, вдвойвь.
Без ветра. Ток попутный.
Преград нет поперёк.
Волною общей мутной
плывём, плывём вперёд!
Кто выгнал нас из дома
и в рейс желаньем вверг?
А лодок наших тонны
несутся вниз и вверх.
Что там, в дали взаимной?
Наш путь быстёр, далёк.
Что там: никто, зверинье,
жена иль паренёк?
Газеты
В каждом и "Правда", и "Берег",
с записью ссыльных статей,
даже с колонкой про веру,
с ликами средь новостей.
Вести про прошлую юность.
Зов заголовков сверх строк
про беспределы и глупость,
мать и нещаднейший рок.
Шрифтом порой неумелым
грозно вещают с полос.
Бюстом и ростом ли целым
виден то бес, то Христос.
Выпуски в срок иль до срока
взглядам являются в дни.
Кадры имён, тел, пороков
всем в обозренье даны.
Тексты молитвы, как сметы,
список заслуг, что негож.
Люди – живые газеты
с синими штампами кож.
Гибельность
Рыжим шипением листья
кроют поверхность травы,
пеною с примесью. Выстрел
где-то в кувшин головы,
может, а, может, и в суку,
что покусала ребят…
Осень, вносящая звуки,
хладом щипает круг пят.
Шумность и толп торопливость,
ветхие шторы вдоль рам.
Горлость хрипая, сопливость,
пьяность и дел тарарам.
Пришлое время сезона
вновь баламутит умы
шлюх и поэтов резонно,
дворников, что чуть глумны.
Старое поднято вихрем,
ливнем прибьётся к земле.
Бедность по-прежнему дрыхнет,
вновь обвалявшись во сне.
Гибель склонившимся будет
лёгкой из лёгких наград.
Месяцы лучших погубят,
близя заснежья расклад,
что поукроет и стойких,
бурей сторукой свалив
древы, сараи, пик стройки…
Я же пока ещё жив…
36,6 + 36,7
Вдвоём теплей и мятней,
мёд солнечней, вкусней,
планеты, Бог понятней,
рассвет, фонарь ясней,
родней стыковки кожей,
из ран боль не торчит,
расхожести похожи,
и спирт не так горчит,
уютней край кровати
и пледа гладь, шатёр,
шитьё красивей платьев,
смешней игра и вздор,
нежняшней час, мгновенье,
прекрасней божий гад,
приятней вдох, веленье
и блюд любой расклад,
желтее злата проба,
един душ водоём,
печалей нет и злобы,
когда вдвоём, вдвоём!
Просвириной Маше
Бронежилет
Обвей ремнями плечи,
прильни родней к груди.
Страшны в кровавой сече,
средь пуль твои труды.
И впейся, будто в жилы.
Приму и холод твой,
чтоб трубы, ливер живы
остались, приняв бой.
Прошу, тесней пришейся,
чтоб вдох сберечь от жал,
к спине младой приклейся.
Страх вязко поры сжал.
Под свист осколков-гроздьев
твержу молитвой спич.
Скорей! Иль будет поздним
объятий тесных клинч…
Гедонизм
Земля оббл*денела,
пригрела явных сук.
Продажи лика, тела
под чисто-сладкий звук.
Пирует бал вновь ало.
За новой лестью шот.
Сеть ног китов обняла.
Икона Франклин лжёт
и дарит чудо вспышкой,
как змий слога и смех,
явившийся голышкой,
расправив низ и верх
гостей, влюблённых в похоть.
Творят цветной Содом
служанки, куш и крохи
ища, казённый корм.
Лучи, дымы, раж дела,
разгул и шабаш ведь.
Земля оббл*денела
и будет бл*денеть…
Синтетика
Версии счастий, несчастий -
мы, – манекены меж схем,
сборники лейблов, пристрастий,
блюд накопители, цен.
Дряблые выделки шкуры,
дёшев блескучий их вид.
Лаков подделанный гуру,
хоть и в вещах деловит.
Вычурный каждый проулок,
форма и стелька, покрой.
Звук обездаренно гулок,
хоть и напевов, нот рой.
Ложные копии вздуты
средь бутафорий и лжи.
Сути искусственной мути
вмиг приниматься должны
ясно, почти непреложной
истиной, будто б фетиш,
будто бы заповедь божья
прямо с рекламных афиш.
Замки и моды фанерны,
коим взмолились гурьбой.
Путь до беспутья неверный,
принятый овчей толпой,
знающей па, а не танец.
Гладкий до колкости свет.
Блеск бижутерии, глянец
всех ослепил. Я – аскет.
Киса
Мечутся икры, Отар и тюлень
ищут в горах и в воде свои цели.
Брачные игры, интимие, лень.
Каждому надо протиснуться в щели,
верно пристроить и семя, и ген.
Тополь, каштаны, влюблённые в землю,
сеют. И тем объяснение смен
рас и эпох, и лесов. Сему внемлю.
Жизни закон до простейшего прост.
Вечной природы умно положенье.
Киса, отдвинь распушистейший хвост,
выполним вместе инстинкт размноженья!
No logic
Верные годы ничто не дают.
Ликом тоскующим счастья и чуда,
чую, не вымолишь там или тут.
Знаю, счастливее вор и паскуда,
чем омудрённые книгой какой,
музыкой, музой, казной одарённый.
В бурном потоке жену и покой,
жаль, не увидеть, увы, упоённо.
И оттого стоит жить, как живёшь.
Что предназначено, то и имеешь.
Стройность и лад, миролюбие всё ж
не гарантируют рая средь шеищ.
Теплю надежды любовь распылить,
кою роднейшая встречно поймает.
Нынче ж, пока её нет, буду лить
бель свою в ту, кто её принимает.
Л.Е.
Перед октябрём
Горячих стёкол, брызг
игра мигает разно.
Златой, алмазный прииск
огней то мутный, ясный.
Тем ночь не так темна.
Жираф молчит фонарный.
Дорога так ямна́,
кучна́. Тоска угарна.
Растрёпы, плеши крыш
и грязь на каждых лапах.
Рыжеет блик афиш.
Сырой осенний запах
влезает в летний нюх.
И щит зонта – спасенье.
Бесшумье – рай на слух,
а темь – отрада зренью:
без рези сует, глаз,
мозаик дел, идущих,
одежд. Забора лаз
забит от лишних, ждущих.
Как прищур, лунный серп.
Взгорают, гаснут окна.
Чрез зёрнышко-отсек
зонта я начал мокнуть…
«Чёрное зеркало», 1 сез., 3 сер.
С другим? Вино и свечи?
Вливанья чувств, слюны?
– Всё это нерв калечит,
последний что в груди.
И впрыски влаг до недр?
Вскипает тихий мозг.
Внутри раздал им щедро
по паре сотен розг.
Изменный нрав бессмертен.
Доказан факт тому.
Ведь лучше знать, что черти
соседствуют в дому,
чем думать, что то ангел,
что в фартуке, белье.
Не только мне тот факел
светил, темнясь в вранье.
До правды самой грязной
дорылся зря… не зря…
Хоть память стала язвой,
так лучше жить, чем вря.
Машистая
Кулон из злата, букв,
и свежим сеном волос,
и рот с окрасом клюкв,
шутливо-спелый голос,
набор объятий, тем,
широких блюд подача,
прия-приятность дерм,
уютность, ритм, удача,
сплетенье нежных жил,
милейший стан и облик,
и женско-детский пыл,
халатно-белый кролик,
волшебность фей в толпе,
прощенья, шик, мечтанья…
И это всё в тебе
в прекрасном сочетаньи!
Просвириной Маше
Present continuous
Мирок прогнил до самых жил,
насытил ленью, лярдом,
умы и честь вмиг сокрушил,
извёл добро, вкус правды,
вспоил всех красками с лихвой,
лишив природных вкусов;
мужичий дух сменил на гной,
всплодил рабов и трусов,
и шлюх поставил у плиты,
в алтарь загнал безверцев.
А дети-куклы – лжи плоды -
с улыбкой и без сердца.
Забыты все творцы страниц,
герои лет, дней смыслы.
Одни принцессы, и нет жниц.
Сор пикселей в всех, числа.
И мы все то, что мы едим.
Сердца врагов жрут к силе.
Но нынчий мир, что не един,
говно жуёт в злой были…
Roads of life
Каменный век подытожен,
бронзовый, медный, златой.
С глупыми бытность возможна,
кои с айфонной плитой.
С ними совсем несподручно.
В стенах ищу лаз и щель.
Путь их мне чуждый, разлучный.
Тропка – рифмичная гжель,
мною всё рыщется с кровью,
тёртостью плеч и ушей,
срезанным волосом, бровью,
смятостью, дранью вещей,
с битостью стоп оголённых
об острия, камни, грязь,
с кожей меж ран опалённой,
чтоб обрести толк и (с)вязь.
Топаю дельно, то плохо
в нитках, босой и в венце.
Суть всю узнаю дороги,
пусть даже в самом конце…
Последствия
Растерзан скот. Угрюмо, глухо.
Исчезли молнии и гром.
Грязны́ лесные звери пухом,
а птицы – крыльями. Погром.
Заплаты сорваны так яро
с боков сараев. Бойни вид.
Как будто рейдом шли татары.
Сеченье ран вовсю кровит.
Все избы свалены, как кучи.
Стога размётаны и бор.
Свисают тряпочные тучи.
И рёбра все отдал забор.
Сырая даль. И рвань округи.
Измяты, сбиты семь дворов.
Глядит народ, кидая ругань.
Закидан всем и пруд, и ров.
Луга истрёпаны, как битвой.
И стёкла вышиблись из рам.
Деревья кромсаны, как бритвой.
Целы́ иконы лишь и храм…
Зародыш
К груди прижалась горсть.
Страшит этап начальный.
Возникла в сердце кость, -
растёт скелет печальный,
составлен из обид.
Зерно тоски в нём бьётся.
Злом, болями налит.
Темно ему живётся.
Он ширит выше рост,
питаясь больше, больше
различьем хмурых доз,
разлукой. Стенки тоньше.
Не справиться с бедой.
Изъять ножом, абортом
нельзя. Вкололся, ой,
в венозье и аорту.
Он – грусти жадный плод.
Сосёт пиявкой, впившись,
и пухнет каждый год.
Убьёт меня, родившись.
Windows of the city
Млечные, винные брызги,
бранные, вдохи вдоль лож,
битые лица до дрызга,
щели расширенных кож,
пасти раскрыты, кастрюли,
вовсе ль закрыты, пусты;
петли, яд, хладное дуло,
и без зашторья кресты,
нотно дрожащие ритмы,
книжно молчащая тишь,
люди раздельны и слитны,
в клетке пленяемый чиж,
злые, довольные маски
драмою, смехом полны,
пишут, не веруя в сказку,
так одиноки, вольны,
грустью заросшие, пылью,
жизни и смерть под сукном,
плен анемии, боль жильна
прямо за каждым окном.
Остаревание
Обняла посох горсть,
опёрлась грузно туша,
горбато, будто мост
от суши и до суши.
Обвила старость ум,
впиталась едко в клетки,
одев в дрянной костюм -
в унынье, хлам, жилетку.
А торс, походки стать
связала лентой лени.
Толкая вновь в кровать,
мой дом лишает тени.
Обжив мой угол, кров,
брезентом шторок кроет,
прибавив дрёму, снов
полудням. Память моет,
и хочет вымыть всё,
что с прошлым единяет.
Мой цвет от зорь до зорь
сгасает и линяет.
Пришла она, идёт,
и не отпустит, знаю,
согнёт, на нет сведёт.
Я никну, вяну, таю…
Проводница
Проводишь до гроба, родная?
Умеешь ты смерть торопить,
и звать, призывать, подгоняя,
и даже для поспе́ху бить
в бока её крепкие с злостью,
и злить, и растравливать слуг.
Подталкивай мясо и кости,
вселяя смиренье, испуг.
Уверен, до места спровадишь,
до ямы, до насыпи сверх,
и холмик смиренно погладишь,
и зелени вырастишь мех.
Безмерно усердна, способна,
и мастерски гибель несёшь,
и пластик даруешь надгробный,
и вороном чёрным поёшь,
и ловишь летящие души
корявейшим клювом, сырым,
охотником сытым и лучшим
глотаешь их меленький дым.
А после над всем хороводишь
поветрием хладным, сухим.
Когда в безызвестье проводишь,
возьмёшься за новых других…
Ма-Шик
С оттенком мёда, облепихи,
со вкусом их её уста.
И взор играющий, то тихий.
Тепла, до радостей проста.
На ощупь складная, объятна,
как точный пазл средь частей
чужих и ярких, непонятных.
Покоя бухта средь страстей,
где кораблю удобно, сыто,
где нет иных барж, якорей.
Волшебной аурой покрыта
средь пыльных зданий и аллей.
Всежильно, думно тяготенье,
касаньям жаждимый магнит -
она. Цветной владеет тенью.
Ей каждый мир и взор открыт.
И мастера пред ней приклонны.
Шарм совокупного добра.
В ней ласк невидимые тонны!
Она со мной! Ура! Ура! Ура! Ура!
Просвириной Маше
Изгнанец
Шары терракотовых ламп
богатство убранств именуют.
Там стили экспрессии, вамп
сюжеты всех стен знаменуют.
Резные столешницы в ряд.
И каждый узор тут полачен.
Златистый с изнанки наряд.
Начёсаны шерсти собачьи
и кудри, стога париков
хозяйских, до самых каёмок
и зрелых, младых, стариков
в быту и на лоне приёмов.
Лишь я залохмачен и сер,
никчёмный, голодный, облезлый.
В том замке я был первый сэр.
Средь лет я царил, до болезни…
Ах, нотки открывшихся вин
и запах роскошных красавиц
доносятся меж половин
забора, где я, как плюгавец,
какому назад нет пути,
какому лишь память осталась:
балы, кружева, мод суды, -
бедняге забытому малость…
Кавказский пленник
Влетевшая пуля остудит,
центруя мишень, юный пах.
В расстрельную кучу прибудет
измученный пленом в горах.
К опоре на миг пригвоздила,
и резко отправила в спуск.
И машут кистенем-кадилом.
Я в своре неблизких – Иисус.
И смерть одинаково срежет -
смиренный, несущийся ль в бег.
Присягу, медалистый скрежет
навек аннулирует снег.
Животно в угаре семейство.
Молящих и плачущих бал.
Пусть будет последним злодейство!
Пусть буду последним, кто пал!
Толерантность
Он гейист, томлённый,
манерен, смешон.
Но мир испошлённый
не ведает шок.
Он примет синь волка,
тип белых ворон,
пузатых, ермолку,
и третий пол, тон;
слог против не скажет
глупцу испокон,
любой грех отмажет.
В душе силикон
и язвы всей злобы
уж мир не дивят,
и розовость пробы
девчонок, ребят,
пришитые стержни
и ввёрнутость вульв,
ленивые лежни,
бездарности букв,
умы маломозглых,
и скудость людей,
и козни, скабрёзность,
и племя бл*дей,
угарных, и маркость,
и нервенность, лёд…
Мир примет всю пакость,
какая придёт…
Космичность
Толчок, и целый мир шатнулся,
и схлопнул точку до нуля.
До тьмы свечение свернулось,
ничто для бытности суля.
Листва – до почки, до песчинки -
Земля, до точечности – шар,
и насекомье – до личинки,
до искры – пламя и пожар
свелись, до капли – океаны.
Хребет всегористый скручён
до нитки, стал невеликанным.
И в выдох ветер превращён.
Любовь до выплеска из тела
сошла, вселенство не виня.
В мгновеньи шокового дела
весь Бог уменьшился в меня.
И полон вакуум сих бусин.
Бином. Первичности бульон.
Сансары цепь всегда искусна.
Начало новых жизней, войн.
От судьбы не уйти
Званные всячески в гости,
к поезду, в уличный ход,
к встрече на берег и мостик,
в здания, к выставкам мод,
в резвые игры и хобби,
к стройным и вялым кустам,
к ужину, блюдам, на пробы,
к новым и старым местам
дома остались, тревожась
капель дождливых, жары,
смирно, развально, то ёжась,
воздух берут, как дары.
Буря разбросанных красок,
двери распахнуты… Спят
в ужасе, бледности масок,
кровь подстрелив под себя.
Столкновение
Шоссе собой вчера окрасив,
глядишь с асфальта оком ввысь,
дорогу утром тем опася,
глухих просёлков лёдный мыс.
И стынут мышцы, чуб отдельно.
Фантомна боль. Перчинки-снег.
И бель слепит. Вокруг метельно.
И сны не греет с неба мех.
Помятость, стёкол паутина,
потёкший в мёрзость антифриз.
И топит случай пышность тины.
Иной в кювете смотрит вниз,
кто мчал быстрее и упрямей
чертей. А ты входил в туман.
Тут ночь не зналась с фонарями
века. Не спас вас талисман.
Поникли крылья, видя траур,
и перестали вдруг расти.
Тепло теряю ваших аур.
Вас опоздал двоих спасти…
Каштанность
Темень коричневых ядер,
зелень подбитых ежей,
жёлтость нападанных пятен
с веток – сырых этажей.
И шоколадиста гибель.
Стелен асфальта батут.
Скинутся многие, ибо
мучает ветерный зуд.
Град вертикальнейшей пушки
в крышу земную стучит.
Семя орехов, как души
грешников, павши, молчит.
Ягоды ль с крон великана?
Очи с драконьих голов?
РОдня ли камня в тумане?
Брызги вулкана с домов?
Сыплется колкий бубенчик
с дерева древних родов.
Спело-кофеистый жемчуг
сеет всю гладь городов.
Вирус
Вирус звериного пыла.
Ярость заразит с боков.
Пастью из пенного мыла
резать всерванно готов.
Всем озираюсь оскально,
зову предельности вняв.
Шерсти торчащие жала
ёжат, терпения сняв.
Кучит, ерошит гладь злоба,
мирность и зубы крошит.
Пламенно-кисла утроба
слюнно и ядно кишит.
Боли сей нет карантина.
Тело не сдержит поток!
Пуля моя иль вражины
вылечит, выдав исход.
Ныряльщик
Тянет свинцово грузило.
Виден мутнеющий сок.
Трачу пузырья и силы.
Буем надежд поплавок,
коему всё же "спасибо",
что не ползу я по дну;
что на виду – "неспасибо".
Холодно тут поутру.
Плюнут усато губами.
Вдетый, натянутый в рост.
Смирно и пьяно купаем.
Бледно шевелится хвост.
Тихо. Виднеются травы.
Так, и зачем сюда влез?
Только заметил я плавны
блики монисты и блеск…
Лёфка и Мафка
Дорога к объятиям, пледу
меж своры чуть спящих собак,
сквозь нити, канатища бреда,
и толпы, пустеющий бак,
потницы и выдохи внешне,
заспинно оставив боль, сны,
вела и прогулочно, спешно
до осени с поздней весны.
Тропинки под кронами клёнов,
по сотам брусчаток, мели́
за звуком дыханий и стонов,
молчаний, улыбок вели.
И рейсы от двери до двери
несли наилучшего смесь,
с предлюбьем, надеждою, верой
до юга из северных мест.
Просвириной Маше
Шалашик
Готовое счастье на завтрак:
мясистый до слюнок мосол,
салатные блюда из самок
павлиньих. Свисают на пол
колбасные цепи. И струи
шампанских. Крема на коржах.
Приправами – вкус поцелуев.
Мозаики салатов в ковшах.
Тут соки диковинных ягод
в графинах, икринки надежд.
Тарелок нет с горечью тягот,
обидой, соседей-невежд.
Цветное, съестное застолье,
устроено что средь чумы
в уютном шалашике, вольном,
где гости, хозяева – мы.
За стенками вой голодавших,
навесы и замки средь дня.
Пируем, друг друга дождавшись,
застольная пара моя!
Конечье
От осени этой так больно.
А сердце – телесная моль.
Средь сырости плещется сольно
холодный душевный рассол.
Ладони чужие согреты
остатком тепла из груди.
Сильнее горчат сигареты.
На них все уходят труды.
Все листья прилипли теснее
к дорогам, асфальту, своим,
от этого им и теплее.
А я всё брожу, ища сны,
чтоб на ночь хотя бы забыться;
чтоб грусти, невзгоды не зрить.
Наверное, стоит зарыться
в сугробы, паласы листвы.
От ветра и мороси, серых
пейзажей колючей лицу,
тюремнее мыслям и вере.
Ноябрь ум сводит к концу.
Целуемый, обнятый самый
Целуемый, обнятый самый
под самой из радостных дев,
над феей с улыбчатым шрамом,
кто любит мир, запахи древ.
Держимый стыковкой ладоней,
ныряемый в серую синь
поглядов и гамму гармоний,
что равны испитиям вин.
Зовимый в местечки и встречи,
с луча позитивом зажжён.
Дарящий, ласкающий речью,
телесьем и рифмой – влюблён.
Беседен в лицо, мониторах,
приветом с утра не забыт.
Всегордый и стойкий, напорный
любовным нокдауном сбит.
Просвириной Маше
Исчезнувшая
Ведьма любовного мира
(в верном значении слов!)
с грудью, как яблок наливы,
память мне радует вновь.
Вли́пкость, желанность объятий,
неотпусканье их, рук
в жизни не ведал приятней.
Ввек не объяться – испуг.
Мякоть, покой поцелуев,
нити душистых волос,
родность телесья волнует,
мило-прохладненький нос.
Лучшая девочка к сроку
вжилась под кожу, в глаза,
влилась ферментами, соком,
и не выходит назад.
Пусть приживается глубже.
С ней мои дни не плохи́.
Сердце – чернильная кружка.
Мною пусть пишет стихи!
Просвириной Маше
Taxi
А мимо проносятся люди,
света, эстакады и псы.
И в сердце с тоскующим зудом
я вновь вечерею в такси.
И как не бывало доселе,
тяжёлым магнитом назад
вновь тянет зайти в её двери,
и самою нужной назвать,
и самой приятной, до неги,
с кем ласки хочу, тишины
и танцев под ливнем и снегом;
с кем так обниманья важны!
И вот настроеньем погибший
качу, подтирая с глаз сок.
И, ой, незаметно прилипший,
как струнка, её волосок!
Я вижу, чуть выронив слово,
по-детски, влюблённо гляжу.
И чтобы увидеться снова,
на нём узелок завяжу…
Просвириной Маше
Незамечаемый рай
Родинок сладки икринки.
Плоскости, вы́шности кож,
впадинки, сок Мариинки,
с коей лишь рядом пригож,
с коей земли не касаюсь,
плеч чужеродных, сырых,
с грустями быстро смогаюсь.
Дом укрывает двоих.
Сладостно пьётся из кружки,
взор не глядит за стекло.
В тихой прилесной избушке
сыто, раздольно, тепло.
С ложа нет надобья слазить.
С ней не дано зачерстветь!
Средь непотребностей, грязи
только она – лучший свет!
Просвириной Маше
Союз
Я с нею прожил бы, уверен,
жизнь эту и новых две-три,
в еде и питье б был размерен,
но к ней не размерен в любви.
Объемлющим был бы и резвым,
и устным стихом душу грел,
и в холоде был бы полезным -
завёл бы костёр с книг и дел.
Так мало отмерило время
на тельно-духовный союз…
Не ведал доселе и в схемах
таких удивительных уз!
Ушедшую помню всевенно…
С ней чёрности снял и прозрел.
Пик счастья б поднял, несомненно.
Что мог ещё, жаль, не успел!
Просвириной Маше
Родные ладони
А тронувший руку под вечер,
цвет и карамелистость губ
рифмовья отчаянно мечет
о всей неслучайности судьб
их, и про трепет сердечный,
про близость охапок двоих,
и спайку в одну быстротечно;
про добрость её среди злых,
про осень, мечты и слиянья
в том трансе среди эйфорий.
Всё сердце объяли вливанья
горячностью яркою. Зрить
полегче, цветастее стало
завзявшему нежно ладонь,
и током роднеющим, малым
из пальцев исходит пуд тонн
мотивы ласканий и нужность.
Как будто на трон золотой
та фея возводит нескучно.
А он всепослушно идёт,
чтоб вместе навек воцариться.
Да! Фея, земной грубиян.
Он ею от тьмы излечиться
сумеет, держа её длань.
Просвириной Маше
Карма
Унылость, сухая безрадость.
Все прошлые жизни ль в бегу?
Я в нынешней чую усталость,
поэтому часто так сплю?
Угрюмый. А был шут и клоун
в минувших столетьях, ролях?
Иссякший. Тогда ли был полон,
цветочком, пчелою ль в полях?
Наверное, чёртом был, Богом, -
с того ни минуты в мольбе.
Треть века один – с длинным рогом
иль раньше толокся в толпе?
Безрукий, без дум, упоенья.
Наверно, ремёсла все знал,
иль чтоб не творил убиенья
с того Творец си́им создал.
Безжёнен, наследия нету.
Наверно, был раньше гарем.
Ручьями втекаю я в Лету,
ничем не запомнившись всем…
Обнимательность
Касайся, участливо трогай,
охватом прижми и прижмись.
Не будь равнодушной и строгой,
наместница муз. Закружись.
Играйся любовно в прихожей,
по клеточке каждой веди
податливых мускул и кожи,
и слоган про чудо тверди.
Влюбляй же. Согласен и волен.
Открыт я всему, что твоё.
Погашен, почти обездолен
без ласки, когда не вдвоём.
Желанье – свиваясь, срастаться.
Пусть не разлучат поезда!
Хочу и любить, улыбаться,
и знать, что со мной навсегда!
Просвириной Маше
Кусь и лизь
Приветливы взгляды, постели.
Лучистость речей, головы.
И всё это даром? И мне ли?
Природная, женская Вы!
Новы и задоры, повадки.
Занятна, смела средь игры.
Приятности трогатны, гладки,
аж нежит, мягчеет внутри
у воина, кончателя споров,
повстанца. Он Вами одной
смиряет оружья и норов,
с внезапно хорошей, родной!
Он – я! Тут догадок немного.
Пред Вами он истинный лишь!
Как снимет корону и тогу, -
котёнок, ручной и малыш…
Ах, кто даровал мышку кошке?
По телу, душе мне пришлись.
И хочется "кусь" Вас немножко,
а после – неж-щедрое "лизь".
Просвириной Маше
Blonde
Ясно-точёные грани,
розовый запах и вкус,
к коим, души открыв краны,
верно и гордо так мчусь,
даже на взгляд и минуту,
пробу чтоб свежую снять
с губ и прижатий поутру,
мудрости, вести узнать,
радость изведать с начала
и машамонов вдохнуть
(как амулет от печалей),
лишние думы стряхнуть.
Девичий облик и славный
с опытом, знанием всех.
С нею я, кажется, главный
в мире влюблённых. Успех!
Трогая щёки и серьги,
хочется в сто раз отдать,
и напитаться вмиг силой,
чтоб снова вечера ждать…
Просвириной Маше
Maria
Тайной дорогой, известной,
прямо идти, вдоль тропин
к самой живой, благочестной,
к лучшей из тех, что любил!
В дикость и сумрак осенний
выбежать в ямы дворов,
в зимний мороз и весенний,
даже и в летний, готов,
чтобы приклеить навеки
душу, уста и всё-всё…
Жизни любые дань, чеки
выплачу я! Пусть несёт!
Шагом измерить далёка,
вдохом и выдохом путь,
поиском сердца, двуоко
хочется мне как-нибудь…
Пусть призовёт она только!
Смазав разлуки слезу,
даже по милям осколков
я до неё доползу…
Просвириной Маше
Летун
Среди отвесов, гор бетонных,
стекольных бликов и пластин,
с утёсной выси, скал суконных
порхнул орёл в тиши один.
Внизу обрыв, ещё не шумный.
Пещеры златом не зажглись.
Он смелый или неразумный?
Предутра стрелки чуть сошлись.
Распахнут чуть его скворечник.
И гОлы взмахи, лапы, грудь.
Летит на пашню резко, встречно…
Узрел добычу – взял маршрут?
Все птицы ввысь летят обычно.
Иль тут прикорм, его гнездо?
Крылато машет с криком зычным,
но обрушается на дно…
Неожиданность
Вдыхаю цветною утробой
всю серость и тщетности, пыль,
петляя путями до гроба,
чуть крася смиренную быль.
Все рыщем родимых и белых,
разбавить чтоб чёрность свою,
читая сказанья про смелых,
царевен в крестьянском строю.
За улицей улица, пустость
и скудость на душу витрин.
Привычна толпиная трусость.
И я, впрочем, сельского сын.
Пожухлость очей, и расслои
похожих людей и складов.
И ноют наслой за наслоем
мозоли ленивых задов.
Весь город побитый, осадный.
Пейзажно-портретная сшивь.
Но встретил её так внезапно -
живущий, желаннейший миф!
Просвириной Маше
Животная разница
Нам несказанно повезло,
что мы расхожи в бытованьи.
Не пара львица и осёл
в любом подходе, трактованьи.
Походка, статус, рацион
и ареал, окрас нарядов.
Союз нарушил бы весь фон,
закон природы и порядки.
Расстались. Правильный исход.
Холуй с царицей – лишь соседи.
Итогом уз был б странный плод,
хомут на Вас, иль я б был съеден.
Елене Л.
Лучиковая
Хороший свет, очаровавший
бродягу, что узрел окно.
И он, в себя его вобравший,
хранит любовно под сукном
одежд, в уме и граммах крови,
что на полградуса теплей
от чар. Немного подняв бровку,
ему Вы кажитесь смешней,
и оттого ещё любимей,
ещё желанней, лучше всех,
порой балетной гибкой примой,
и чище, чем пионы, снег.
И оттого течёт он рифмой,
иными жидкостями в ритм
от Вас весёлой, негневимой,
свечой от Вас святой горит.
Несложный свет, но дивно-чудный.
Лишь Вы владеете таким!
Поток ловимый, незабудный,
какой бессрочно им любим!
Просвириной Маше
Содружество
Песок, деревья, лужи,
настилом хвоя, зверь
в лесу, посадках дружат,
являя нам пример
принятья кусто-веток,
колючеств, высей, влаг,
лежащей гнили, ветхих
во имя общих благ.
Беспечье, шорох, скрипы
в мелодьи залов, нор,
дополненные хрипом,
обвалом с крон и гор.
Бриз, живность безуздечна,
покой, лесничий-страж -
слиянье в общий, вечный,
один большой пейзаж.
Разлучение
Икон на стенах нет и полках,
ведь ты портретна тут была.
Про то судили кривотолки
соседних пастей, как жила.
(Икон не надо, коль святая
под боком и очаг блюдёт,
чья рядом суть, коса витая
к салютам, трудностям идёт.)
И шума нет, стаканов, воплей
и в панихидстве лестных поз.
Я профиль свой печально-орлий
склонил, роняя капи слёз.
И память-диафильм, фрагменты.
Событье – пища, зуд зверью.
Я возле лика с чёрной лентой
свечою плачущей стою.
Кофейность
Твой утренний кофе прекрасен:
из чистых колодезных вод,
со сладостью жёлтою с пасек.
Вкусён ясено́вский твой мёд,
наверно. Приправленный ромом
(– к пикантности маленький штрих),
украшенный солнцем и словом
напиток, что сблизит двоих.
А город пусть холод гоняет
по всем парикам, меж аллей.
Пусть губы к устам прислоняет
рассветность, кофе́ющий шлейф.
И вкусную крепость приму я,
какую сызволишь налить,
какую на кухне, дымуя,
мечтаю однажды испить…
Просвириной Маше
В поисках лучшей жизни
Сменив меня на корм других,
ругая образ жизни, слова,
мчишь без прощаний в пик пурги,
посъев икру с моих уловов,
к богатым, вдовым, молодым,
в златых и новых опереньях,
оставив грусть, заботы, дым,
в эротно-алчных намереньях.
Ведь даль всегда светлей, милей,
и неизвестьем манит глупых.
Но век под шубой, что белей,
всегда волки, а сзади – трупы.
…И вот, милясь игрой, двошишь,
чуть без приветствий, с битым боком,
так беспардонно ты бежишь
на водопой к моим истокам.
Рисунки
Пустоты и эхо, пещеры,
глубинные лазы во тьме,
зарубки побед и химеры,
след дней обитанья на дне,
подтёки, эскиз поединков
на бранных, любовных фронтах,
портреты, порою с затиркой,
а фоном – виденья во снах,
осколки (заходишь, и больно),
хибары, модерн и ампир,
слои, полутени, хор, соло, -
сюжетов сожительный пир.
Живёт это, тлея, то рдеясь.
А память то строить, крушить,
и радовать будет, надеясь.
Наскальная роспись души.
Живец
Ещё дышу я хрипло,
гляжу в муть, как могу,
но вижу, дело гибло -
отправлюсь в рот врагу.
И нету смысла биться, -
широк соперник, крут;
на рок подобный злиться.
Я мал, а значит – тут.
И тот, кто слаб, не юрок,
сидит так на крючке;
кто сильный, толстошкурый -
на блюде, до – в сачке.
А вдруг не зло та глыба,
а так пришла любовь?
Поверишь большей рыбе -
познаешь стыд и боль.
Заложник ладной снасти
средь вод и моря струй.
Зубной проглочен пастью.
С начал был поцелуй.
Папаша
Тиран, смеёшься ныне,
что грех любить, творить,
не так коплю алтыны,
не с тем иду я пить,
не с той семьи желаю,
и вкривь тружусь, иду,
и что мой лик пылает,
не так беру, кладу,
не знаю всех ремёсел,
что я – червь, сумма бед,
нахлебник и несносен,
что воздух – мой обед.
Седлаешь думы, плечи.
Вверх ядом брызжешь, вниз.
Без ласки лают речи.
Слюной не подавись!
А мир – глупцы и слуги?
Давай ворчи и ври!
Ты, может, царь округи,
но не меня внутри!
Внешне сильный
Корчует ветер волос пышный,
хромит походку слякоть, дни,
и остужает воздух дышло,
а холодь горбит, множит пни.
С самим собой его ругает,
скандалит и пылинки сор.
Всеодиночьем быт пугает.
Вколов под кожу грусть и мор,
мороз Титана вяжет, клонит,
желая в камень превратить.
Метель, стегая, в бурю гонит,
стараясь вдохи прекратить.
Цепляя шарф, всё туже тянет,
свистит, чтоб стоны заглушить
того, кто сник и сердцем вянет
без полюбившейся души.
Раскоронован и простужен
сердечный раненый Ахилл,
лишён умений, силы дюжей.
Он без тепла её дик, хил…
Просвириной Маше
География
АтлАсность и Атласность тела -
урок изученья любви.
Занятий добавочных смело
желаю. Мечтаний всех вид.
Искусные, вкусные груди,
блаженнейший сок из низов,
растаявший розовый прудик
глотками питает. Красот
подобных не видел вовеки!
Ах, клеточки, сгибы, как лён!
И хоть закрываю я веки,
отчётливо вижу её,
какую знавал будто раньше,
и гладил от верха до пят.
Я б бился в кровавейшей каше
за Деву, и пусть б был распят.
Любовь – геология духа,
без карт география грёз.
Она в размышлениях, слухе,
дыхании, капельках слёз.
Как курс анатом-биологий,
пособье для губ, языка.
Желаю в любовной берлоге
уроков навек, без звонка…
Просвириной Маше
Сельский быт
Тут твердь земли и пашни мякоть,
и старь кустарных мастеров,
гирлянды фруктов, бусы ягод,
исток романтики костров,
и колыбель для целых градов,
что каменеют, хмуря бровь,
и рай для люда, божьих гадов,
бревенчат старый, сенный кров,
поля, луга, леса мохнаты,
и волен скот, что тих, рогат,
и от любви не носят латы,
замков не вешают; стога
бока желтеюще пузатят;
и святость прячут под платком,
за сытный стол соседей садят,
парным всех поят молоком,
встречают вместе, провожают,
пасут стада, свято зерно,
природу, Бога чтут и знают…
Как жаль, что было то давно.
Вселенский ответ
Жданная, дар от Вселенной,
верный ответ на запрос,
самый, наверное, ценный,
что предостоин всех роз.
С ясным окрасом – блондинка,
в прежнем наборе тьмы, хны.
Может, она – половинка,
янь моей всей грустноты.
С мальства зовимая с воем,
шёпотом в праздниках, сне.
Двое из выживших с Ноем
чудом нашлись по весне.
В поиске, беге всём точка -
встреча, путями сошлась?
Девочка с кнопкой-пупочком,
магия чья в ум вплелась,
мною увиделась утром,
словно прозренье, раскат…
С нею хочу белокудрым
встретить всей жизни закат.
Просвириной Маше
Холодание
Листва искрошенная в пудру
иль в мокрость втоптанная, в слизь
шагами спешливо и нудно,
какие шли, плелись, неслись.
Иль сверху падает ретиво,
порезав щёку ль чуб, наряд,
листок бунтарски, неучтиво,
несёт под рану грусти яд.
Столбы надгрызены дождями,
как заготовье для плотин
и хаток. Стали парки пнями,
а лужи – скопищами тин.
Цитаты рвутся от афиши,
чей лик линялый побледнел.
Забили шторы окна, ниши.
А под плащом душевья мел.
Костра ль валежник ожидает?
Боль духа в сжатьи желваков.
И ветер, пыльности рождает
белёсый веер облаков.
Тут смерть всего, пустые земли,
мертвы каменьев семена.
Для возрожденья из пепла
такая осени цена…
Осенье
Осень как список негожих
серых событий и дел,
сумраков, тем непогожих,
к зимним лиховьям задел.
Ча́сье разбору полётов,
с вороха разных потерь
крохи побед достать, йоты,
и утеплить ватой дверь.
Время, когда так разлучен,
крах мечт, разлук рецидив,
кожно и кровно измучен,
счастья разучен мотив;
дату финала предчуешь
снова, знамениям вняв;
снова чуть пьяно ночуешь,
крепко подушку обняв,
женщину будто благую;
вновь одеялом надежд
тель укрываешь сухую,
слог подбираешь, падеж
к новой рифмуемой боли.
Время – дырь крыш залатать.
Снова смиряешься с долей
"ждать, потерять, снова ждать"…
Экскурсия
В душе хлам, кучи слёз,
портреты новых, павших,
сухой, сырой навоз
щедро в неё наклавших,
обитель думных мук,
и склад мечтаний, веры,
сумбур из тысяч штук,
что тут лежат без меры:
мешки обид, ведро
тоски и ран вдобавок.
В столе хранит нутро
план мести с сотней правок.
Чердак, где память ждёт.
Запас петард надежды
в шкафу, где моль и лёд.
Словарь купца, невежды.
Тут мал с весельем ларь.
И липкий рельс перила.
И стали слёзы, гарь
для книг моих чернилом.
Закрытый окон гляд,
а пол – настил земельный.
Все балки крыш скрипят,
держа напор посменно.
У стен всех крас мазки.
Цистерны, бак напалма
тут, сталактит тоски.
За что такая карма?
За прежню жизнь в раю,
с пирами, смехом, горном?
Гляди, в сиим краю
в углах любви иконы!
Тут немощь духа, слабь,
но мощь, коль я любимый,
с просветом ночь, не раб,
и ввек непотопимый!
Исторья так томна.
Ваш ум, уверен, всклочен.
Нет, опись не полна,
но экскурс мой окончен!
Скамейка
Деревьев роль проста -
сводить влюблённых в пары,
как шпалы, длинь моста,
кроватье, дом, гитары,
дыханье в каждом дне,
и грев в печном зигзаге.
И пользу дали мне -
признанье на бумаге
для той, кого нашёл,
взойдя по трапу слева,
кто лучшей из дев, жён
была б женой мне, девой.
Но нет… А, может, да?
В процессе ль древьи кланы!?
Крон штили иль ветра
исполнят божьи планы…
Весь мир – любовный фон.
Леса как не при деле,
но дали нам тот трон,
что был решётчат, стелен.
Просвириной Маше
Опустошение
Пламя совсем отгорело,
обнял деревья туман,
море прибойность допело,
титры стемнили экран,
строчка романы закрыла,
стих механизм у часов,
стёрлися гладкости мыла,
вщёлкнут от гостя засов,
платья изъяты из шкафа,
шарфик развязан, в моток,
сказки закончены графы,
хлопнул обложки щиток,
шаг твой остыл до морозов,
грудный замедлился стук,
грусти добавились позы,
и отгвоздился каблук…
Дни циферблатом измерю.
Свет есть в ночи и вражде.
Встретимся, знаю и верю,
в марте, январстве, но где?
Кунецелуй
Платье, замок и сандалии,
двери-заслон, кубы тумб.
Запах малиново-малый
веет с улыбчивых губ.
Арка, ковры, одеянья
вмиг миновались в страстях.
Влага сочит – к излиянью.
Как же уютно в гостях!
Кож сочлененье, молений,
искры очей, дел костёр.
Оси и дуги коленей
резво воздвигли шатёр
из одеяльных покроев,
где её свежий дурман.
Вместо десертов, второго -
новый обеденный план.
Разных не надобно речек,
только лишь сей родничок!
Чуть приподнялся навстречу
розовый юный буёк…
Просвириной Маше
Самозатворник
Все темы старые глодая,
и в сотый, тысячный ли раз
обиды кость, дни коротая,
закрыл от солнца хмурый глаз
и в душу лаз, замазал щели,
тем не давая блику лишь
войти в темницу, сени, мели.
От новых веяний дрожишь,
и вновь заборишь от веселий
унылой кельи бедный двор,
хранишь тюрьму и гроб постели,
боясь начать шаг, разговор,
лишаешь руки, дух полёта.
Вокруг всё пахнет и цветёт,
семья, труды, парады флота…
Сидишь? Так помни это вот -
смакуя высь ума и силу,
вопя на глупость, грязь и жир,
не надорвать бы кольца, жилы
в анальной злобе на весь мир.
Просветление
Забыть во мгновение ока
цветенья лугов на версту
и город с безумным потоком,
порочность его, красоту,
себя, боль, родившее чрево,
и дружьи, и вражьи ряды,
по ком был изрядно плачевен,
тех, кто веселил на лады,
пленявших, как явные ведьмы,
каштанность их взоров сырых;
полезных, бичующих, вредных,
в семейство зовущих, и злых,
планетные беды, заботы
и праздники, солнцесть лучей,
фронты и бывалые плоти,
увидев синь-серость очей…
Просвириной Маше
Машинопоток
Хаосом, вектором правил
чётко направленный путь
ленных, трусливых и бравых,
красочных, алчна чья суть.
С рыком, молчаньем несутся,
сонность отдав палачу,
что кофеиновой бутсой
в грудь бьёт. Подобен врачу.
Ток по белеющим трассам
прям из тестикул сырых
тёмно-гаражных, как масса
чуть приодетых и злых.
Хлещет по линиям, сеткам,
разницу генов несёт
дымный поток к яйцеклеткам
важно-неважных работ…
Сновидения
Сон – репетиция смерти
длинностью акта на два,
разный сюжет круговерти,
средь декораций шитва.
Драма, комедья, миракль
в кратком прочтеньи, пробег.
Гибель – иной же спектакль,
и протяжённостью в век.
Саван постельного ложа
и безмятежность глазниц
чем-то на гробность похожи
в чреве усопниц, темниц.
И при усталости сложной,
к сердцу приставив опал,
я, при именьи возможном,
века б три с лишним поспал…
Мистификация
Тоска и толкотня,
людская сыпь и муть.
Космичный миг огня
поджёг бумажный скрут…
Горчинка терпко вьёт
и клеит взгляды, слюнь.
Теряет разум счёт -
сегодня март, июнь?
Вдруг знаю всё о всём,
и даже божий план.
Все страны – это сон,
границ нет. Всё обман.
Микробы с речью все,
сок Марса между жил.
Я – зёрнышко в овсе,
собрат лиан, шиншилл.
Под когтем ли орла,
иль так я сам лечу?
Стать жабрами пора,
колечком ли к ключу?
…И вот ещё тяну
один прохладный вдых,
и вот уж я в плену
у ёлочных мартых…
Очищение
Вытошнив сгустки обиды,
самую больность, всю кладь,
что залилось мечтой-пинтой
(Некуда больше глотать!),
сплюну последни остатки
в кучи кустов и равнин,
что принимались так сладко,
брызги отмыв от штанин.
Выдавлю с нижних отверстий
все обещанья и ложь, -
пучат, теснят многомерзко.
Не прижилися. Ну что ж…
Очи от лести омывши
давнею слёзной волной,
скрежет назубный прилипший
я всполосну чуть больной
полостью, знающей ласку,
горечи, сладостный пир.
Выкричав боли с оглаской,
снова начну я пить мир.
Пусть я дурашный Емеля,
с чуть уж седой бородой,
снова в любовье поверю,
что буду нужен я той,
кто будет ждать и лелеять,
и без измен очаг греть,
и поцелуйности клеить,
с кем разлучи́т только смерть.
Смирение
К пустотью стен, вине, бездетью,
погрызам пылью, крысой книг,
битью словесьями и плетью,
судьбе подшефных Лили Брик,
молчанью вскриков телефона,
и что безгостенен мой дом,
и к безуспешью в брачных гонах,
к одеждам в серо-чёрный тон,
к ненужным строчкам, небогатью,
сердечным, ямным разбитьям,
что к деньрожденческому датью
один, бездружью, нежитьям,
к болезни лика и внутрянства,
что за добро схвачу пуд стрел,
и к склонности к уму и пьянству,
к жаленью тех, кто не жалел,
к тому, что спермь не цвета мела,
что будет пусто в днях, темно,
что безжеланно, наспех сделан
привык, привык уже давно.
Революционерка
Повстанка буйного размера
с мечом, кнутом наперевес,
с наганом, пламенною верой.
В седле, как будто адов бес,
в косынке, чёрном облаченьи.
И конь привстал ногой над пнём.
Пыл обещаний – быт плачевный
низвергнуть, всех виновных в нём.
Вся мощь в груди – стране во благо,
неблаго – для противья сил,
что стены подопрёт вертляво,
падёт в бою за путь Руси.
Всеслышным кличем оголтело
зовёшь, как воем стаю волк.
И к крови, льющейся из тела,
готова ты. Готов ли полк?!
Прошлое в настоящем
Мастер, окрасивший миску,
в раму одевший портрет,
и наноситель всех рисок
на этот нож, табурет,
сделавший стену кирпичной,
дока, соткавший ковёр,
кто доставал с чрева лично,
вставивший раму в тот створ,
свивший написанно строки,
провод провёл в потолке,
чай выгружающий докер,
что мы тут пьём в уголке,
гения ведший наставник
сызмальства и до всего,
воин, у вёсел кандальник,
давшие жить без тревог,
кто изобрёл вина, люмен
и поцелуйный процесс,
чую, скорей всего, умер,
мы ж ещё живы, и здесь…
Одинство
Ветров освисты не тревожат,
колёсный визг, дурной клаксон,
и что кого-то смерть итожит
за шторой той; в камнях газон,
облаи сук, людских ли пастей,
и под подошвой скользь иль хлюпь,
"ложить" ли верно, или "класть" ли,
стоянье, топот, ржанье групп,
дитячий плач и хамь морщинных,
и гарь бензиновых спешил,
хвала от низших, величинных,
иль брызги слюньев, из-под шин;
и бедность, хромь владеют рифмой,
и болен дух, хотя здоров,
опасней лика, сердца мина,
а в доме лишь вино, нет дров;
улыбки поры всё ж не дрогнут,
счастливья видя, смеха бой,
в холодной спешности я вогнут,
когда один, когда не твой…
Просвириной Маше
Народный гнев
Изловлен самым ловким, резвым
борцом за власть на новый лад
царь, подведён под навесь лезвий.
Подушку пня поправил кат.
Народный глас глаголет волю,
верша скоплённой злобью суд.
Его, подельников ждут боли.
Разрозья армий не спасут.
Вина его – в упадке быта,
хотя сам золотом лучит.
Страна канавами изрыта.
И ни один сосед не чтит.
И вот пришла за это кара
на вилах грязной, злой толпы,
уже нетерпящей обмана,
и что в отчаяньи борьбы.
И небо будто потакает
казнящим, смене, естествам!
Боярам тут не помогает
ни чин, ни степени родства.
Наоборот! Кишит тут гудом
общинный бой. Секиры взмах…
Да будет шаг вперёд и чудо,
и свет в их жизнях и домах!
Букетик
Букетик честных настроений,
который радует взор, слух,
среди привычных древ, растений
ни лепесточком не потух;
чей вдохновенный, чистый запах
несёт амбре, пречудный флёр.
И я держу за стебли в лапах
его богатый, сочный сбор.
В наряд одета вся охапка.
Волшебный образ без шипов!
Бутоны снежные, как шапки,
что предостойны ввек стихов.
Мальчишкой юным лыблю щёки,
дивясь, мечты о нём леплю…
Из всех букетищ без упрёка
я лишь его один люблю!
Просвириной Маше
Отравы
Неправды крашеных голов,
бал пёстрых и невзрачных,
слиянье сущностей, полов,
и мест культурных, злачных,
и серость дев, холёность див
средь сельско-градной были,
молчаний и бесед мотив
в дыму выхлОпном, пыли,
шаганья джинсовых полос,
и моды штамп заветный,
и на любовь возросший спрос
при нелюбви ответной,
рисунки масок – грим смешной,
яйчистость женских правил,
мешок натянутый брюшной,
и рай реклам, канавы,
и культ детей, счастливых жён,
чтоб муж пел, хороводил -
всё лезет въедно, на рожон,
рябит, отврат наводит…
Приметы любви
Сказанный слог зачинает
сотни историй любви,
людям мечту причиняет,
силу оспорив судьбы.
Дареный стих и конвертик
утро влюбленьем начнут.
Можно бы в это не верить,
но я – пример того тут.
Сделанный шаг всё меняет,
рушит звонок тишину,
право на чудо вменяет
шанс новой встрече. Рискну
сделать реальностью строки,
рук прикоснуться, души,
и продлевать наши сроки,
как полнят баки машин.
Поднятый взгляд не опустит
ветер и солнце, и дождь.
Буду с тобой даже в грустях,
если сама не уйдёшь…
Просвириной Маше
Чистота
В кипенно-чёрном подвале,
в гадостный яме на нюх,
где колко-липкие твари,
средь плесневелых краюх,
сбитых, сырых тротуаров,
в людно-стальной толчее,
между плевков и ударов,
в вязком дурном старичье,
и средь этажных моделей,
юных, кому чужд ум, пот,
стенок знакомых борделей,
сделавших в мир разворот;
и средь талантливых ленью,
красящих маркером глаз,
и одинаковых в звеньях
ты – мой чистейший алмаз.
Просвириной Маше
Буян
Раненный ль детскою веткой,
гадко-наружный, хрипой
злою вибрирует сеткой,
стопами, оком хромой,
тянущий речи резиной,
в сальных отрёпках, витых
хлёсткою бьёт голосиной
вставших, ищущих, святых,
страшен, взывающий к Богу
всячески всех покарать
пышет, невидимым рогом
столб атакует и кладь,
воздух пинающий, камни,
взмахи – удар топора…
Чую, что жив за сей гранью
тихенький отблик добра.
Грачи
Утро, как давешний вечер:
гогот, плюющая речь.
Тёмно-грачиная встреча
снова. Арбузная течь.
Свисты на попки красавиц,
падких на жильный насест,
с функцией часных забавиц,
самок осла, ой, невест.
Темь тут ярится зрачками,
денежно перья шуршат.
Мудрость и ум за очками,
травные ль очи спешат?
Ночь их с собой поравняет,
тёмность, опасье неся.
Воздух бараньи воняет,
хряков привыкших беся…
Старые враги
Кляксы и рваные кудри,
старый поношенный фрак
времени, где был так мудр,
юн и силён, как маштак.
Нынче – скупой и дохожий,
слаб и ворчлив, некрасив.
Будто на стену похожий -
к ссаках, рисунках, грязи.
Верный заветам Заветов,
библиям красных вождей,
и выключению света
в час молненосных дождей.
Ссыпал иголки с макушки,
взял катаракт пелену.
И промокашками сушки
стали в чаёвном плену.
Мокнут они, да и только,
а не вседевичье смен.
Челюсть осколочьем горьким.
Нечем творить грех измен.
Бытно заезжен старухой,
что греет книгой барак,
книгой стихов твоих, – сука,
что не прочла их никак…
Шторм
Тухлые, ржавые волны
вязко мозаику несут
из-за околицы школьной,
донца щекочут посуд
банок, плывущих коробок
с парусом-фантиком вверх,
буй откупоренных пробок,
и островком чей-то мех.
Лужи из рыночных далей,
вмиг огибая лоток,
тонко и разно питают
этот дождливый поток.
Туфлями топчутся ленты.
Как великаны во тьме
моря. Сокровища-центы
в сей штормовой кутерьме.
Травы цепляют, как грабли,
мусор красивый в кивке.
Чудо – внезапный кораблик
белый в помойной реке.
Кошка
Лёгкость накинутой шкуры,
когти воткнутые в древь.
В комнате древней, понурой
я, будто маленький лев.
Мышь, жаль, уже не боится,
моль чешет чаще бока.
Слава моя чуть лучится
всё же, пока что, пока…
Прежни хозяйски привычки.
Ткань, подоконник и я,
как и бывало… Вторично
всё, что не так… Чешуя
рыбы в вольере прозрачном
мною не бита, цела.
А за окном район злачный,
где страшно и средь бела.
Чую по-прежнему родность,
нужность, не слыша уж фраз.
Мёртво венчает животность
пустость стекольчатых глаз.
Последняя воля
К чужим подхорони,
свои и тут обрыдли,
чтоб в небе мне они
уж не вещали. Пыткой
тут были. Не хочу
родных к себе в соседи.
Я больше заплачу,
чтоб их не видеть сети.
Тереться гробом в гроб,
как боком тут в теснотах,
желанья нет. И чтоб
свои лишь слушал ноты
и мысли, волю, слог,
не вонь костлявой туши,
не храп, не запах ног,
что думы, ритмы глушат.
Упрячь в инакий склеп
к по духу близким, теме.
Хочу реалий треб
и пользы в это время.
Коль мест свободных нет,
кремируй, бросив в ящик, -
тем буду в сотнях лет
глухим к глупцам, незрячим.
Whore
Мясной глотая шланг,
хлебая пену с жилок,
желаешь много благ
лишь при именьи дырок.
Подвязки, татуаж,
приём купюр и наций.
Ремесленный твой стаж
среди амортизаций.
Желанна и в хвалах.
Любой каприз исполнишь.
В имеющих телах,
как будто в море тонешь.
Покинут берег, дом.
Но годы слабят щели.
Корабль топит шторм
и ширь невозвращенья…
Волы
Не болюшко, а боль
кромсает всё внутри.
Ах, Олюшка, ах, Оль!
За что так, Боже, ты?
Ах, сельская страна!
Тут сушь на листьях трав
и в пашне седина
росистая с утра…
Вдохни, приди назад,
привстань, как уж не раз!…
А как же дочка, сад?
Прошу, ну не сейчас!
Без чувствия земля -
что семя, человек.
Ах, не сберёг тебя! -
вина мне та навек.
Зачем нам клубней пуд,
что корни в тьму плодит?
Зачем бескрайний труд,
что жилы холодит?!
Рябцевой Татьяне
Метеорит
Как радужный гранит,
лежит в раздолье тыла,
космичность тайн хранит
кусок огромной пыли.
Снаряд иных планет
иль это сердце Бога,
что выпало в ответ
на боль, как стало плохо
от зримых бед людских?
Иль уголь то с сигары
на поле городских
окраин – награда, кара?
Он – знак иль неба сор?
Кто рад, печален, воет…
Гляжу на чудо ль вздор,
чуть шелестя листвою…
Антинегатив
В поганстве окружном дыша,
замедливши снова вдыханья,
чтоб чистой остались душа
и в крылиях кровь для порханья.
Чрез раз или два, или три
зрачки поднимаю на встречье,
щадя все отсеки ноздри,
не взоря на гул, изувечья.
Речами запхнув уши в такт
сердечного ритма и мыслей,
я грежу о прошлости дат,
не видя под деревом вислых
и грязный поток, и плевки,
замёрзшие, хмурые лица…
Мечтанья о нас, как буйки
над хаосом, вечно что длится.
И век не встревая в погонь
бег, ругань и тесность катаний,
храню свои силы, огонь
для наших приятных свиданий.
Просвириной Маше
Глухота
Мне стон, набатный шум,
сирены, шелест, оклик
неведомы, – как глум,
невежи будто огрех.
И все, как рыбьи рты,
с нечувствиями тембра.
Страшней средь темноты.
Тишь нотного шедевра.
Пускай снаряд, прибой
шевелится, крик птицы,
порок неслышья мой
век будет дальше длиться;
хоть будет кликать друг,
хоть дикторы вокзалов…
Познал я сей недуг,
когда мне "нет" сказала…
Завтрак
Продли меня к себе
цепочкой серо-белой,
как ниткою к судьбе,
движеньем осипелым.
Смакуй, ловя струю,
и подбирай капели,
текут что по белью,
втирая маской в тело.
Я щедр, как всегда,
и курс в живьё направлен.
Вкушай, как никогда,
изыск, – любовью справлен.
Ты, может, сомелье?
Не знаю! Да и надо ль…
Распробуй тон в питье -
вина и авокадо…
Извергшийся поток
на чудо, смерть похожий.
Как жаль, миг короток!
В обед ещё продолжим…
Женщина
Просвирлен и явно промашен,
промельничен терпко, легко,
снутри карамельно прокрашен,
приближен к усадьбам богов,
и вдоль, поперёк исцелован,
изобнят, истроган, как столб
Иисуса, теплом избалован,
отведавший вкусы меж проб
всеместий прекрасной из Женщин,
магической феи в сыть, сласть.
Не надо цариц, иноземщиц!
Лишь с нею хочу себя класть!
Всепробовать, чуять и ведать
до клеточек каждость её,
улыбкой, прижатьем обедать
желаю, мир сдав в забытьё!
Просвириной Маше
Underground
Расквасилась серая тишь,
туманом куря на рассвете.
И в кошке разжёвана мышь,
что с вытекшим глазом в привете.
Тут россыпи жёлто гниют,
без чаши, колёсьев тележка.
Сарай – туалетный приют,
угарным, бездомным ночлежка.
И в луже утоп бутерброд,
как будто слоёный корабль.
Есенинский кучится сброд,
стараясь заделать ансамбль
из выкриков, стуков в ведро,
замнившись поэтной пехотой,
заливши блевотой пальто,
стараясь довытянуть ноту.
Тоске, холоданьям почёт,
продрогшим, согнутым осанкам,
и нос отпростудно течёт
пи*дою младой нимфоманки.
Тут хмурые все за одно,
тут ссоры, кулачия блудней,
тут в листьях златистых говно…
Сюжеты воронежских будней.
Редкость
Сакральных и крашеных кралей
заведомо видно средь всех -
кто мазанный миррой, эмалью;
кого ж не украсит злать, мех.
И мало так преданных чести,
потворщиц геройств и искусств.
Под слоем припудры и шерсти
одни лишь пародии чувств.
Циркачий, играемый облик
фальшивит в манерах, словах.
Всечуем естественный отклик,
который красив и в шагах.
Немногость редка, единична,
нечисленна в все времена,
искома и так экзотична,
поэтому так и ценна!
Заменитель
Вскипая и страстея,
прогнав от глаз кота,
соски лаская, шею
и впади живота.
О юных, статных грезя,
укуталась в мечты,
крадёшься, к влаге лезешь,
вздымаешь груди ты…
И фоном нот мотивы
кружат, ослабив стыд.
Тобой-красоткой, дивой
любой бы был бы сыт,
и внёс любовь иль похоть.
Тебе ж они не в масть…
И в одиночьи охать
ты выбрала… и мазь…
Направь орудье в низи,
к соседству бритых дыр
и в розовые листья,
их скользко харакирь.
Выпускание
Псиной отлаять на ветер,
рупором всех сматерить,
вышептав грусти у клети,
бранью, хулой одарить,
выпулить хохмы, подсечки,
сленгом щедро обложить,
срамны отцыкать словечки,
память-заплатки отшить,
брызгами рта орошая,
вылить и выдавить злость,
высказать, не вопрошая,
выкашляв зависти кость;
выплеснуть пыл недовольства,
выжать запасы тоски,
выреветь боль от изгойства,
вырыгать сажи куски,
выпеть все нотности птахой
и отрычать зверем ночь,
выпустить струи из шахты,
как водопадности, прочь,
выстонать то, что забилось,
бабкой дурной откричать,
выругать всё, что копилось,
после – навек замолчать…
Попутье
Мокрая, ржавая злать,
ставни неровные строек,
байковый мимо халат,
пенные лужи от моек,
щепы погнилых досок,
скрадены прутья решёток,
стойка дешёвых носков,
брови отпавших уж щёток,
мусорный запах в кустах,
ром недопит богатеем,
герпес цветёт на устах,
свист тормозов лиходеев,
клёны ответны руке
жёлто и так пятипало,
лужи стремятся к реке,
клякса блевотная свяла,
мебели рухлядь в дворах,
выхлоп чужой сигареты,
смрады, дома, как барак,
церковь, киоск, минареты,
ткани, газеты в углах
с бурою жирной печатью,
трупы раздавленных птах,
скользкие тропы, небратья,
шины, и кошки в окне,
флаеры с вестью о льготах,
чудах, леченьи акне…
Очерк от дома, с работы…
Непринятие
Вилки опиленных клёнов,
кем-то разутый тягач,
бок гаража подпалённый,
сорванный с древка кумач,
гнило-посмятые груши,
камень массажит ступню,
этим тревожа ум, тушу.
Камень попал в западню!
Улицы – поле побоищ:
залиты кровью пески;
столики – знаки попоищ:
рванки и склянки, куски.
Лавки обсижены грязью
явно двуногих зверей.
Пять вариантов опасий
прям за углом, у дверей.
Бантики, пробки, набойки,
кеды висят в проводах,
и над лачугой надстройки.
Люди с собой не в ладах,
носят что дряблые вещи,
втиснув в глотальник еду…
Вижу всё тёмно, зловеще,
будто гуляю в аду…
Машолнышко
Испить любовь хлебком
из губ касаньем, входом,
распутать чувств клубок,
что зрели год за годом,
раскрыть шатёр на всю,
в степи как, перед ветром,
направить бирюзу
очей в синь, миллиметры
её природных глаз,
объявши женский космос,
хранящий дивность масс,
ответы судьбоносно;
признать теплей родных
и царственней царящих,
и звонче заводных,
прозреннее смотрящих;
с беспечностью примкнуть
к живым, святым флюидам,
быт, грусти оттолкнуть,
Машолнышко увидев…
Просвириной Маше
Верящий
Я верю в держащие пальцы,
в косынку на чистых кудрях,
и в данные встречи и шансы,
в веселие жизни меж плах,
в беспечность, отсутствие горя,
и в добрость сторонних голов,
что рыбь я златая меж моря,
что я – не трофей, не улов,
и в нужность, живое величье
и свой нескончаемый дар,
что с пошлостью или приличьем,
он – зеркало обществ, радар;
и в тёплость, всемерное братство,
что справится мир с темнотой,
прибудет свобода, богатство,
когда её милость со мной!
Просвириной Маше
Взявшая
Такого азарта, всеможья,
доступного в каждый момент,
желают, чтоб страсти заложник,
навек безлимит-абонент.
Протиснуться к пахнущим норкам
неведомой пьяной смолой
и соками ягод с предгорок
мечтают старик, молодой.
И я обуян увлеченьем
и прихотью, похотью весь,
не знающий stop, отвлечений,
взымев аппетиты прям здесь,
и видящий искру в ответе
аффектом замасленных глаз.
Подмокший низОк от привета
раскрывшей помадовый лаз.
Любое дозволено призом:
вид, ракурс, загиб, поворот.
Прекрасно так видится снизу
любимая, взявшая в рот!
Магазин «Литорок»
Ты мог быть киоск "На разлив",
в пустыне словесием слюнным,
палаткой, где надпись "Цой жив",
прибежищем музыки юных,
где рок и запенистый хмель,
рассказы икотные слышны.
А коль после "т" было б "е",
ты мог бы салоном быть книжным.
И бочкою мог быть с вином,
названием с разною пробой…
Пока же в сознаньи моём
играешь идеей секс-шопа…
Рана
Как солнцем порез одинокий -
для выхода женских страстей,
в красивейшей ёмкости, тонкий.
Шедевр средь дивных частей.
Извечно равняется Богу,
и выше религий, богов
и власти, указов престрогих.
Как искра для дум, очагов.
Царапина высших умельцев,
придумавших этот рубец,
что будто разделит всё тельце,
дав новую жизнь, не конец.
Оплавлен. Застывшая магма
вулканов, что встречно текли,
слияние сплавов и шрамов,
какие на жизнь обрекли
на глину похожее что-то,
нарекшие именем в днях,
и введшие семя в работу,
что после сойдётся до пня.
То светлая, кровная рана,
какую судьба – тормошить,
как фетиш, тотем, многогранна.
Вовек не дано ей зажить.
Впущение
В разрезь объёмных ног,
в ощепины, что влажны,
войти я храбро смог,
хоть были Вы так важны,
и неподступны так,
как ров, стена аж сзади,
неколебим взор. Такт
помог мне снять блокаду,
заслон, замки, ремни,
бронь, кружево, смущенья…
Со входом временил,
к себе маня влеченье.
Леча стихом Ваш дух,
глубины, ширь пробоин.
Приятен стал на слух.
И я – Ваш равный воин.
Желторотики
Скворечник-светофор,
где меркнет жёлтый блик
просящих в писк обжор,
чей клюв широк, велик.
Как солнце ели рты,
как треугольный луч
птенцов, что не горды,
нелётны меж древ, туч.
Причудлив старый дом,
уютней, чем гнездо
под жаром и дождём,
под хладною звездой.
И выводок из птах,
чей пух почти мохнат,
терпя голодность, страх,
всё ждут с червёнком мать.
Зеркальце в прихожей
Глядя в пластину зеркалья,
вижу приобнятых нас, -
будто орлы среди скальных,
горных пород и прекрас;
будто анфасы царящих,
стороны древних монет,
иль те, что скоро обрящут
титул, богатства и свет;
словно дуал и несходный,
будто б подельник, чета,
пара подводных иль скотных…
Что-то знакомо в чертах…
Будто похожих два древа.
Или один был привит?
Что-то есть сродное слева,
справа… Вмиг не уловить.
Кажется, близким мне признак
радужек, влас, декольте,
будто из прежнией жизни
фото на общей плите…
Просвириной Маше
Кредитор
Щедро сыпучая дней казначейка
шумно листает валюты листвы
и заполняет все ямы, лазейки
гибелью, влагою, даже мосты
вновь подметает, и мажет по-новой,
стены хранилищ открывши ключом,
то закрывая, – шутя так дешёво
в час перерывов. Кунает лучом
в вязкую грязь, заверяя расписки,
плюнув на штампы, стучит по листам
громом, и вносит в бухгалтерски списки
строки цифирей и литер полста.
В парки швыряет усердно и рьяно,
метко, сердито, почти наугад
срывы с деревьев, как брошенной, пьяной
бабой, дикует, порой невпопад.
Полуоблезлу вспушает причёску.
Цепи отчётов и бланков в уме.
И должников отправляет под доски,
клетки решёток, сведя их к суме.
Щедрые вбросы в верхи и низины.
Но в глуби ценной кусучий капкан.
Злата метель со спины мне, за спину,
но ни купюры, монетки в карман.
Каждый кредит аннулирует снежье.
Склизкою гнилью предстанут они.
И кабала вся уйдёт, безутешье.
Не застрелиться б до зимней луны…
Phallus
На куст парной мочою
стремлённою людской
он брызжется струёю
с весельем иль тоской,
с нуждою иль дурачась;
то каплет гной-свеча,
то в холоде чуть прячась,
всё ждёт весны, луча;
то виснут с него слюни
в интимно-длинный миг,
то высит плотно, юно
главу в налитый пик;
то кожицей играет,
то снимет капюшон,
то прячется, ныряет
в чужой мех, слизи, тон;
то в тряске, то в покое,
прижавшись к двум друзьям,
бытует… Но о коих
во слух сказать нельзя…
3 в 1
Девочка, кратная слову
"лучшая", "чудная", "шик",
склонна к тушению плова;
чей утром дивнейший лик.
Знает, где водятся ноты,
где ещё больше тех нот.
Миксом тепла и заботы
тихо, просторно живёт.
Девушка – плавная лодка,
с коей плывётся легко
в ясном течении, ловко;
с коей нырнуть глубоко
даже ни капли не страшно.
С нею желанье – взлететь,
быть и серьёзным, дурашным,
молча идти иль звенеть.
Женщина с пробою веской,
к коей по рифам приплыл;
яркая, даже без блеска,
высшая, хоть и без крыл!
Просвириной Маше
Клубника
Букетом кожаных стеблей
в сухой, неузкой вазе
застряло пятеро парней
в пикантно-рваной фазе.
Но кинолента всё бежит,
снимая акт экранно…
А ты, как будто бы лежишь.
Иль так стоишь престранно?
Занятный фильм и ремесло
до зуда, спада, крови!
Со стоном тигров иль ослов
пыхтят в труде герои.
И наслаждаясь будто, в такт
поёшь в их потном хоре,
в ролях, костюмах, сотнях дат,
в мажоре, то в миноре,
и без антракта. Зов "на бис"
средь сцен и состязаний.
Пока ты лучше всех актрис,
ударник сос-терзаний!
Но дрябнет вид и голос, вход,
и слабнет статность львицы.
Придут на смену в скорый год
новей сюжет, певицы.
И будешь ты в экран смотреть,
как сотни миллионов,
в пустой квартире, лицезреть
на игры своих клонов…
Утиль
В утиль металл и пластик
и целлюлозный хлам,
чтоб дать им снова шансы
служить друг другу, нам;
чтоб не мешали стёкла.
Вещей круговорот.
От малости до блёклых -
таков закон природ.
Мир – божье одобренье.
Он в каждом миге прав.
Вся смерть, как удобренье
для древ, живых и трав.
Но старь – не жизнь, не гибель, -
застывший серый миг,
что к новому носитель,
иль пред ничем тупик?
Зачем сей быт, ненужность?
Чтоб в болях бедно жить,
чтоб очередь и хмурность,
бубнёж и вонь творить?!…
Мерин
Спокоен, учтив и причёсан
в забеге ль, ходьбе по полям,
и склонен к сонливым заносам
и болям фантомным в корнях.
Без чувства к кобыльям заискам
и взмахам манящим хвостов,
к болезне-беременным рискам,
и лишь шевелящий ростом.
Смиренный под всадником, в сбруе,
и к дракам запал вмиг прошёл.
Как конь ломовой, и по кругу
без устали, даже без шор
шагает, что евнух в уныньи,
домашний пустой жеребец,
бескрылый Пегас без гордыни.
Всем подвигам, роду конец.
Криз
Огонь невытекшего гноя
гудит, кипит, кусает, жжёт.
И вот уже смотрю в окно я,
спасенье будто даст прыжок
и облегченье, пусть лишь телу,
что уж измучилось в беде,
в поту агонии, расстрела
по каждой жиле, стороне.
И резвый тремор бойко скачет,
поганя вид, являя криз.
Душа исплаканная плачет,