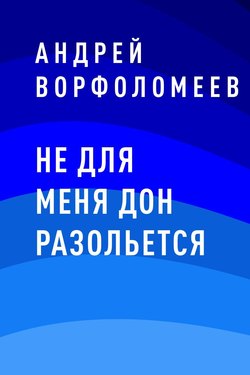Читать книгу Не для меня Дон разольется - Андрей Алексеевич Ворфоломеев - Страница 1
Оглавление1.
Нижний чин Степан Воинцев попал в плен во время так называемой «резиновой войны». В начале 1915 года австрийские войска начали наступление в Карпатах, в надежде отбросить русскую армию от перевалов, ведущих на венгерскую равнину. Для тех и других, в условиях горной местности, бои вылились в цепь мелких, но от того не менее ожесточенных стычек с ничтожными общими результатами. Продвижение вперед или назад исчислялось буквально метрами. Ну и солдатскими жизнями, разумеется. Озверение достигло крайних пределов.
Полурота 14-й пехотной дивизии, в которой служил Воинцев, была окружена австрийскими горными егерями по гребню превосходящих высот. И, все же, русские, возможно, сумели бы вырваться из кольца, если бы враги не применили жуткую техническую новинку, разом сломившую у наших солдат всякую волю к сопротивлению. Со стороны австрийцев раздался винтовочный выстрел и Степан только и успел заметить, как голова припавшего рядом к камням поручика Лебедянского словно взорвалась изнутри. Брызги крови, перемешанные с ошметками плоти, далеко разлетелись вокруг. От следующего залпа оторванная рука рядового Петрухина выскочила из страшной раны, образовавшейся на месте правого плечевого сустава. Отовсюду послушался дикий вой чудовищно искалеченных людей.
– Братцы!!! Что же это деется?!
Так русские солдаты впервые познакомились с разрывными пулями «дум-дум». Впоследствии, те из австрийцев, у кого в подсумках находили обоймы с ними, принципиально не брались нашими в плен, а уничтожались на месте. Однако сейчас остатки полуроты были полностью деморализованы. Не каждый рассудок мог выдержать зрелище столь ужасных увечий. Да и предыдущими боями солдаты были вымотаны основательно. Приходилось сражаться в сильные морозы, по пояс в снегу и при начинавшем уже сказываться недостатке боеприпасов. Выручала русская смекалка и русский же штык. Но не всегда же на них рассчитывать! Особенно, когда противник так и сыпет вокруг смертоносной шрапнелью.
Сам Степан в плен сдаваться не собирался. Но от судьбы, как известно, не уйдешь. Один из егерей швырнул со скалы ручную гранату и от близкого разрыва Воинцев на мгновение потерял сознание. А когда очнулся, то невольно поразился воцарившейся в горах тишине. То тут, то там, беззвучно разевая рты, словно в увлекательной «фильме» про войну, метались русские и австрийские солдаты. Красиво взметывались вверх фонтанчики снега, поднятые неслышно летавшими пулями и осколками.
– А? Что? – выронив винтовку и прижав руки к ушам, тщетно прокричал оцепеневший от сознания собственной глухоты Степан. Ответом послужил ловкий удар, которым подскочивший ражий егерь разом сшиб его с ног.
Полностью слух вернулся к солдату лишь через несколько часов. За это время, австрийцы построили захваченных пленных в колонну и, подгоняя тех ударами прикладов, погнали в расположение своего полка. Так для Степана Воинцева и его товарищей началась горькая жизнь во вражеской неволе. Ну, а что такое плен, объяснять не надо. Окрики конвойных, зуботычины, постоянное унижение. Плюс, тяжелый физический труд, вкупе с отвратительным питанием. Не далек был тот час, когда и Австро-Венгрия, вслед за Германией, введет и на своей территории продовольственные карточки. Пока же продуктов в тылу хватало. Но, разумеется, только для своих. На долю русских пленных выпадала лишь сушеная свекла, да баланда из нечищеного турнепса.
Другое разочарование Степана практически не затронуло. А вот очутившийся с ним в одном лагере призванный из запаса прапорщик Любавин был, что называется, потрясен до глубины души. Тот, как человек образованный и ярый панславист, все никак не мог понять, почему многочисленное славянское население империи Габсбургов не только не стремится, пользуясь моментом, восстать против своего престарелого кайзера Франца-Иосифа, но и храбро за него сражается. Помимо, собственно, немцев и венгров, против русской армии преспокойно воевали и чехи, и словаки, и даже украинские горцы бойки, лемки и гуцулы, к «освобождению» которых призывал свои войска великий князь Николай Николаевич.
Воинцеву же подобные интеллигентские рассуждения были чужды. Будучи простым крестьянином из села Украинская Буйловка, Белогорской волости, Острогожского уезда, Воронежской губернии, он всю жизнь считал себя «хохлом», хоть и говорил, естественно, не на литературном украинском языке, а на своеобразном «суржике». Что не помешало Степану завязать знакомство с некоторыми из солдат-гуцулов из охраны лагеря. У тех тоже был свой «суржик». Только не русско-украинский, а украинско-немецкий!
Один из горцев – высокий, вислоусый Григор Зирняк рассказал, подмигнув, Степану любопытную солдатскую сказку:
– А ты знаешь, отчего война-то началась? Собрались, раз, ваш царь с немецким кайзером и заспорили. Николай и говорит: «У меня войска столько, сколько зерна на поле»! А Вильгельм, в ответ: «Я выпущу такого железного петуха, который все твое зерно склюет»!
Воинцев не мог не признать меткости этой народной байки, вспомнив, с внутренним содроганием, сокрушительный огонь германской и австрийской тяжелой артиллерии, сметавшей и перемешивающей с землей русские позиции. Впрочем, нельзя сказать, будто все западные украинцы одинаково относились к нашим пленным. Люди везде разные. Кто, оглядевшись по сторонам, украдкой перебрасывал через лагерную ограду сухарь или кусок брынзы, а кто, многозначительно передернув затвор винтовки, окриком заставлял отойти подальше от колючей проволоки.
Что до Степана, то пробыл он в прифронтовой зоне не очень долго. Кроме продовольствия, в Австро-Венгрии начал ощущаться и серьезный недостаток рабочих рук. Поэтому, однажды, всех военнопленных вывели из лагеря, пешим строем пригнали на ближайшую железнодорожную станцию и, погрузив в теплушки, повезли вглубь страны. А там уже узников начали быстро и сноровисто распределять, исходя из своих потребностей. Кого отправили на шахты и заводы, кого – на сельскохозяйственные предприятия. Воинцева же, наряду с наиболее сильными и выносливыми, опять загнали в вагоны и повезли дальше к югу. И вот, настал момент, когда на горизонте замаячили вздымавшиеся чуть ли не до самого неба заснеженные вершины Доломитовых Альп.
У себя дома, вместе с односельчанами, Степан наивно называл горами обрывистые меловые утесы высокого правого берега Дона. А иных в степях и не водилось! И лишь попав, во время войны, в Карпаты, он понял, что такое настоящие горы. Однако Альпы оказались ещё выше и величественнее. Долгие годы Доломиты являлись естественной границей между Австро-Венгрией и Италией. Но сейчас, похоже, здешнему спокойствию приходил конец. Итальянцы, хотя и считавшиеся союзниками австрийцев, давно имели к своим северным соседям территориальные претензии. Однако те, за одну только военную поддержку, отдавать Трентино и Южный Тироль отнюдь не собирались. Поэтому воинственные подданные короля Виктора-Эммануила III все чаще и чаще благосклонно посматривали в сторону Антанты. Уловив тревожные тенденции, командование австро-венгерской армии принялось лихорадочно укреплять позиции в горах. Особенно – в окрестностях перевалов, ведущих на территорию страны. Для этой цели использовались любые трудовые ресурсы, вплоть до мобилизованных гражданских лиц и многочисленных военнопленных.
Степан Воинцев оказался приписан к 29-му рабочему батальону, занимавшемуся укреплением и без того труднодоступного хребта Лагацуои. Разумеется – помимо собственной воли. Его согласия, впрочем, никто особо не спрашивал. В противном случае, имелась надежно сколоченная батальонными саперами виселица. Если не хочешь болтаться на ней, то бери кирку, тачку или лопату и отправляйся в горы. На позицию «Гоигингер», если быть точнее. От окружающей перспективы и впрямь захватывало дух. Крутые, почти отвесные склоны, сложенные из светло-шоколадного известняка. Гибельные пропасти, на дне которых поблескивали тоненькие ниточки протекавших там рек. Расправившие широченные крылья орлы, зачастую, парившие гораздо ниже работающих в скалах людей. И, наконец, резко выделявшаяся на фоне остальных вершин, неправильная пирамида горы Тофане, вся расчерченная косыми полосами слоев осадочных пород. Тут не только камни ворочать – просто ходить, иногда, было опасно!
Их взводом командовал молоденький кадет Схейбек. Подобно своему знаменитому литературному собрату – кадету Биглеру из «Похождений бравого солдата Швейка», он тоже страстно хотел совершить какой-нибудь героический поступок. Вот только контингент обоим попался совершенно неподходящий. Поэтому, когда 15 июня, со всех сторон, вдруг посыпались итальянцы в своих шипованных ботинках-скарпах и украшенных перьями шляпах, никто и не подумал сопротивляться.
– Ну, что же вы?! Сражайтесь!!! – со слезами на глазах, воскликнул Схейбек, которому враги выкручивали руку с судорожно зажатым в ней револьвером.
– Чем? Этим? – на ломаном немецком ответил Степан, отбрасывая в сторону опостылевшую кирку. – И за что?
В роли невольных освободителей выступила 229-я рота батальона альпийских стрелков «Валь-Чизоне». Узнав, что среди захваченных австрийцев находятся и русские военнопленные, итальянцы тотчас отсортировали их из числа прочих. Теперь же они считались союзниками! Чуть позже, уже после спуска на итальянскую сторону хребта, перед Степаном и его товарищами выступил сам командир батальона подполковник Джузеппе Ратти. Русского переводчика, правда, не нашлось, но многие из узников, за время нахождения в плену, успели по верхам нахвататься немецкого. На нем и беседовали с итальянцами. Ратти не стал ходить вокруг, да около. Желающие, сказал он, будут немедленно переправлены в тыл, и там будут ждать ближайшей оказии, для возвращения на родину. Есть и другое предложение. Те, кто захочет, могут быть зачислены во вспомогательные части доблестной итальянской армии. В таком случае, их немедленно поставят на полное пищевое довольствие и даже начнут выдавать жалованье в лирах. А после полной победы над врагом (разумеется – скорой) они тоже вернутся домой, но уже – богатыми людьми!
Степан Воинцев поверил посулам подполковника. И дело здесь заключалось даже не в деньгах. Просто, единственный путь из Италии в Россию, в условиях военного времени, проходил только по морю. А австрийская пропаганда настолько расхваливала успехи немецких подводников, будто бы топивших все, без исключения, пароходы союзников, что данный вид транспорта, среди пленных, стал считаться чем-то очень ненадежным. Да и с довольствием Ратти не обманул. Итальянская армия снабжалась гораздо лучше австрийской и на столах даже вспомогательных подразделений регулярно бывали кофе, сыр, салями, сгущенное молоко, макароны и неизменная каша-полента. Плюс, добрая порция красного вина. Альпийские стрелки, впрочем, на высокогорье, предпочитали пить виноградную водку граппу. Но и работу приходилось выполнять специфическую.
Начавшееся, поначалу, бодро наступление итальянцев в Доломитовых Альпах тоже постепенно застопорилось. Хотя и у них были свои успехи. Пусть и локального значения. Так 19 октября 1915 года взвод младшего лейтенанта Пеннати из 228-й роты того же батальона альпийских стрелков «Валь-Чизоне» занял горный выступ на пике Малый Лагацуои, расположенный к югу от высоты 2779 и удачно доминировавший над австрийской оборонительной позицией «Фонбанк». Впоследствии, его начали называть «Выступ Мартини», в честь нового командующего батальоном подполковника Этторе Мартини. Теперь там кипели ожесточенные бои. Итальянцы закрепились и беспрерывно обстреливали австрийцев, а те то и дело пытались сбить их с выступа. В свою очередь, высокогорные гарнизоны надо было постоянно снабжать. И тут суровая природа Доломитовых Альп диктовала свои условия. В предгорья все необходимое доставлялось на грузовиках. Там грузы уже поджидали караваны мулов, поднимавшие их ещё выше. Однако наступал такой предел, когда и эти выносливые животные не могли одолеть всё возрастающую крутизну склонов. Тогда в дело вступали так называемые «подносчики», подобные Степану Воинцеву и остальным добровольцам. Они взваливали грузы на свои плечи и карабкались выше, шаг за шагом. Туда несли мины, снаряды, ящики с патронами и гранатами, мешки с продовольствием, тюки теплой одежды, бревна, доски и другие строительные материалы. Обратно спускали носилки с больными и ранеными, конвоировали пленных, выносили трофейное и вышедшее из строя свое оружие.
Степан очень скоро запомнил все, даже самые мельчайшие подробности этих монотонных и утомительных восхождений по узеньким тропинкам, тесным расщелинам или деревянным лестницам, проложенным в горах. Здесь крутой поворот, а там находится скальный выступ на уровне колен, через который надо обязательно переступить, чтобы не споткнуться и не полететь вниз. Некоторые так приноравливались, что даже умудрялись дремать на ходу! Иногда «подносчиков» сменяли бесконечные вереницы поднимавшихся на позиции войск. Солдаты шли с полными подсумками патронов, набитыми вещевыми мешками, некоторые помогали себе длинными альпенштоками. Почти все заблаговременно надевали на головы свои стальные каски. Русскому рабочему, если честно, начинали нравиться эти вечно живые и азартно жестикулирующие итальянцы. У них, казалось, напрочь отсутствовало чинопочитание. Так, после первых же серьезных неудач на фронте, альпийские стрелки принялись, не стесняясь, распевать язвительные стишки собственного сочинения, далеко не в лучшем свете выставлявшие высшее командование армии. В вольном переводе они звучали так: «Виктор-Эммануил отправился в Кортину, посетить своих солдат. Затем он поехал в Фальцарего, где генерал горных стрелков показал: «Вон там Сассо-ди-Стрия, а мы идем обратно»! Или: «Генерал Кадорна написал своей королеве, что если она хочет видеть Триест, то пусть купит открытку с видом города»! Их можно было понять. Отнюдь не генералы замерзали в пургу и срывались со скал под кинжальным огнем противника.
В первой половине дня 31 октября, Степан Воинцев, как обычно, поднялся к «Выступу Мартини». Сейчас там, в который уж раз, кипел жаркий бой. Альпийские стрелки отражали очередную атаку австрийских егерей. Степан, поначалу, не обратил на это ровно никакого внимания, поскольку импровизированный склад, куда он сгружал свою ношу, находился в сравнительно безопасном месте. Да и сама позиция, всего двенадцать дней назад занятая взводом Пеннати, изменилась почти до неузнаваемости. В скалах были оборудованы деревянные укрытия и прорублены дополнительные пещеры и галереи. Немного передохнув и ещё раз подивившись человеческой изобретательности, русский «подносчик» собрался уже идти обратно, как вдруг, со стороны перевала Вальпарола открыла огонь австрийская артиллерия. Снаряды дальнобойных гаубиц, с пронзительным свистом, начали падать в расположении итальянцев. Но странное дело. Вместо привычных разрывов, отовсюду доносились лишь не очень громкие хлопки. А следом, из образовавшихся воронок, поползли плотные клубы густого желтого дыма.
– Газы!!! – заорал кто-то нечеловеческим голосом. – Газы, ребята!!!
На «Выступе» воцарилась паника. Как бороться с дьявольской отравой, в начале войны, толком не знали. Да и противогазов ещё не было. Мимо Степана, задыхаясь от кашля, промчался один из альпийцев с искаженным от ужаса лицом. Вслед за ним, побросав карабины, устремились остальные. А тут ещё и австрийцы, воспользовавшись тем, что ветер дул в сторону «Выступа», пошли в новую атаку. Однако в одном из укрытий, превозмогая опасность быть отравленными, осталось отделение пулеметчиков-сардинцев. Они и открыли огонь по наступающим австрийским егерям. Те, словно подкошенные, рухнули на скалы, а одинокий «Фиат-Ревелли» продолжал строчить, не давая врагу ни малейшего шанса на продвижение вперед. Газ, похоже, не брал отважных сардинцев, зато боеприпасы, увы, неумолимо подходили к концу. По крайней мере, выпустив несколько кассет, используемых итальянцами вместо более привычных лент, пулемет стал стрелять гораздо медленней и расчетливей.
– Картуччи! Картуччи! – раздался отчаянный крик командира отделения младшего лейтенанта Пиньоли. – О, Мамма мия!
Степан не сразу понял, что тот просит принести ещё патронов. Однако вокруг уже никого не было. Облако газа, не успевшее доползти до «подносчика», по-прежнему продолжало клубиться, заволакивая собой «Выступ Мартини». Взглянув на него критическим взглядом, Степан на мгновение заколебался, между чувством самосохранения и товарищеским долгом. Но тут, все мысли из головы вытеснила одна – ясная и понятная. Если итальянцы не сумеют отбиться, то «Выступ» захватят австрийцы. А там что? Опять в плен попадать? Ну, уж нет! Пускай сами свеклу сушеную жрут!
Быстро осмотревшись, Степан разворошил штабель одинаковых деревянных ящиков с трафаретной надписью «Cartucce da 6,5» и, наконец, отыскал то, что нужно – коробки со снаряженными кассетами для пулемета. Подхватив сразу две в обе руки, он вдохнул поглубже и, постаравшись задержать воздух в легких как можно более дольше, со всех ног помчался сквозь ядовитую пелену к бункеру пулеметчиков.
– О, руссо! – обрадовавшись, прокаркал кашлявший и утиравший беспрерывно текущие слезы лейтенант. – Молодец! Давай, давай! Темпо!
Вдвоем они мигом заменили почти опустевшую кассету, и Пиньоли опять приник к ходившему ходуном «Фиату». И вовремя. Подобравшиеся близко австрийцы, в очередной раз, были скошены смертоносной очередью. Степан же, больше не в силах терпеть, ненароком глотнул отравленного воздуха и в обе ноздри его тотчас словно вонзили по раскаленному гвоздю. Закашлявшись и невольно замотав головой, русский «подносчик» постарался подползти поближе к прорубленной в скале амбразуре. Но, как видно, недаром сардинцы держали в углу своего бункера икону Девы Марии, висевшую по соседству с развешанными по стенам касками. Да и лейтенант Пиньоли не зря, перед каждым боем, целовал извлеченный из-за воротника мундира маленький нагрудный крестик. Так или иначе, помог Всевышний или произошло счастливое стечение обстоятельств, однако концентрация газа на позициях пулеметчиков так и не достигла предела, способного отравить взрослого человека. Оба храбреца не только остались живы, но даже не потеряли сознания. А там и подмога подоспела, поскольку итальянским офицерам удалось быстро пресечь панику и навести порядок среди своих подчиненных. Австрийскую атаку отбили.
2.
После отравления газами на «Выступе Мартини», Степан попал в тыловой госпиталь. В палату к «русскому герою» сразу же зачастило множество народу – журналисты, представители общественности, восторженные девицы с цветами, апельсинами и коробками папирос. Совершенно неожиданно очутившийся в центре внимания вчерашний крестьянин, поначалу, стеснялся этого бесконечного круговорота лиц, то и дело перемежающегося вспышками бурных эмоций и ура-патриотических заверений. Однако особенно сильное впечатление произвел на него визит совершенно неожиданного посетителя. Сначала, в дверной проем вдвинулся довольно объемистый живот, затем показалась солидная окладистая борода с проседью и, наконец, в палату самым натуральным образом вплыл представительный мужчина лет пятидесяти в штатском пальто. Свою шляпу, равно как и сложенный зонтик, он держал в руках.
– День добрый! – к крайнему изумлению всех присутствующих, по-русски пророкотал незнакомец, сквозь стекла пенсне всматриваясь в Степана. – Так вот он каков, наш герой! Выглядит молодцом! Ну, что ж, давайте знакомиться. Я – Амфитеатров! Он же – «Московский Фауст», он же – «Старый джентльмен»!
– Не имею чести знать! – простодушно признался Воинцев.
Очевидно, ожидавший совсем иной реакции визитер удивленно воззрился на солдата.
– Что, совсем ничего не читали?
– Никак нет, ваше благородие!
– Ах, оставь. Какое я тебе благородие! Да, вот это сюрприз. А я уж, грешным делом, думал, будто мое имя по всей России-матушке гремит. А оно вон что получается. Откуда ж ты такой выискался, служивый?
– Воронежские мы!
– Это я знаю. Степан Воинцев, верно?
– Так точно!
– Ну-с, о ваших подвигах на «Выступе Мартини» я уже наслышан. Поговорим о других боевых эпизодах. Начнем, пожалуй, с Италии. Для русской публики это будет звучать гораздо более экзотично. Как фельетонист с огромным стажем говорю! Здесь, в Доломитах, вы только на Лагацуои были?
– Нет. Ещё на Мармоладе.
– О, Мармолада! «Королева Доломитовых Альп»!
– Она самая…
Расположенный на самом левом фланге Доломитов, увенчанный сверкавшим на солнце огромным ледником, горный массив Мармолада вздымался на высоту более трех тысяч метров. 8 июня 1915 года подразделения финансовой гвардии и батальона альпийских стрелков «Беллуно» заняли перевал Омбретта – единственный, связывавший между собой долины Валь-Контрин и Валь-д’Омбретта. Их вел пятидесятилетний горный гид Винченцо Ферзош, хорошо знавший здешние места и сумевший отыскать трудную, но вполне проходимую тропу на вершину стены Вернель. Однако дальнейшее наступление итальянцев, как и повсюду, быстро застопорилось, остановленное проволочными заграждениями и огнем искусно замаскированных австрийских пулеметов. Это и неудивительно. Горные егеря противника тоже были хорошо подготовлены, да и занимали заблаговременно обустроенные позиции на господствующих высотах. Итальянцам же приходилось штурмовать их в лоб, что обходилось немалой кровью.
В свою очередь, обозленные первыми неудачами и гибелью товарищей, альпийские стрелки задумали целую карательную операцию. С неимоверными усилиями, они умудрились втащить артиллерийское орудие на перевал Кирелле. Впрочем, это было легче сказать, чем сделать. Узкая горная дорога не позволяла встать более, чем четверым в ряд и потому остальные, подобно русским «бурлакам», выстраивались в длинные колонны по десять-двенадцать человек и, впрягшись в импровизированные лямки, тянули пушку за собой. Иногда, для транспортировки одного тяжелого орудия, собиралось до пятидесяти альпийцев и их помощников. Участвовал в восхождении на Кирелле и Степан. Напрягая все силы, он, в то же время, то и дело оборачивался назад, дабы посмотреть, как идет в гору пушка. Это занятие полностью поглощало внимание и не давало по достоинству оценить простирающиеся вокруг пейзажи. А они и впрямь были незабываемыми. Больше всего поражала Степана особенность здешнего известняка окрашиваться в розовый цвет на закате солнца. Словно дивный розовый сад короля гномов Лаурина…
Впрочем, суровая действительность вскоре опять властно напомнила о себе. Установив с таким трудом доставленную пушку на перевале, итальянцы навели её и 6 сентября 1915 года до основания разрушили находившуюся по ту сторону хребта высокогорную гостиницу «Контрин», использовавшуюся австрийцами в качестве тыловой базы. Тем не менее, Мармолада так и осталась кратковременным эпизодом в альпийской карьере Воинцева. В основном, он все же находился на Лагацуои.
– Понятно, – покивал головой Амфитеатров. – Ну, а кормят в итальянской армии, как? Терпимо? А то во Франции уже стал гулять целый анекдот. Мол, наши соотечественники, которым посчастливилось бежать из немецкого плена и очутиться в расположении союзников, жаловались, будто на обед им дают сырое мясо и коровий навоз! В конечном итоге выяснилось, что таким образом ниши солдатики именовали бифштексы с кровью с гарниром из шпината, ха-ха-ха!
И фельетонист, закинув голову, оглушительно расхохотался. Для приличия, усмехнулся и Степан, хотя и совершенно не понял соль шутки. У итальянцев, с питанием, дело обстояло гораздо проще. И привычней. Полента – та же каша, пусть и по-другому называющаяся. Салями – колбаса. Ну, и так далее.
Очевидно, уловив повисшую в воздухе неловкую паузу, «Московский Фауст» поспешил перевести разговор на иную тему:
– Ладно. Теперь, давай к делам российским. Так значит в плен ты, милейший, угодил в Карпатах?
– Именно.
– А до того службу где проходил?
– В 56-м пехотном Житомирском полку 14-й пехотной дивизии 8-го армейского корпуса 8-й армии генерала от кавалерии Брусилова! – единым духом выпалил солдат.
– Ничего себе! – изумился журналист. – И как ты всё это запомнил?
– Армия, ваше благородие, всему научит. А фельдфебель заставит!
– Охотно верю! И раз ты, друг любезный, под началом Брусилова служил, то, наверное, и в Галиции повоевать успел?
– Только частично. Меня же в армию только после начала войны призвали. Обучали, правда, недолго. Через какой-то месяц в эшелон погрузили и – вперед. А уже ранним утром 29 августа 1914 года наш батальон пополнения получил приказ в спешном порядке идти от Тарнополя к Львову. Дороги развезло от проливных дождей, а на горизонте ощутимо погромыхивало. Там вовсю разгоралась встречная Городокская баталия…
Потерпевшие поражение в сражении на Гнилой Липе и оставившие Львов, Галич и Станислав, австро-венгерские войска решили взять своеобразный реванш. Остановившись на рубеже реки Верещица, они форсированными темпами приводили себя в порядок, стягивая отовсюду подкрепления. Сложившаяся обстановка, казалось, благоволила подданным престарелого кайзера Франца-Иосифа. Перед их силами, насчитывавшими, в общей сложности, до семи пехотных корпусов, теперь находилась лишь одна русская 8-я армия (3-я двинулась на Раву-Русскую). Ободренные своим численным перевесом, австрийцы перешли в наступление 28 августа 1914 года. Однако и генерал Брусилов не любил отсиживаться в обороне и отдал приказ атаковать. К тому же, его армия занимала случайные позиции и вряд ли смогла бы долго удерживать натиск противника. Завязалось упорное встречное сражение.
Первоначально, австро-венгерские войска обрушились на правофланговый 12-й корпус, но то был не более чем отвлекающий маневр. Действительно, в скором времени, вся тяжесть боя сместилась к центру и левому флангу 8-й армии. В таких условиях, Брусилов принялся экстренно собирать все, имевшиеся в его распоряжении, резервы. В их число попали и два батальона новобранцев, среди которых и находился наш Степан Воинцев. Почти все вновь прибывшие части шли на усиление центра армии, поскольку из донесений воздушной разведки стало ясно, что именно сюда австрийцы переносят направление своего главного удара. Очевидно, они намеревались прорвать русские позиции и вновь овладеть Львовом. Брусилов решил упредить неприятеля, стянув сюда до восьмидесяти пяти батальонов пехоты. К тому же, на рассвете 30 августа, 7-му и 8-му армейским корпусам было опять приказано атаковать. Правда, продвинулись они ненамного, однако притянули к себе значительные силы противника.
Да и на всем фронте дела у австрийцев начали складываться далеко не лучшим образом. В тот же день их войска потерпели поражение ещё и у Равы-Русской, где действовала русская 3-я армия генерала Рузского. Прорвать фронт Брусилова тоже не удалось. Поэтому, вечером 30 августа австрийские генералы предприняли короткую атаку, под прикрытием которой и отошли за реку Верещицу, предусмотрительно разрушив за собой все переправы. В общем, боевое крещение у Степана удалось на славу! Главное, что закончилось оно победой русского оружия.
– Да, довелось тебе, братец, пороху понюхать, – уважительно подытожил рассказ Степана Амфитеатров. – И в Альпах, и в Карпатах. Домой-то, небось, охота?
– Не то слово!
– Ну, не горюй. Я постараюсь что-нибудь узнать. Хотя, в военное время, с возвращением пленных из Европы в Россию дело сложно обстоит. Особенно – для рядовых. Но чем черт не шутит!
Амфитеатров слов на ветер не бросал. У него действительно имелись кое-какие серьезные связи. Проживая сначала в Леванто, а затем в Риме, «Московский Фауст» организовал своеобразное зарубежное бюро влиятельной отечественной газеты «Русское слово», при помощи которого активно боролся с прогерманской агитацией и всячески подталкивал правящие круги Италии к вступлению в войну на стороне Антанты. Впрочем, те и сами этого откровенно хотели. Популярность Амфитеатрова была настолько велика, что он запросто телеграфировал великому князю Николаю Николаевичу, в бытность того главнокомандующим русской армией! И получал обстоятельные ответы на свои вопросы. Чего уж тогда говорить о знакомстве с будущим президентом Чехословацкой республики профессором Масариком! Или самим премьер-министром Италии Алессандро Саландрой!
3.
«Московский Фауст» и впрямь замолвил словечко среди своих влиятельных знакомых в Риме. А тут ещё и счастливая оказия подвернулась. Невольного Степанова собрата по оружию лейтенанта Пиньоли надумали откомандировать во французские альпийские части для своеобразного обмена опытом. Вот командование итальянской армии и решило отправить вместе с ним Воинцева. Всё равно, ведь, дорога в Россию через Францию пролегает. А там пусть русский военный атташе граф Игнатьев с соотечественником и разбирается!
После Пограничного сражения и битвы на Марне, стало окончательно ясно, что войну до «осеннего листопада» закончить так и не удастся. Начался знаменитый «бег к морю», когда немцы и противостоящие им французы с англичанами принялись постепенно смещать свои позиции к побережью, в надежде охватить друг друга с флангов. Однако сделать это не получилось ни у одной из противоборствующих сторон. К 1915 году Западный фронт практически полностью стабилизировался. Непрерывная линия опутанных колючей проволокой траншей протянулась от Северного моря вплоть до самой границы Швейцарии.
В подобной обстановке, командование союзных войск принялось настойчиво искать точки, пригодные для решительного взлома немецкой обороны. Среди прочих, серьезно рассматривался и скалистый отрог Хартмансвиллеркопф в Вогезах, удачно доминировавший над долиной Рейна. Французы захватили его ещё в августе 1914 года, во время своего безудержного наступления на Эльзас. Увы, но немцы оказались сильнее. Почти все первоначально занятые земли пришлось оставить. Хартмансвиллеркопф или «Старина Арман» – одно из немногих, что французской армии удалось удержать в руках. В течение 1915 года здесь периодически вспыхивали ожесточенные схватки с использованием егерей и альпийских стрелков, тем не менее, не приведшие к серьезному изменению линии фронта. Ничтожное продвижение на какой-нибудь десяток метров щедро оплачивалось многими сотнями жизней. Недаром, французы мрачно расшифровывали стандартную аббревиатуру Хартмансвиллеркопфа – HWK или HK, как «la mangeuse d’hommes» («пожиратель жизней»).
Очередной «решительный штурм» запланировали на вторую половину декабря. К этому времени, в расположение Восточной группы армий генерала Дюбая и прибыли Пиньоли со Степаном. Естественно, обоих, прежде всего, интересовали батальоны альпийских стрелков. Таковых, на данный момент, здесь имелось всего два – 27-й и 28-й. Если честно, то никакой разницы Степан особо не заметил. В отличие от итальянцев, французы носили не шляпы с перьями, а береты, да широко использовали, в различных перевозках, привезенные из Канады собачьи упряжки. Ну и форму имели довольно необычного, светло-голубого цвета. А в остальном, все одно и то же – «адриановские» каски, шипованные ботинки, карабины, альпенштоки.
Зато сами Вогезы, редко где переваливавшие за тысячу метров, Воинцева откровенно разочаровали. На их склонах виднелись жалкие остатки некогда густых еловых лесов – красноречивые свидетельства кипевших здесь ожесточенных боев. Степан вспомнил, как плакали итальянцы при виде непоправимого урона, которому подвергся заповедный лес Паневеджо в Доломитовых Альпах. А ведь по легенде, тут бродил сам великий Страдивари, отбирая древесину для своих неповторимых шедевров! Зато теперь, лес способный подарить человечеству ещё множество прекрасных музыкальных инструментов безжалостно уничтожался массированным артиллерийским огнем. Та же история была и в Вогезах. Вместо стройных еловых стволов лишь кое-где возвышались безобразные ряды расщепленных пеньков и обрубков.
А мощь артиллерии всё возрастала и возрастала. С её помощью обе стороны старались преодолеть грозно замаячивший на горизонте тупик позиционной войны. Если в начале года, во время «Первого сражения в Шампани», «ураганным» считался огонь скорострельных семидесятипятимиллиметровых пушек, то перед декабрьским наступлением на Хартмансвиллеркопф французы стянули гораздо более крупные калибры. В их числе были и два трехсотсемидесятимиллиметровых монстра – мортиры-гаубицы концерна «Филло». Всего же, по одному орудию приходилось на каждые тринадцать метров линии фронта! И это на второстепенном участке!
Французы были твердо уверены в успехе. И, поначалу, разразившееся в девять утра 21 декабря сражение полностью оправдало их ожидания. Сконцентрированный пятичасовой огневой шквал более чем трехсот орудий сделал свое дело. Передовые немецкие позиции оказались, в буквальном смысле, сметены, а их потрясенные защитники (кто ещё оставался в живых) принялись откатываться назад. Перешедшие в 14.15 в наступление 27-й и 28-й батальоны альпийских стрелков почти без сопротивления захватывают Хирценштейн. Удача сопутствует и солдатам 152-го пехотного полка, сумевшим занять Рорбург и Грошерзорг. Однако их дальнейшее продвижение останавливают наступившие сумерки, отсутствие связи и собственные потери. Да и сопротивление немцев, принявшихся перебрасывать к месту прорыва все имеющиеся в наличии войска, многократно возросло. Тем не менее, ночью в стане атакующих царило ликование.
– О-ля-ля! – кричали темпераментные французы. – Завтра мы их окончательно побьём!
– Да погодите вы! – пытался урезонить союзников не менее темпераментный, но уже имевший опыт горной войны Пиньоли. – Взять позицию противника ещё не главное. Главное – удержать её в руках!
Увы, но прав оказался именно лейтенант, а не отмахивавшиеся от него французы. Буквально на следующий день переброшенные из-под Мюлуза на поезде 40-й и 56-й ландверные полки, вместе с 8-м резервным егерским батальоном, стремительным ударом отвоевывают почти все утраченные накануне позиции. «Красные дьяволы», прозванные так из-за традиционных красных штанов прежней формы, оказались совершенно не готовы к столь быстрой ответной реакции. Их 152-й пехотный полк был окружен на вершине и практически полностью уничтожен. Единственным зримым результатом двухдневных боев стали новые горы трупов густо усеявших заснеженные склоны Хартмасвиллеркопфа.
– Вот вам и «о-ля-ля!», – в бессильной ярости скрипнув зубами, пробормотал Пиньоли.
В отличие от лейтенанта, Степан в штабах подразделений чувствовал себя не очень уютно из-за обилия там множества важных офицеров с большими звездами на погонах. Он, как и все рядовые солдаты, в соответствии с крепко усвоенной народной мудростью, старался держаться от начальства подальше. Да и препятствовал языковой барьер. С простыми «пуалю» хоть жестами объясниться можно! Тем не менее, почти сразу после прибытия в Вогезы, Степан быстро нашел себе занятие по душе. Поплевав на ладони и вооружившись лопатой, он принял самое деятельное участие в оборудовании огневой позиции для одной из вышеупомянутых тяжелых гаубиц концерна «Филло». А дел там действительно хватало. Для установки огромного лафета требовалось выкопать капонир в земле, частично гасивший чудовищную энергию отдачи, проложить узкоколейку для подвоза снарядов, установить лебедку и так далее. Немудрено, поэтому, что помимо самих артиллеристов, в обслуге орудия было много и простых рабочих, резко выделявшихся на фоне военных своими сугубо штатскими пиджачками, кепками и жилетками. Вот к ним Степан и присоединился. Те сочувственно похлопывали русского товарища по плечу, во время редких перекуров, протягивая ему бутерброды с сыром и оплетенные бутыли сухого красного вина. Степан никогда не был его особым поклонником, однако постепенно привык. Особенно, после итальянского «кьянти»!
Оставался Степан у гаубицы и во время артиллерийской подготовки 21 декабря. Как и любой, не избалованный техническими изысками человек, вчерашний крестьянин испытывал почти детский восторг при виде огромного, задранного почти вертикально орудийного жерла, методично изрыгавшего очередные, окутанные дымом и пламенем, пятьсот килограммов смертоносного груза. Об участи нещадно истребляемых с неба немцев не хотелось и думать. Более того. Степаном владело совершенно искреннее мстительное чувство. «Это вам за Карпаты»! – при каждом залпе, мысленно приговаривал он.
В общем, к работе артиллерии никаких претензий не возникло. Это пехота, потом, все «испортила». По крайней мере, так думали в вышестоящих штабах. Тем не менее, наступательный дух французов, после столь обидной неудачи, отнюдь не угас. 28 декабря 12-й батальон альпийских стрелков атаковал Нижний Рехфельсен и занял его практически весь, за исключением небольшого участка, где в полном окружении оказались около тридцати немцев из 74-го пехотного полка. Капитулировать те отказались. На следующее утро, как и в прошлый раз, немецкие гвардейские егеря попытались деблокировать своих товарищей, но потерпели неудачу. В этот же день бесконечный мартиролог жертв «Старины Армана» пополнился и командиром французской 66-й пехотной дивизии генералом Марселем Серре. Потрясенный до глубины души картиной всеобщей смерти и разрушения, он, невзирая на град пуль и осколков, практически постоянно находился на передовых позициях. По крайней мере, у окружающих сложилось стойкое впечатление, что Серре явно искал смерти.
Накануне атаки на Нижний Рехфельсен, в 7 утра 27 сентября, он вновь посетил траншеи для того, чтобы лично поставить боевую задачу капитану Полю Мане. Затем, генерал присел на ложемент окопа и, с грустью посмотрев на подчиненного, произнес: «Мой бедный мальчик»! Сердце Мане сжала неизъяснимая тревога. Вскочив на ноги, он с горячностью закричал: «Генерал, ваше место не здесь! Прошу вас, уходите! Немцы непрерывно атакуют. Не доставляйте им ещё и радости от гибели командира 66-й дивизии»!
Серре только пожал плечами: «Бывают времена, мой друг, когда смерти только рады». Наконец, вняв настойчивым мольбам капитана, генерал скрылся в восстановленном ночью ходе сообщения, бросив напоследок: «Жизнь, как и война – такая разочаровывающая штука». 29 декабря, во время немецкой контратаки на Нижний Рехфельсен, Марсель Серре был ранен в колено осколком снаряда. Невзирая на то, что на следующий день ногу экстренно ампутировали, спасти генерала не удалось. 6 января 1916 года он умер в госпитале от гангрены.
Два дня спустя закончилась и активная фаза боев за Хартмансвиллеркопф. Решительная контратака свежих немецких 188-го и 189-го пехотных полков свела на нет практически все предыдущие французские территориальные завоевания. Линия фронта, в основном, вновь вернулась к своим прошлогодним очертаниям.
4.
Хлопоты же по возвращению Степана домой, начались сразу после его приезда с фронта в Париж. Правда, поначалу, русский военный атташе полковник Игнатьев совсем не воспылал желанием возиться с очередным, свалившимся словно снег на голову, военнопленным. Потому и предложил Степану пока поработать на химической фабрике «Аллэ и Камарг». Мол, все бежавшие из плена русские солдаты так делают. А если каждого, из них, в Россию отправлять, то – извините, никакого тоннажа не хватит! Однако Воинцев, чувствуя за плечами недвусмысленную поддержку итальянского представителя при французской Ставке полковника Монтанари, что называется, «уперся рогом». Отправляйте на Родину и точка! И Игнатьев уступил.
Из Франции в Россию, в условиях военного времени, можно было попасть несколькими путями. Самый длинный, из них – почти кругосветное путешествие через Дальний Восток, не хотелось и рассматривать. Другой вёл вокруг Скандинавии в Архангельск или Романов-на-Мурмане. И, наконец, третий пролегал по территории нейтральной Швеции вплоть до границы с Финляндией, тогда входившей в состав Российской империи. По нему частенько выезжали на Запад различные военные, дипломатические либо думские делегации. Решили отправить вокруг Балтийского моря и Степана.
Родина-матушка, вопреки всем ожиданиям, встретила своего блудного сына совсем неласково. Не было ни цветов, ни ковровой дорожки. Более того. Вместо давно чаемого отпуска, Степана прямиком направили в запасной полк. Да не в родной Воронеж или куда-нибудь поближе к дому, а аж в стоявший на самой Волге Царицын. Там он, в первый раз, и увидел Хлебникова. Конечно, тогда Степан ещё не знал, что перед ним знаменитый поэт, а также, по совместительству – «Председатель Земного шара» и прочая, и прочая. Просто, из окружающей толпы солдат 93-го запасного пехотного полка ратник ополчения II разряда Виктор Хлебников выделялся как высоким ростом, так и несколько отстраненным выражением лица человека «не от мира сего». Словно погруженного в какие-то свои, глубоко сокровенные мысли. Ну и совершенно не строевым видом, разумеется. Он не мог никак приноровиться шагать в ногу, постоянно путался в командах и, что самое страшное, с точки зрения вышестоящего начальства, периодически забывал отдавать честь. А за это полагалась незамедлительная гауптвахта. Не шибко складывались отношения у поэта и с товарищами по казарме. Будь Хлебников помладше, то его в полку, несомненно бы, затравили. А так – просто относились, как к своеобразному юродивому.
Потому неудивительно, что поэт с видимым воодушевлением воспринял появление человека только недавно вернувшегося из-за границы. Пускай и не шибко грамотного и в делах искусства почти ничего не смыслившего. Соответственно, ни о какой тесной дружбе между ними не могло идти и речи. Хлебников, невзирая на свалившиеся на его голову армейские злоключения, все равно держался несколько свысока. Он вполне заслуженно считал себя гением и человеком, добившимся в жизни чего-то. Пусть это «что-то» и ограничивалось участием в коллективных полулюбительских сборниках, издававшихся ничтожным тиражом. Это, впрочем, совсем не мешало Степану относиться к поэту с известной долей благоговения. Ведь тот был «барином», да ещё и «образованным»! Одно титулование чего стоит! «Король времени Велимир I»! Не абы кто!
Хлебников же искренне считал, что солдатчина способна попросту убить в нем поэта. И это в те дни, когда загадка «законов времени», казалось, приблизилась к полному своему разрешению! За неимением иных собеседников, заросший бородой мечтатель щедро делился своими выкладками и идеями со Степаном.
– Виктор Владимирович, – однажды, робко спросил тот, – а каким оно будет, наше будущее?
– Конечно прекрасным! – экспансивно воскликнул поэт. – Всё, буквально всё, должно измениться! Ведь научно-технический прогресс открывает перед нами широчайшие возможности! Возьмем, к примеру, архитектуру. Неужели, мы и дальше будем жить в спрессованных в пределах улиц и, словно слитых воедино, домах-крысятниках?! Разумеется, нет! Развитие новых технологий приведет к тому, что каждый сможет выбирать себе жилье по собственному вкусу. Представь, только – дом-качели!
– Как это?
– Очень просто! Берется домик и подвешивается на тросах меж двух опор! И плавно раскачивается, в такт дуновению ветра!
– Интересная идея. А мутить, извиняюсь, не будет?
– Ну… – Хлебников, на мгновение, задумался. – Ну, это же не для всех! Для моряков, там, или мыслителей. Да и вообще. Дом будущего, скорее, будет напоминать железный остов. Или каркас, к креплениям которого станут прикрепляться передвижные стеклянные домики-каюты. Человечество, таким образом, полностью удовлетворит свою страсть к путешествиям. И ездить по белу свету ты будешь не сам, лично, а вместе с собственным жильем! Особенно, если каюты эти сумеют сделать летающими. Тут и вовсе горя мало! Надоело тебе, например, в Москве – так не беда! Отстыковался от своего места в общем доме-каркасе и лети, себе, положим, в Амстердам. Или в Рим. А там тебя уже ждут.
– Звучит, конечно, прекрасно, но осуществимо ли на практике? Как в той же Италии смогут узнать о моем прибытии?
– Ну, это и вовсе проще простого! Не забывай, дорогой друг, о современных технологиях! При подлете к любому выбранному городу, связываешься по радио с местным регулировщиком или диспетчером и сообщаешь о своем желании временно пожить у них. А тот, в свою очередь, указывает тебе номер башни со свободным местом. И всё! Спокойно пристыковываешься и гостишь, сколько душа пожелает. Радио – это, вообще, великая вещь. И в будущем, судя по всему, роль его будет исключительно велика. Передача новостей со всего мира, мгновенная связь между людьми, живущими на разных континентах, передача изображения по радиоволнам, да мало ли ещё что. Даже дух захватывает…
Суровая действительность, впрочем, иногда властно вторгалась во все эти прекраснодушные мечтания. Спустя неделю, после этого разговора, Хлебников загремел в лазарет. А ещё через несколько дней, в расположении полка появился молодой человек, разыскивавший поэта. Степан, в это время, вместе с остальными солдатами, участвовал в обычном воскресном параде, проходя строем по расположенному в двух верстах от города импровизированному плацу, и о случившемся узнал не сразу. Приезжего звали Дмитрием Петровским. Это был один из прежних друзей Хлебникова, специально приехавший в Царицын. Отыскав, наконец, поэта в лазарете, он сразу же увел того в город. Там, на трамвайной остановке, обоим посчастливилось встретить ещё и архитектора и художника-новатора Владимира Татлина. И тут же, не сговариваясь, экзотическая троица договорилась провести совместную лекцию в местном «Доме науки и искусств». Все хлопоты по её устройству взял на себя Петровский. Однако командование полка и так косо смотревшее на чудачества Хлебникова, наотрез отказалось отпустить того на выступление, посвященное собственному творчеству. Пришлось «королю времени» прибегнуть к банальнейшей самоволке. Впрочем, для того, чтобы «не дразнить гусей», договорились, что основную часть лекции будет вести Петровский, а Хлебников, при нужде, станет подсказывать из-за кулис. Но подобная конспирация, разумеется, никого не могла привести в заблуждение. Присланные из полка фельдфебели и унтер-офицеры прекрасно знали, где следует ловить сбежавшего поэта.
Лекция, в привычно вызывающем футуристическом стиле называвшаяся «Чугунные крылья», состоялась 25 мая 1916 года. Арендованный под выступление зал был практически пуст. Внутри сидели лишь полковые шпионы, намеревавшиеся прихватить Хлебникова, что называется, на месте преступления, да несколько местных городских сумасшедших. Да и впрямь, о каком футуризме могла идти речь, если всего три года назад, солдаты тогда расквартированного в Царицыне 187-го Аварского пехотного полка, после мытья в бане, стали развешивать свое выстиранное белье прямо на оголенные электрические провода?! Двоих убило током. Сразу же после этого, по всему городу прошли манифестации с красноречивым лозунгом «Долой электричество»! А вы о каком-то, там, будущем…
Пошел на лекцию и Степан. Причем, в отличие от прочих – по личному приглашению Хлебникова. Да и увольнительная весьма кстати подвернулась.
Открывший выступление Дмитрий Петровский сразу начал говорить о вещах поистине невероятных:
– Все мы, сейчас, без преувеличения, находимся на пороге величайшего открытия в истории человечества! Впервые появилась возможность постичь законы такого, казалось бы, неуловимого процесса, как время. Да, да, не смейтесь. Именно так. Согласно вычислениям, опубликованным выдающимся пророком современности, поэтом, мыслителем и математиком Велимиром Хлебниковым в его труде «Время мера мира», течение времени, как видно из названия, тоже подчиняется определенным числовым закономерностям. На данный момент открыто лишь несколько основополагающих чисел и мы, по сути, находимся ещё только в самом начале пути. Тем не менее, даже предварительные наброски способны дать поистине потрясающие результаты. Судите сами.
Первым, в этом ряду, по праву стоит число 365 или «год богов». Почему – объяснять, думаю, не стоит. А вот вторым, по значимости, в изучении законов времени, следует признать число 48. История его возникновения пока до конца не выяснена, но важность не вызывает никаких сомнений. Ведь именно путем отнимания 48 от 365 было получено третье эпохальное число 317. Его ещё можно назвать «колебательными волнами». Именно оперируя числом 317 и его производными, наш гениальный современник Хлебников заложил первый кирпич в основу изучения и упорядочения единого закона времени. Не верите? А зря. Приведу лишь несколько примеров из общеизвестных фактов мировой истории. В 665 и 31 годах до нашей эры, соответственно, Египет покорили ассирийский царь Ашшурбанипал и Юлий Цезарь. Но эти события отстоят друг от друга на 634 года или ровно на 317 умноженное на 2! Идем далее. Великий поход Наполеона в Россию состоялся спустя 951 год после набега варягов на Царьград, тоже, кстати говоря, окончившегося неудачей. Но число 951 есть, ни что иное, как 317 умноженное на 3…
И так далее, в том же духе. Впрочем, иногда Петровского, а вернее – Хлебникова, чей свистящий шепот отчетливо доносился из-за кулис, откровенно заносило. Среди его многочисленных цифровых выкладок встречались, например, и такие: «В 1911 году в Швеции было 317 помноженное на 95 финнов и норвежцев»! В завершении вечера, пару слов о своем творчестве, а также законах «формы и веса» сказал и Владимир Татлин. В целом, лекция прошла достаточно ровно, однако без некоторого конфуза обойтись все же не удалось. Когда по окончании выступления был поднят занавес, чтобы Петровский и Татлин смогли пройти за кулисы, перед зрителями, во всей красе, предстал не успевший спрятаться Хлебников. Таким образом, к длинному списку его дисциплинарных проступков автоматически прибавился ещё один.
В полной мере осознав это, «король времени» решил махнуть на всё рукой и, вместо явки с повинной в полк, продолжить вечер в гостинице, где остановился Петровский. И так, ведь: «Семь бед – один ответ»! Помимо его и хозяина, туда же отправились и Татлин со Степаном, купив, по пути, чайной колбасы, ситного хлеба и дешевого красного вина.
Войдя в скромно обставленный номер, Хлебников снял фуражку и задумчиво произнес:
– Да, только в таких местах я и чувствую себя по-настоящему свободным. Словно путешественник, приехавший в незнакомый город. Гостиница помогает сохранить иллюзию утраченной свободы. Вот так посидишь здесь – и, поневоле, забудешь, что утром тебя опять ожидает казарма с её потоками ругани и кулачной учебы. А, вообще, если честно, никакого будущего, для себя, в армии я не вижу. Ну, разве что, мне дадут какую-нибудь очень интересную службу. К примеру, на воздушном корабле «Илья Муромец». О подвигах наших авиаторов так увлекательно пишут! Да и, по-моему, будущее именно за покорением неба!
– Вполне возможно. Но не в такой форме, как сейчас, – покачал головой Татлин – подобно Хлебникову, человек громадного роста со светлыми волосами и простым выражением лица. – Слишком уж нынешние аэропланы смахивают на тупиковый путь развития воздухоплавания.
– Почему?
– Ну, посуди сам, Велимир. Что в современных «фарманах» и «моранах» от птиц? Да ровным счетом ничего! Обшивка жесткая, а у птиц, напротив – оперение мягкое, пластичное. Оттого они и могут парить часами, практически не затрачивая усилий! Вот я и хочу, основываясь на их анатомии, создать совершенно новый летательный аппарат. Легкий и гибкий, человек, в котором, не будет праздно сидеть в кожаном кресле, а располагаться лежа, подобно пловцу. И управлять руками и ногами!
– Хм, а какой же двигатель будет стоять на вашем аппарате? – наконец, отважился подать голос Степан, целиком захваченный разворачивавшейся перед ним новой грандиозной мечтой.
– Ясное дело, что не бензиновый! Я полагаю, что педального привода, при всей легкости конструкции, будет более чем достаточно! Типа, как на велосипедах. И летать на нем следует учить сразу с восьмилетнего возраста. Словно птенцов, ставить детей, так сказать «на крыло»! Пусть привыкают! Вот когда у каждого будет свой собственный летательный аппарат, тогда мы и придем к светлому будущему!
– Полностью с тобой согласен, Володя! – незаметно подмигнул остальным Хлебников. – А как же ты планируешь назвать свой чудо-аппарат?
– Как? Ну, хотя бы, «летатлин»!
– Звучит оригинально. Это, получается, производное от слова «летать» и твоей фамилии?
– Получается, так, – скромно потупился художник.
– Хвалю. Жаль, только, что ни одного экземпляра «летатлина» пока не построено. Придется проситься на «Илью Муромца»…
Разговор этот имел весьма необычные последствия. Отсидев, в очередной раз, на гауптвахте, Хлебников подбил Степана составить ему компанию в написании рапорта о переводе в эскадру тяжелых бомбардировщиков. Получив его, командир полка чуть не лишился рассудка:
– Да они что, шутки шутить вздумали?! – задыхаясь от душившего его гнева, воскликнул тот. – Хороши авиаторы, ничего не скажешь! Один толком в ногу, до сих пор, ходить не научился, другой тоже хорош, с его церковно-приходской школой! И они ещё о нашей гордости – эскадре «Муромцев» заикаются! Ничего себе! Да надо мной вся армия смеяться будет, если я таких клоунов туда направлю! Нет, нет и ещё раз – нет!
Хлебников, впрочем, если честно, на иной ответ и не рассчитывал. Поэтому он, параллельно с неудачной попыткой завербоваться в авиацию, обратился к своему другу и соратнику по футуристическому движению Николаю Ивановичу Кульбину, имевшему приравнивавшийся к генеральскому чин действительного статского советника с просьбой о признании себя невменяемым. И тот незамедлительно начал действовать. В конечном итоге, у поэта и впрямь обнаружили «состояние психики, которое никоим образом не признается врачами нормальным» и отправили для дополнительного обследования в земскую больницу в Астрахань. А Степан, с очередным маршевым пополнением, отправился на фронт…
5.
Единственное, в чем порадели бывалому солдату в Царицынском воинском присутствии, заключалось в том, что приписали его к 26-му Могилевскому пехотному полку, входившему в состав «родной» 7-й пехотной дивизии, в мирное время дислоцировавшейся в Воронеже. Правда, перебрасывалась она на усиление другой армии – 11-й, но это было не суть важно, поскольку прежний командующий 8-й армии генерал Алексей Алексеевич Брусилов тоже пошел на повышение и сейчас возглавлял весь Юго-Западный фронт. Так что, воевать Степану предстояло в практически тех же самых местах, что и полтора года назад, да и, к тому же – с хорошо знакомым начальством. Вот только время было иным.
Едва попав в действующую армию, Степан начал замечать первые признаки растущего недовольства, пока ещё, правда, тлеющего под спудом. Нижние чины откровенно устали от войны. Да и в качественном составе войска заметно изменились. Если, в прежнее время, на службу призывали только после строжайшего отбора, то сейчас гребли практически всех. За исключением, разумеется, откровенных инвалидов. Ну и тех, у кого хватало денег и связей, для того, чтобы откупиться от передовой. Не в лучшую сторону изменилось и продовольственное снабжение. О щедрых пайках первого периода войны теперь вспоминали с умилением. Шутка ли, по тогдашним нормам, только на одного солдата действующей армии полагалось три фунта хлеба, фунт мяса и полфунта сала. Вот уж действительно, ешь – не хочу! В шестнадцатом году о подобном изобилии можно было только мечтать. Лишь по большим праздникам серьезно урезанная порция мяса поднималась до привычной фунтовой нормы. Иногда к ней прибавлялись ещё и фунт подсолнечных семечек, одна селедка и полуфунтовая белая булка.
Другим откровением, для вернувшегося из чужих краев Степана, стало то, что стране так и не удалось достичь полного единения, необходимого для окончательной победы над врагом. И немалая доля вины в этом лежала на правящей династии. Царь так и не отважился ввести во всей империи военное положение. И результат не заставил себя ждать. Армия на передовой истекала кровью, в то время как в тылу, практически беспрепятственно работали рестораны, кафешантаны и прочие увеселительные заведения. Гремела музыка, и лишь шампанское, по причине сухого закона, заменялось разносимым в чайниках спиртом. В карты и рулетку спускались огромные состояния, нажитые на военных поставках. С трибуны, превратившейся в настоящее гнездо оппозиционеров Государственной думы, постоянно неслись антиправительственные лозунги. А власть ничего не могла поделать! Царь Николай честно старался угодить всем, почти не прибегая к репрессивным мерам. Но подобная примиренческая позиция только распаляла страсти в обществе. Люди, день ото дня, все больше и больше убеждались в слабости и откровенном бессилии верховной власти. Россия стремительно скатывалась в пучину анархии.
Прибавьте к этому ещё и практически полную вседозволенность отечественной прессы. Во многих газетах, чуть ли не открытым текстом, писалось о бездарных генералах и прямой измене, свившей себе прочное гнездо у трона империи Романовых. Будто бы, всеми делами там заправляет не безвольный царь, а немка-царица в компании с разудалым хлыстом Гришкой Распутиным, около которых так и вьются многочисленные иностранные шпионы. Мокнувшие в окопах и бросаемые в бесплодные кровопролитные атаки простые солдаты внимательно слушали подобные сплетни. В бой идти они пока не отказывались. Но только – пока.
Согласно плану предстоящего наступления, 11-й армии генерала от кавалерии Сахарова отводилась вспомогательная роль. Ближайшей целью ей ставилось прорыв линии неприятельской обороны и овладение городом Броды. Задачи всей 7-й пехотной дивизии и 26-го Могилевского пехотного полка – в отдельности, естественно, были скромнее. К утру 3 июля 1916 года он занимал позиции в районе населенных пунктов Безымянный поселок и Злочевка, готовясь решительным ударом опрокинуть австрийцев и выйти к переправам на реке Липа. Однако в первый день наступления сделать это не удалось. Противник держался крепко, раз за разом, отбивая все попытки прорвать его укрепления. Зато несомненный успех обозначился на другом участке фронта. Соседи справа – Екатеринбургский и Томский полки 10-й пехотной дивизии сумели ворваться в австрийские окопы и взять много пленных. Выполнили поставленную перед ними задачу и 8-й армейский и 5-й Сибирский корпуса, в связи с чем, противник повсеместно начал откатываться назад. Преследуя его, части 7-й пехотной дивизии вышли на северный берег реки Липа в районе деревни Голятин Дольний. Форсировать её, впрочем, с ходу не удалось. Австрийская 46-я пехотная дивизия ещё сохраняла в себе способность к сопротивлению. Да и заранее подготовленная хорошо укрепленная вторая линия обороны немало ей в том способствовала. Поэтому и последующие бои отличались крайним ожесточением.
Степану особенно запомнилось отражение неожиданной австрийской контратаки в лесу возле деревни Голятин Горный. Тогда реальная угроза захвата нависла над орудиями приданной дивизии 7-й артиллерийской бригады. Цепи одетой в синие шинели неприятельской пехоты подходили всё ближе, осыпая ездовых и заряжающих целым градом винтовочных и пулеметных пуль. И если бы не самоотверженность уцелевших артиллерийских номеров, сумевших, в сумятице и неразберихе, запрячь упирающихся и храпящих лошадей и вывезти орудия в тыл, то батарея наверняка была бы захвачена врагом.
Вообще, австрийцы превратили окрестности деревень Голятин Горный и Голятин Дольний в сильный укрепленный район. Взять его с наскока не удалось. Пришлось перегруппироваться и как следует подготовиться, после чего, 8 июля, начался решающий штурм. Сначала, под покровом тьмы, полковые саперы проделали проходы в проволочных заграждениях. Впрочем, близко подбираться к неприятельским окопам они не стали, дабы раньше срока не растревожить осиное гнездо. Оставшуюся колючую проволоку, уже при свете дня, смели огнем из легких артиллерийских орудий и одновременным подрывом заблаговременно заложенных пироксилиновых зарядов и мин системы Семенова. Затем, в дело вступила матушка-пехота.
Выскочив, по сигналу ротного, из окопа, Степан, крепко сжимая винтовку с примкнутым штыком в руках, широкими шагами помчался вперед, стараясь ненароком не запутаться в беспорядочном хаосе разрушенных проволочных заграждений. Справа и слева от него мчались другие солдаты, оглашая окрестности громогласным «ура!». Со стороны австрийских позиций по ним заполошно затакал пулемет, однако русский порыв было уже не остановить. В мгновение ока, долетев до вражеского бруствера, Степан соскочил внутрь и пошел работать, где штыком, где прикладом. Но – недолго. Ошеломленные австрийцы, поняв, что дело проиграно, скоро начали поднимать руки и массово сдаваться в плен. Тут-то Степан и опять пригодился. Причем, с совершенно неожиданной стороны.
– Воинцев! – подозвал его командир роты поручик Войцеховский. – Ты же, кажись, хохол?
– Так точно! Только – донской.
– Ну, это не важно. Иди сюда. Пленных надо допросить. А то я вашу мову хохлячью совсем не размовляю!
– А они что – русины?
– Похоже на то. А может – гуцулы. Не знаю, короче говоря. Сам разберешься.
Козырнув, Степан повесил винтовку на плечо и подошел к группе смуглолицых и черноусых австрийских пленных, почтительно снявших свои кепи перед Войцеховским.
– Здоровеньки булы! Откуда будете?
– С Голятина мы! – обрадовано откликнулся один из них, заслышав родную речь.
– Местные, что ли?
– Ни. С Закарпатья. Козак я.
– Что ты несешь?! Какой ещё, к такой-то матери, казак?!
– Самый натуральный. Фамилиё у меня такое. Василь Козак. А то – Козак Федир. Пидбережний, по-уличному. Есть ещё и Иван. Биличак.
– Тю! А что ж вы с нами воюете?
– А вы что?
«Н-да», – продолжая допрос, про себя подумал Степан. – «Вот уж действительно – Николай с Вильгельмом поругались, а мы стали виноваты».
Невзирая на успешно развивавшееся наступление, простым солдатам и впрямь порядком надоела кажущаяся бессмысленной война. Их дом был за тридевять земель отсюда, поэтому и умирать за считавшиеся номинально своими польские и прибалтийские земли никому откровенно не хотелось. Вот если бы ворог попёр на саму Россию-матушку, тогда – да, другое дело. Оттого и родилась, в окопах, чрезвычайно популярная присказка: «До Курска (или Тамбова) немец, чай, не дойдет»! В придачу, к подобным мыслям примешивались и устойчиво ходившие слухи об измене в высших кругах. Недаром, в одной из солдатских песен прямо говорилось: «И никто не догадался, что полковнику сказать, и ему б на место немца, кусок зеркала послать. Пусть смотрел бы черны усы и о зеркале мечтал: В нем наверно он бы скоро, скоро немца увидал». Или вот ещё: «Когда продали Варшаву, там был немец-генерал. Он набил карман деньгами и непростившися удрал». Судите сами, можно ли с таким настроем выиграть войну?
Другим известием, порядком разозлившим рядовых окопников, стало решение какого-то умника временно отменить очередные отпуска на фронте. Об этом с возмущением говорили все, без исключения, нижние чины. Казалось бы – чего проще! Дайте солдату возможность почаще отдыхать в кругу семьи! Ведь именно обещанием отпусков и строгой очередности пребывания в тылу и на передовой, новый французский главнокомандующий Филипп-Анри Петэн сумел успокоить свою армию после мятежей семнадцатого года. Но – нет. У нас и тут решили пойти другим путем. Мол, в тылу солдаты могут разложиться и привезти в окопы революционную заразу. Так зачем давать отпуска? Пусть уж лучше остаются на фронте. В конечном итоге, армия разложилась прямо на передовой. И ещё неизвестно, что было хуже.
Что до остального, то приняли Степана в полку хорошо. Да и в условиях постоянной текучки, обусловленной всепоглощающей войной, о какой-либо кастовости, присущей прежней армии, быстро позабыли. Все прибывающие новобранцы были, что называется, на одно лицо. Потолкавшись среди солдатской массы, они быстро привыкали к таким приметам окопного бытия, как сырые шинели, разбитые сапоги и непременные вши, прозванные одним метким острословом «внутренними врагами». Дальнейшее зависело только от личных качеств.
Ближе к осени, серьезно продвинувшаяся вперед линия фронта опять стабилизировалась. Солдаты, в который уж раз, зарывались в землю на новых позициях, строили блиндажи, расчищали сектора обстрелов, натягивали колючую проволоку. Противник особой активности тоже не проявлял. Случались, иногда, ленивые перестрелки, да регулярные ночные поиски разведчиков. Сначала перед дивизией стояли австрийцы, потом их сменили немцы. Лишь однажды, после летних боев, Степан и его товарищи попали в достаточно серьезный переплет. Отряженные для взятия «языка» охотники соседнего 25-го Смоленского пехотного полка, на нейтральной полосе, неожиданно столкнулись с немецкими разведчиками. В темноте не разобрались, выстрелили раз-другой, швырнули гранаты и пошло-поехало. В штаб артиллерийской бригады полетело тревожное донесение: «Противник наступает на участке 3-й роты»! Оттуда последовал приказ немедленно поддержать пехоту огнем из всех орудий. Ну, а поскольку вероятные цели были давно пристреляны, то помехой скоротечному бою не стала и ночная тьма.
Германская артиллерия тоже не заставила себя ждать, и вскоре сонный лес заполнился гулким грохотом вражеских разрывов. Пронзительно пела шрапнель, вонзаясь в стволы деревьев. Лишь по счастливой случайности, никто из находившихся там не пострадал. Но тут прошел слух, о возможном применении противником, наряду с обычными, ещё и химических снарядов. А это было уже гораздо серьезнее. Степан, у которого при одном только воспоминании о «Выступе Мартини» сразу запершило в горле, спешно проверил собственный противогаз и, вместе с остальными товарищами, приготовился поджечь заблаговременно приготовленный хворост. При прохождении газового облака, горячий воздух, от разведенных костров, поднимал ядовитую пелену над землей, что позволяло солдатам оставаться вне зоны поражения. Ездовые же, тем временем, отводили в тыл обозных лошадей, надев им на морды смоченные в воде торбы. Вот вам и русская смекалка!
– Сейчас хоть маски ничего пошли, – невнятно пробурчал, незаметно превратившийся в серое слоноподобное чудовище, записной весельчак Брагин. – А в начале войны, что было? Курам на смех! Всё по отдельности. Жестяная коробка с угольным порошком и патрубком с респиратором, очки-консервы и, внимание – особая прищепка, для зажимания носа! Пока всё соберешь, да приладишь, а австрийцы не ждут. Да и в этой дышать трудно. Тьфу, зараза!
К счастью, тревога оказалась ложной. Ни газов, ни штыковой атаки в расположении полка так и не дождались. Стрельба, постепенно затихая, продолжалась до самого рассвета…
6.
Между тем, пока Степан мок и мерз в окопах у села Смолява, судьба его, в очередной раз, готовилась совершить поистине головокружительный кульбит. Невольным виновником этого, как ни странно, стал всё тот же лейтенант Пиньоли. Казалось бы, где Италия и где Россия? Но – тем не менее. Как выяснилось, лейтенант отнюдь не забыл своего старого боевого товарища. Пусть и отправившегося на далекую родину. И даже написал письмо в итальянскую миссию при Ставке русского Верховного главнокомандующего. Обязанности которого, как известно, в конце 1915 года, возложил на себя, ни кто иной, как император и самодержец всероссийский Николай II. Да и в самой итальянской миссии произошли серьезные кадровые перестановки. Весной 1916 года прежнего представителя – полковника Марсенго сменил другой полковник (позднее – генерал-адъютант) граф Ромеи Лонгена. Русские офицеры, впрочем, памятуя о бессмертной трагедии Шекспира, звали его попросту Ромео.
Новый глава миссии и получил письмо Пиньоли, в котором тот просил установить точное местонахождение бывшего военнослужащего вспомогательных частей итальянской армии Степана Воинцева. Завязалась долгая и нудная переписка с различными армейскими, корпусными и дивизионными штабами. В конечном итоге, Степана отыскали и, в торжественной обстановке, вручили ему письмо из Италии. И он даже успел написать растрогавшемуся лейтенанту обстоятельный ответ. Мол, жив, здоров, воюю, с приложением непременных «кланяюсь» и «спешу сообщить». И завертелось.