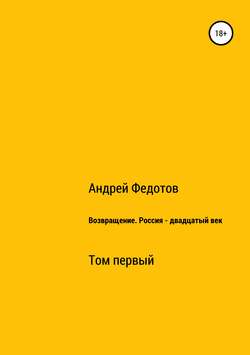Читать книгу Возвращение. Россия – двадцатый век - Андрей Борисович Федотов - Страница 1
ОглавлениеВсе реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь.
Екклесиаст.
Том первый
Предисловие
Первоначально эта книга задумывалась как семейная сага, вместившая в себя реальные события, произошедшие с тремя поколениями одной семьи, уместившиеся в первые три четверти двадцатого века. Но по мере развития сюжета описание событий нередко преодолевало семейные границы. Эти места повествования отражают субъективный взгляд автора, но неизменно имеют в основе реальные факты. В каждом таком случае автор постарался указать, что изложение тех или иных событий является их авторской интерпретацией.
При этом автор хотел показать, что провинциальный русский мир и коренной русский человек, не смотря на все испытания, выпавшие на их долю в двадцатом веке, на вынужденное приспособление к различным "-измам" оставались прежними, сохранившими связь между духовными, культурными и историческими корнями. Вследствие чего провинциальный русский человек никогда не был пресловутым «совком».
И только Глобализация вкупе с Интернетом в отсутствии осмысленной политики в области образования и культуры грозят разорвать эту пережившую и выдержавшую многие исторические потрясения связь.
Глава 1. Родовое гнездо
В последний приезд Меркулова-младшего родной город показался ему похожим на старого опустившегося человека, переставшего стесняться своей бедности, отчего ее признаки не замедлили проявиться откровенно и беспощадно.
Глубокими морщинами и родимыми пятнами обезображивали его лицо трещины и обнажившаяся дранка облупившейся штукатурки на фасадах некогда щеголеватых дворянских особняков и солидных каменных домов купеческого сословия, нахально, из «грязи» вылезшего в «миллионщики».
Словно подражая Пизанской башне, кособочились пристройки деревянных крылец с пыльными стеклами окошек, тускло освещающих стоптанные до сучков ступени лестниц, обитые потертым дерматином или клеенкой с вылезшим из дыры клоком серой ваты двери, за которыми когда-то между изразцовыми печами и окнами, заставленными горшками с разноцветной геранью, при мягком свете свечей, керосиновых ламп и шелковых абажуров уютно помещались поколения добропорядочных мещан.
Прерывистыми и кривыми каскадами свешивались по углам домов проржавевшие водосточные трубы, отчего после дождей ползли по стенам пятна зеленой сырости, во время зимних оттепелей не расчищенные от снега тротуары бугрились опасной наледью, а карнизы крыш щерились на прохожих остриями метровых сосулек.
Пустыми провалами пожарищ щербились порядки улиц, после того как огонь, не обращая внимания на фасонистую башню знаменитой городской пожарной каланчи, давно лишенную бдительного часового, находил себе очередную жертву. Пожарища быстро зарастали бурьяном и мусором. Но в последнее время пепелища со стороны улиц приспособились прикрывать декорацией временных загородок с изображением логотипа главной пропрезидентской партии.
Замерли в параличе многочисленные в прошлом промышленные предприятия, остановились мануфактуры, сто лет тому назад принесшие городу славу льняной столицы России.
Опустели широкие волжские фарватеры.
Но процветала торговля одеждой, украшенной ярлыками мировых брендов, сшитой в московских подвалах и гаражах вьетнамскими нелегалами, китайской бытовой техникой, предметами повседневного спроса и различными услугами. Притом, что скуп и ненадежен был источник наличных денег, перетекавших из рук в руки, поддерживая покупательную способность городских обывателей, фасады обветшалых домов украшали вывески банков, магазинов и прочих коммерческих заведений.
«Магазин модной одежды «Денди», «Меха России», «Салон одежды для леди «Стиль», «Студия художественной татуировки «Капитан Флинт», «Кафе-караоке «Барракуда», «Паб «Бристоль», «Пиццерия «Сан-Ремо» или «Ритуальные услуги элит-класса «Утешение» ожидали своего живописца, способного красками увековечить фантасмагоричность увиденного.
При этом город не стоял на месте. Город прирастал своими окраинами, которые расползались, следуя речному течению.
Люди, населявшие новые городские окраины, там спали и размножались, не отличаясь этими свойствами от жителей прочих городов мира, но зарабатывать деньги приезжали в старую, центральную часть города, наполняя ее неширокие улицы, спланированные с расчетом на гужевой транспорт XIX века, табунами лошадиных сил, упрятанными под капотами современных автомобилей. В результате проезжая часть городских улиц представляла собой лоскутную пестрядь асфальтовых заплат, и требовала непрекращающегося латания то и дело возникающих ям и колдобин.
В те времена, о которых пойдет речь, город был на сто лет моложе. Для города с его более чем восьмисотлетней историей этот срок должен был казаться не столь значительным. Но для семьи Меркулова-младшего, как и для прочих миллионов семей, этот отрезок времени стал эпическим, полностью изменившим уклад общественной и частной жизни, посягнувшим на саму личность человека, стирая грань между ее индивидуальной и общественной природой.
Жизнь Меркулова-младшего началась в городском родильном доме, из которого он через три дня после своего появления на свет был доставлен в родовое гнездо, представлявшее собой полутораэтажный дом, выходящий фасадом на улицу, на противоположной стороне которой высился забор колхозного рынка.
Нижний, полуподвальный, этаж дома был каменный, сложенный из красного кирпича с сохранившимися оттисками торгового знака давно покинувшего этот бренный мир и забытого хозяина кирпичного завода. Верхний этаж был сложен из могучих сосновых бревен за восемьдесят лет службы приобретших каменную прочность, высекавшую красно-желтые искры при попытке вбить в бревно стальной костыль. Сруб был «обшит» посеревшим от непогоды и времени тесом. Окна верхнего этажа украшали наличники, сквозная вязь которых не уступала в выдумке и тщательности исполнения орнаменту инициалов древних рукописных книг – земляки Меркулова-младшего издавна славились как искусные мастера по деревянной части. От дождя и снега дом сверху защищала крытая кровельным железом крыша, выкрашенная корабельным суриком.
Двор был отделен от улицы дощатым забором с двухстворчатыми воротами, которые изнутри запирались длинным деревянным брусом. Сбоку от ворот для прохода людей и собак была сделана калитка. Кошки редко пользовались услугами калитки, предпочитая с короткого разбега штурмовать забор, не отказывая себе в удовольствии не спеша пройтись по коньку забора, прежде чем исчезнуть на его невидимой стороне. Впоследствии, когда Меркулов-младший подрос настолько, что научился не только лепить снежки, но и метко их бросать, кошкам пришлось круто поменять свои привычки и преодолевать забор, как говорится, «одним махом».
Ворота широко распахивались три раза в год: во-первых, чтобы пропустить во двор машины, привозившие березовые дрова для топки печей, во-вторых, чтобы после окончания ледохода отвезти на Волгу зимовавшую во дворе лодку отца – Меркулова-первого, и, в-третьих, осенью вернуть лодку на прежнее место – на деревянный помост рядом с забором, огораживающим двор со стороны соседнего дома.
Когда в конце апреля сходил снег, двор меркуловского дома густо зарастал кудрявой травой-муравой и подорожником, чуть позже – распустившимися кустами белоснежного жасмина, черной бузины и лиловой сирени, в прохладной тени которой, среди жгучей крапивы, догнивали трухлявые останки беседки.
Среди бушевавшей зелени и пролитого майскими дождями золота одуванчиков с большим трудом держали «фрунт» сильно поредевшие за зиму поленницы дров, еще ниже казался присевший в траву бывший каретный сарай, за которым до следующего забора тянулись в майское небо белыми и розовыми облаками старые яблони и вишни, все лето зеленели правильными прямоугольниками овощные грядки, наполняли воздух сладким запахом ландыши, пионы и флоксы, даже в пасмурные дни весело смотрели пестрые «анютины глазки», а малина наиболее охотно и буйно росла возле подгнившего сруба «помойки», стеснительно прятавшейся за ее зарослями в дальнем углу двора.
До грозового лета 1918 года этот дом, получивший при советской власти порядковый номер 20, и дом соседний – числившийся под номером 22, позже разделенные забором, принадлежали одному хозяину – прапрадеду Меркулова-младшего. Дома были «доходными» и сдавались внаем.
Прапрадед с многочисленным неразделенным семейством проживал в самом центре города, в двухэтажном каменном доме, купленном по случаю ожидаемого визита императорской семьи в связи с празднованием трехсотлетнего юбилея вступления династии Романовых на Московский престол.
Получив по Манифесту царя Александра II свободу, благодаря безжалостному труду, мужицкому упрямству, беспощадному расчету, когда глаз за внешним равнодушием целит прямо в сердце, и фарту, без которого не поймать журавля в небе, кузнец Лука сын Трифона Меркулова из села Опалино Ярославского уезда, начав торговлю скобяным товаром, через двадцать лет развернув торговые дела на Нижегородских ярмарках, поставляя железный товар в обе столицы, сумел на закате своей жизни выбиться в купцы первой гильдии. Трое женатых сыновей купчины состояли при деле приказчиками, исполняя волю и поручения отца. А наипервейшей помощницей в торговых делах была ему единственная дочь Елизавета – средняя из выживших пяти детей, которую он, отправляясь в деловые поездки, всегда брал с собой, полностью доверяя ее не по летам трезвому и бойкому уму.
По родительскому ли эгоизму, или ставя выше всего интересы дела, не торопился купчина отдавать замуж любимицу-дочь, которая, пожалев свою уходящую молодость, по любви запретной и торопливой в год начала нового столетия прижила от заезжего петербургского чиновника по особым поручениям дочь, при крещении нареченную царственным именем «Александра», оставленную жить и воспитываться в семье вопреки бойкоту завистливых и недобрых теток.
Грянувший большевистский переворот, а за ним – гражданская война одновременно с эпидемией «испанки», со всей очевидностью доказавшей, что гнев Божий по-прежнему истребляет людей несравнимо эффективнее новейших орудий убийства, изобретенных человечеством, включая тяжелую артиллерию, ядовитые газы и авиацию, и мелкое насекомое Pediculus humanus corporis – платяная вошь сильно сократили численность бывших поданных Российской империи, не исключая жильцов упомянутого каменного дома, с балкона которого всего-то пять лет назад было так упоительно бросать охапками цветы под копыта лошадей императорского кортежа, отчего-то смущаясь стоящего позади блестящего и корректного жандармского корнета.
Все нажитое Лукой Трифоновичем Меркуловым богатство, включая каменный дом, в котором разместился губернский продовольственный комитет, позднее получивший окончательно советское название «Заготзерно», было национализировано именем революции. И не было в этом ничего удивительного, ибо в каждой губернии и каждом уезде были свои Стеньки Разины, Кондраты Булавины и Емельки Пугачевы, подкрепленные местными Маратами, Робеспьерами и Дантонами.
Как раз удивление вызывало спокойствие, с которым принял свое разорение и возвращение в первобытное имущественное состояние бывший купец первой гильдии и потомственный почетный гражданин Лука Трифонович Меркулов.
Наперед зная, как русский мужик медленно запрягает, да быстро погоняет, он поспешно скончался в июне 1918 года, подгадав под Троицин день, и тем самым лишил революционный пролетариат законного права арестовать себя в качестве заложника, чтобы впоследствии расстрелять как классово враждебный элемент, применяясь к решительному политическому моменту и исполнению с революционной беспощадностью декрета ВЦИК «О красном терроре», принятого 5 сентября 1918 года.
Остатки и прежде не очень дружной семьи, когда лопнули ободья того общего, что удерживало их вместе, рассыпались в поисках спасения по просторам бывшей империи, переименованной в малопонятное «РСФСР». В городе остались только мать и дочь, успевшая к тому времени окончить женскую классическую гимназию, не имевшие крыши над головой и средств к существованию.
К счастью для русской провинции наиболее пламенные революционеры привычно тяготели к руководящей работе в центральных органах, сосредоточенных в новой столице доставшейся им в наследство России, быстро скукожившейся до размера «Московии» времен Ивана-Грозного.
Поэтому на местах, в сиренево-лопуховой провинции, в органы новой власти нередко попадали служить представители местной либеральной интеллигенции, еще верившие или хотевшие верить в гуманистические идеи революции, и при этом полностью не порвавшие со своей средой, что в некоторых случаях позволяло им проявлять к отдельным ее индивидам спасительное покровительство.
Благодаря протекции общих знакомых, которая в любую историческую эпоху была и остается весьма эффективной в провинциальном обществе, двум ставшим бездомными женщинам мандатом губисполкома были возвращены две комнаты в доме напротив Рыночной площади.
Чтобы со двора попасть в ставшую их прибежищем квартиру, нужно было вначале войти через двустворчатую дубовую, усиленную железными полосами дверь в пристройку, укрывавшую от непогоды деревянную лестницу, ведущую в верхний этаж дома. Наружная дверь пристройки днем всегда имела открытой левую створку, которая на ночь запиралась на длинный кованый крюк. Лестница, насчитывавшая двенадцать ступеней, по бокам имела открытые галереи, соединенные с верхней лестничной площадкой, которая освещалась светом, проникавшим внутрь пристройки через два небольших окна, одно из которых глядело на калитку и ворота, второе – на двор с поленницами дров и бывший каретный сарай. В правых углах торцевых досок лестничных ступеней были прибиты вырезанные из дерева заглавные титлы старославянского алфавита по начальным буквам имен двенадцати Апостолов. Со временем некоторые из букв были повреждены или вовсе исчезли, оставив после себя темный след, но Меркулову-младшему на всю жизнь запомнился порядок семи сохранившихся: третья и четвертая – «I», шестая – «В», седьмая – «Ф», девятая – «М», десятая – «Л», одиннадцатая – «М».
С верхней лестничной площадки через утепленную с двух сторон дверь можно было попасть в длинный и полутемный, освещаемый одной тусклой лампой коридор с выходившими в него по две с каждой боковой стороны дверями. Пятая дверь располагалась напротив входной двери и вела в «черные» сени, откуда по лестнице можно было подняться на чердак, а неприметная дверь вела в не отапливаемую уборную.
Квартира, занимавшая весь верхний этаж дома, оказалась разделенной на две половины: в левую – «южную» половину «уплотнились» прежние квартиросъемщики, ставшие после революции ее полноправными владельцами, в правой – «северной» половине поселились бывшая наследница хозяина дома и ее совершеннолетняя дочь, которым достались бывшая столовая, кухня и небольшая комната, прежде занятая кухаркой, после революции вернувшейся в свою деревню.
Крыльцо с лестницей, коридор и «черные сени» перешли в общее пользование.
В квартире, в которой поселились мать с дочерью, центральное место занимала большая русская печь, побеленным шестком выходившая в кухню, обогревавшая «парадными» бело-синими кафельными боками обе комнаты. Кухня дверью соединялась со столовой. Из кухни через отдельную дверь также можно было попасть в коридор. Третья дверь вела из кухни в бывшую кухаркину комнатку, отделенную от столовой глухой стеной.
После появления в квартире некоторых предметов мебели, перевезенных из каменного дома властью все того же мандата, двустворчатая дверь с бронзовыми ручками, соединявшая столовую с коридором, со стороны комнаты загородилась дубовым, в барочных завитках буфетом, после чего в квартиру стали ходить через кухню.
В центре бывшей столовой встал стол, окончательно переставший показывать свой любимый фокус: при разводе в стороны дубовых половинок основной столешницы вытягивать из своего нутра под механические звуки неторопливого гавота две дополнительные доски, позволявшие усадить за стол единовременно восемнадцать человек.
К столу, робея в новой обстановке, жались четыре «венских» стула. Дубовый же диван-ларь, называемый на итальянский манер «кассапанка», в ящик которого на день убирались спальные принадлежности бывшей гимназистки, расположился в простенке между двух окон, глядевших во двор.
Расстроенный переездом «бехштейн» занял место у внутренней стены, рядом с гардеробом.
Между двух окон, выходящих на улицу, поместилось зеркало, бесстрастно отражавшее случайно собранную вместе мебель.
В угол, увернувшись от холодного взгляда зеркала, прижалась этажерка со стопками нотных книжек.
За стеной, в маленькой комнатке разместилась старшая из женщин со шведской металлической кроватью, комодом из красного дерева, на котором за чугунным «каслинского» литья будильником неровной цепью выстроились фотографии исчезнувших родственников, ножной швейной машиной «зингер» и финиковой пальмой в большой дубовой пасочнице.
Пальма была доставлена из Святого города Иерусалима в год появления на свет бывшей гимназистки саженцем высотою с обыкновенный канцелярский карандаш. Теперь за поднявшимся в человеческий рост деревцем, в углу нашли приют Спаситель и Богородица в приятной компании с кротким седеньким старичком из города Миры Ликийской.
Зеленый как почтовый вагон, весь в железной сбруе двуспальный сундук, заполненный вышедшими из моды, пересыпанными табаком нарядами, был отправлен в «черные» сени, где был втиснут между стеной и лестницей.
Когда полвека спустя, дом № 20 на Рыночной улице попал под снос, из него в новую трехкомнатную квартиру вместе с бывшей гимназисткой перевезли шведскую кровать, комод с фотографиями и три иконы.
По невероятному совпадению родители Меркулова-младшего в один день с квартирным ордером получили открытку на приобретение гэдээровского мебельного гарнитура, включавшего шкаф-горку, шкаф платяной, шкаф книжный, секретер, стол, диван-кровать, два кресла и шесть стульев.
В первую же ночь в покинутом хозяевами доме неизвестным последователем отца Федора в щепу были расколоты стол, буфет и «кассапанка», и совсем уже не понятно зачем – сбит кафель с печи.
Днем таинственным образом исчезли пережившие ужас ночного погрома «венские» стулья.
К вечеру следующего дня в приемном пункте «Вторчермета» оказались швейная машина, искореженный столовый музыкальный механизм и бронзовые дверные ручки.
Пальма держалась стойко до момента, когда раззадоренный упорным сопротивлением бревенчатых стен стальной шар-молот с восьмой попытки обрушил на нее не выдержавший напряжения потолок.
Глава 2. Туфли
«Что толку в красоте природной нашей, когда наряд наш беден и убог»
Маргарита. «Фауст» Гете
Но все эти события произошли много позже. А могли бы и не произойти вовсе. Если бы…
Если бы не война.
Если бы не революция и снова война, страшнее первой.
Если бы под Екатеринодаром не упал срезанный пулей друг детства и без пяти минут жених бывшей гимназистки, подававший большие надежды математик и спортсмен, прозванный за веселый нрав «Комка», брошенный на оставленном поле боя под холодным, низким небом с вывернутыми карманами и раздавленным ударом каблука солдатского сапога – в отместку за напрасные хлопоты – носом.
Если бы не устроилась кучером в детский приют лучшая гимназическая подруга Юленька Гертнер – дочь профессора-исследователя флоры полярных морей, не удержавшая запряженного в приютскую подводу экспроприированного призового рысака, узревшего впереди трусящую рысцой пролетку и привычно бросившегося в погоню за соперником, не выпал бы из пролетки от толчка нагнавшей ее подводы председатель городской ЧК товарищ Шмультис. И вовсе не желание страхом пресечь распространение среди городских обывателей контрреволюционной сплетни, а установленный в ходе расследования факт поступления гражданки Гертнер в июне 1917 года в женский «батальон смерти», доказывавший ее враждебное отношение к пролетарской революции и советской власти, послужил основанием для вынесения ей приговора по первой категории.
Если бы сама бывшая гимназистка не поступила на работу в первую городскую общедоступную библиотеку имени товарища Луначарского.
Но неопределенное «если бы» всегда пасует перед неотвратимым, как падение кирпича с крыши, словом «судьба».
Судьба явилась в библиотеку в белом брезентовом пыльнике и инженерной фуражке с перекрещенными топором и якорем на черном бархатном околыше, под которыми играли улыбкой голубые глаза, и золотистой щеткой прикрывали верхнюю губу маленького рта английские усы.
Большего при первой встрече с инженером Веселовским, посетившим библиотеку с намерением получить во временную собственность роман «Потоп» Хенрика Сенкевича, бывшая гимназистка рассмотреть не смогла.
Что было не удивительно.
Посудите сами: способна ли двадцативосьмилетняя девушка оставаться хладнокровной, когда сердце барабанной дробью отбило побудку для любви, робко таившейся в самых отдаленных закоулках души все девять лет со дня получения известия о смерти веселого юноши-жениха.
Всегда довольный собой инженер Веселовский заметил произведенное им впечатление, что еще более подняло его и без того хорошее настроение и вызвало внезапное желание сообщить милой библиотекарше, что не далее, как три дня назад он прибыл на строительство железнодорожного моста через Волгу, а отсутствие в городе знакомых оставляет ему одно доступное удовольствие – чтение любимых книг.
Надо сказать, что мосты, вне всякого сомнения, – важнейшие и интереснейшие сооружения: они не только соединяют, но открывают перспективу и могут увести очень далеко.
Воистину, строителей мостов следует почитать подобно просветителям.
Поэтому, нетрудно было угадать, что в ответ беспризорный мостовой инженер услышал горячие уверения в том, что все, без исключения, горожане почтут за честь принять в круг своих знакомых такого интересного человека.
Поэтому не стоит удивляться тому, что инженер Веселовский покинул помещение библиотеки в великолепном настроении, унося с собой не только желанную книгу, но также согласие неожиданно обретенной знакомой на совместный вечерний просмотр новой фильмы «Поцелуй Мэри Пикфорд», шедшей в кинотеатре «Художественный».
Этим знаменательным событием, получившим вскоре дальнейшее продолжение, завершился второй этап жизни бывшей гимназистки, который справедливее было назвать летаргическим сном.
Теперь она ощутила живейший интерес к окружавшему ее миру, удивительным образом преобразившемуся с появлением в нем инженера Веселовского.
И в зеркале этого события, ее взгляд, прежде всего, обратился на саму себя.
Прошедшие десять лет, казалось, совсем не отразились на ее внешности. Она воскресла из «хрустального гроба» или ожила из ледяной куклы, можете выбирать любой вариант, почти той же Сашенькой Меркуловой, которую подруги по выпускному классу гимназии за строгую красоту звали «Верой Холодной».
Приходилось признать, что главный лозунг победившего пролетариата: «кто не работает, тот не ест» – обладал мощным тонизирующим эффектом. Необходимость физических упражнений, связанных с ежедневным тасканием ведер с водой от уличной колонки с подъемом по двенадцати ступеням лестницы, колкой дров, ведением огорода, мытьем полов, обязательным участием в расчистке городских улиц от снега, вместе со скромным и малокалорийным питанием способствовали сохранению девичьей стройности фигуры и здорового цвета кожи.
Но даже безоговорочная женская красота требует достойной оправы.
Вот с этой-то оправой была форменная катастрофа.
К своему несчастью, Александра получила буржуазное воспитание, которое делает человека зависимым от вещей, указывающих на его социальное положение. Женщины этого круга считали себя «приличными», потому что могли позволить себе иметь красивое нижнее белье, шелковые чулки, модные вечерние туалеты со всеми полагающимися к ним аксессуарами, дорогую и элегантную обувь, меха и ювелирные украшения, французские цветочные духи по сто рублей за флакон, собственный выезд или, по крайней мере, «карманные» деньги, позволявшие им передвигаться исключительно на извозчике.
Теперь подобный уровень благосостояния был доступен лишь женам богатых «нэпманов». Заработка рядового библиотекаря едва хватало на самое необходимое для поддержания жизни двух человек: хлеб, соль, сахар, керосин, редко натуральный чай. Для готовки первых блюд покупались кости с лохмотьями хрящей и мяса. Остальное выращивалось на собственном огороде. Выручало соседство рынка. В разоренной стране любой кусок ткани шел нарасхват. Деревенские бабы охотно меняли натурпродукт на «мануфактуру» и одежду. К концу гражданской войны содержимое зеленого сундука, включая тщательно собранный табак, перекочевало на рынок.
Вот почему заочная ревизия собственного гардероба не заняла у бывшей гимназистки много времени, а результат ее был малоутешительным. Выбор вечернего платья упрощался тем, что прямая черная юбка, перешитая из дедовского парадного фрака, была единственной на все случаи жизни. Парные к фраку брюки были выменяны на четыре меры картошки, когда красные армии Фрунзе добивали в Крыму остатки белогвардейских полков Врангеля. Несколько скрашивала ситуацию возможность замены каждодневной голубой холщовой блузы на белую с синим воротником гюйс «матроску», в которой она выступала в «живых картинах» на последнем благотворительном концерте, устроенном в гимназии в пользу беженцев из Минской губернии. Впрочем, не столько отсутствие вечернего туалета приводило сейчас ее в полное отчаяние. Она прекрасно помнила главное правило женщины из «приличного общества»: платье может быть любое, но туфли должны быть нарядными.
Хорошо, что сидела Александра за глухим барьером, скрывавшим от глаз посетителей дешевые парусиновые туфли с ремешками-перепоночками и пуговками застежек. Туфли служили третий сезон, и уже зубной порошок был бессилен воскресить их первоначальную белизну, а утерянное единообразие в пуговицах только закрепляло отличие левой туфли от правой, а может – и наоборот.
Где взять новые туфли, если до выдачи зарплаты оставалось ждать еще целых десять дней?! Она даже знала сколько ей нужно денег – не больше и не меньше, а ровно тридцать пять рублей. Именно столько стоили модельные «английские» светло-коричневые туфли, выставленные на витрине магазина нэпмана Петухова.
Мысли ее лихорадочно метались, ища выхода. И кто-то лукавый шепнул ей простое и легкое решение. Следовало признать, что решением это было весьма сомнительного свойства, но она, отдавая в этом себе полный отчет, ухватилась за него, беспокоясь только об одном: чтобы ничто и никто не помешали ей совершить задуманное.
Едва дождавшись звонка, предупреждающего об окончании работы библиотеки, она, ни минуты не задерживаясь, попрощалась с коллегами и поспешила домой.
Подходя к дому ранее обыкновенного, она чувствовала, как неудержимо колотится ее сердце, но действовала осторожно и расчетливо. Как она и надеялась, мать, не ожидая ее возвращения с работы в столь непривычно раннее время, копалась в огороде.
В квартиру Александра поднялась как опытный «домушник», не скрипнув ни одной лестничной ступенькой.
Беззвучно открыв ключом дверь, она сразу прошла в комнату матери. Из ящика швейной машины достала большие портняжные ножницы. Подставив к углу стул, встала на него и тут остановилась. Из пальмовых зарослей на нее смотрели глаза строго и печально.
«Раскольников… право имею» – будто издалека услыхала она голос учительницы по русской литературе и классного кумира Нины Клавдиевны Бове.
Слезы отчаяния готовы были брызнуть из глаз. Но душою она чувствовала, что если сейчас остановится и переменит свое решение, то после будет готова совершить грех куда более серьезный.
Боясь пропустить стук наружной двери, она вытащила из киота первую икону, отогнула загнутые на толщину иконной доски края серебряной ризы и стала резать их ножницами, оставляя только маленький краешек, чтобы порча не бросалась сразу в глаза. Замирая от страха быть пойманной на месте преступления, она проделала это со всеми иконами.
Закончив, она вернула стул и ножницы на их привычные места.
После этого, она выдвинула верхний ящик комода и, порывшись в нем, вытащила принадлежащий матери коричневый кожаный ридикюль, в котором хранились утратившие от времени эластичность, когда-то белые, высокие лайковые перчатки, сохранивший французскую роскошь флакон с несколькими каплями сиреневых духов, камею, вырезанную из слоновой кости, с поломанной застежкой, короткое янтарное ожерелье, некогда украшавшее зобатую шею жены генерала Стесселя, приобретенное на распродаже имущества обесчещенного семейства, и тощую пачку писем, накрест перевязанную суровой ниткой. Все вынутое из ридикюля она сунула в верхний ящик комода, а на освободившееся место спрятала, собранные в жгут и завернутые в чистый носовой платок нарезанные металлические полоски.
Она успела умыться, причесаться и переодеться в матроску, прежде чем с огорода вернулась мать.
Стараясь выглядеть спокойной, Александра сообщила матери, что приглашена одним знакомым в кино и вернется не раньше десяти часов вечера. Отказавшись от ужина, спеша поскорее окончить начатое, она только выпила стакан чаю с куском хлеба. Не прося, а будучи уверенной в своем праве на это, она сообщила матери о взятом из комода ридикюле.
Новость о появлении у дочери первого за десять лет кавалера заметно взволновала Елизавету Лукиничну. Но будучи человеком сдержанным и немногословным, она не стала ничего у нее выпытывать, только окинула дочь придирчивым взглядом, вздохнула и отпустила коротким кивком головы на самую захватывающую, самую азартную и самую рискованную охоту. Оставшись одна, она с чувством помолилась перед иконами, прося для дочери счастья.
Выйдя из дома, Александра поспешила в приемный пункт «Торгсина». Там, волнуясь как будто при сдаче краденого, она подала усатому приемщику свою добычу.
– Что это?
Спросил усатый приемщик в сером жилете, надетом поверх белой рубахи с галстуком, и синих нарукавниках, принимая добычу бывшей гимназистки.
– Серебро.
Стараясь изо всех сил казаться спокойной, ответила она.
Приемщик, не оборачиваясь, через плечо передал полоски стоявшему тут же за прилавком узколицему молодому человеку с косым пробором Рудольфа Валентино в напомаженных волосах, одетому в черный жилет и черные нарукавники поверх белой рубахи с черным галстуком «бантиком», со словами:
– Василий, снеси, пусть проверят.
Валентиновый Василий нырнул с полосками в боковую дверь, а приемщик вновь принялся греметь костяшками счетов, ведя прерванный появлением Александры итог клонящегося к закату дня.
В вынужденном ожидании была унизительная неловкость, за которой не замедлило явиться мутненькое сомнение «А, что если окажется – это не серебро? Вот будет стыдно!»
Золотой палец Солнца проткнул комнату от окна до боковой двери и отразился в брильянтиновой голове возвратившегося с приговором Василия. Полоски серебра поместились на конторке в соответствии с вынесенным вердиктом невидимых судей «Все в порядке».
Александра перевела дух.
Приемщик положил серебряный жгут на чашку весов, на другую кинул две гирьки, добавил к ним третью и записал измеренный вес в раскрытую книгу. Не опуская нацелившееся на бумагу перо, поднял глаза на томящуюся ожиданием посетительницу:
– Как записать?
– Простите, я не поняла.
– Я спрашиваю о происхождении ценностей. Что это?
– Это от ризы.
Еле слышно пролепетала, помимо воли краснея, Александра.
– Не разобрал, что вы шепчите. Говорите громче.
– Это от иконы, часть ризы.
Не своим голосом пояснила Александра.
–Нам это одинаково.
Успокоил ее приемщик и произнес четко и торжественно:
– Тридцать шесть рублей и сорок копеек.
Когда он потянулся вырезать купоны на названную сумму, Александра неуверенно попросила:
– А можно деньгами?
Приемщик некоторое время молча смотрел на нее, а потом, вздохнув, сказал:
– Это можно. Только вы, гражданочка, теряете восемь процентов комиссии.
Желая только одного – поскорее закончить этот неприятный торг и оказаться на улице, она ответила поспешно:
– Я согласна.
Приемщик выдвинул из конторки ящик кассы, достал из него несколько бумажек и полтинник.
– Тридцать три рубля пятьдесят копеек.
И протянул ей деньги.
Александра, оглушенная названной суммой, автоматически приняла поданные деньги, расписалась в подсунутой приходной книге и с деревянной улыбкой на лице очутилась на улице. Для покупки туфель ей не хватало полтора рубля.
Итак, все ее муки были напрасными.
Она механически пошла по улице, плохо соображая куда и за чем идет. Внезапно на противоположной стороне улицы она увидела знакомую фигуру в прямом холщовом сарафане и белой панаме, которые зрительно делали обладательницу и без того невысокой и полной фигуры еще приземистее и круглее. Бондаренко Лидия Николаевна работала в читальном зале библиотеки им. Луначарского. И хотя Александра была с ней мало знакома, но другого выхода у нее не было. Она решительно, почти бегом, пересекла проезжую часть и, нагнав, окликнула.
Бондаренко остановилась, удивленно подняв бровки на своем круглом лице, уставив на Александру свои серенькие глазки с застывшим в них вопросом.
Александра, смущаясь, спросила: не может ли та одолжить ей полтора рубля денег.
– Полтора рубля?
Застигнутая врасплох, переспросила Бондаренко.
– Прямо сейчас?
– Да, если можете.
– А зачем вам понадобились эти деньги?
Оправившись от неожиданности, задала вопрос Бондаренко.
– Я хочу купить туфли, но мне не хватает ровно полтора рубля.
– Туфли?
Бондаренко бесцеремонно уставилась на запыленные «балетки» Александры.
– Вы, что же, уже успели присмотреть себе новые?
– Да. У Петухова. На Пятницкой.
– У Петухова. Так-так. Это, милая моя, дорогой магазин… И там вечно у витрины околачиваются всякие вертихвостки… Ну, что же. Пойдемте – посмотрим, какие туфли вы собираетесь себе покупать.
Александра чувствовала себя, словно попала на осмотр к врачу-гинекологу. Но отступать было поздно.
Весь путь они проделали молча, но и это было мучительно неудобно, так как Александре пришлось приспосабливать свой легкий и стремительный шаг к неспешной походке своей попутчицы, передвигавшейся под аккомпанемент расстроенной фисгармонии, каким-то образом умещавшейся в ее рыхлой груди.
Подведя Бондаренко к витрине петуховского магазина, Александра, указала на туфли и упавшим голосом произнесла:
– Вот эти.
Она уже сомневалась в своем желании купить их. Но инерция этого желания еще управляла ею.
Бондаренко приблизив лицо к стеклу витрины, почти касаясь его пуговкой своего носа, принялась рассматривать злополучные туфли. Насмотревшись вдосталь, она, выпрямившись, повернулась к Александре.
– Такие туфли, моя милая, может себе позволить не всякая женщина. Зачем они вам?
Испытываемое унижение заставило Александру головой вниз броситься в темную и бездонную пропасть обмана:
– Я выхожу замуж.
Тонким и прерывистым голосом, чувствуя, как пылают ее щеки, высокомерно заявила она.
– Замуж? Вот как! И кто же ваш жених, позвольте полюбопытствовать?
– Он не здешний. Приехал недавно.
– И кто он, если не секрет?
– Инженер. Будет строить мост.
– Так-так. Вы, оказывается, бойкая девушка, а на работе такая скромница. Недаром говорят, что в тихом омуте… Да, вы губки, моя милая, не кусайте… Мужчины глупы. Им бы только посмазливее и помоложе. Впрочем, глупенькой вас тоже назвать нельзя… Говорят, эти мостостроители получают сумасшедшие деньги…Ну, что же… Я, пожалуй, дам вам эти деньги, но вы должны помнить, что порядочную девушку украшает прежде всего скромность. Правда, у современной молодежи об этом весьма смутные понятия.
Бондаренко, строго насупясь, расстегнула сумочку, достала из кошелька горсть монет, сопя, выбрала мелочь и ссыпала в подставленную Александрой ладошку.
– Подумайте над моими словами, моя милая.
– Спасибо. Я вам очень благодарна.
Сухим языком проговорила Александра и, не простившись, вошла в магазин. При этом, большего на свете она боялась, что вслед за ней в магазин зайдет Бондаренко, чтобы насладиться взятой на себя ролью классной дамы до конца. К счастью этого не случилось.
Даже вежливое внимание приказчика, с похвалой отметившего ее вкус и принесшего на примерку сразу три пары туфель на выбор, не поправили испорченного настроения. И когда коробка с туфлями была ей вручена со словами благодарности и приглашением чаще посещать шикарный и гостеприимный магазин, она не испытала столько раз в мечтах пережитой радости. Цена у туфель оказалась гораздо выше указанной на ценнике.
Но она постаралась взять себя в руки.
Присев на скамейку в сквере на площади Революции, она без волнения переоделась в новые туфли, сунув старые туфли в коробку. Она сидела, настраивая себя на предстоящую встречу, как настраивают перед выступлением расстроенную скрипку, и ожидая, когда стрелки часов, висящих на углу здания горсовета, покажут без четверти восемь. Когда это произошло, она легко встала, привычным движением рук разгладила юбку, одернула матроску, бесстрашно окольцевала сгиб левой руки ремешками-змеями, хищными головками впившимися в коричневые бока ридикюля, и, непринужденно размахивая завязанной шпагатом коробкой, с готовой улыбкой на губах отправилась добывать то, за что уже заплатила непомерно большую цену.
Тем временем путейский инженер Веселовский тоже готовился к предстоящей встрече, но его хлопоты были легки и приятны. После визита в библиотеку он отправился в ресторан «Славянский», где в приятной обстановке отобедал, заказав заливную осетрину с хреном, солянку, баранью котлету с гарниром из молодого отварного картофеля и салат из хрумких нежинских огурчиков. Завершился обед большим куском трехслойной кулебяки с двумя стаканами крепкого и ароматного чая.
Придя в свой номер-люкс гостиницы «РИЦ», сохранившей свое дореволюционное название только потому, что оно, как нельзя лучше, соответствовало повсеместной практике сокращенных названий советских учреждений, инженер час провалялся на кровати, читая роман и борясь с затягивающей воронкой сладкой дремоты. В семь часов вечера он принял освежающий душ, после чего, не спеша, со вкусом оделся.
Инженер был щеголем. Отказавшись после минутного колебания от форменного белого коломенкового кителя, украшенного крупным серебряным знаком железнодорожного профсоюза, который легко можно было принять за орден, он облачился в кремовую шелковую сорочку и «яхт-клубовскую» пару, состоящую из бежевых фланелевых брюк и синего шелка, двубортного, сшитого «в талию» пиджака, серые шелковые носки и белые теннисные туфли. Примерив перед зеркалом классический темно-синий «виндзор» и «бабочку», он выбрал «виндзор», позволявший держать расстегнутой под ослабленным узлом галстука верхнюю пуговичку сорочки, что обеспечивало дополнительный комфорт в переполненный избытком дневного зноя вечер.
Оставалось только разложить по карманам серебряную раковину с упрятанным вовнутрь часовым механизмом, бело-синий, как морской сигнальный флаг, носовой платок и кожаный портмоне.
Уже перед выходом из номера, с удовольствием рассматривая в трюмо собственное трехкратное отражение, инженер Веселовский увенчал свою светловолосую голову путейской фуражкой со свежим белым чехлом.
В отличие от большинства поляков, которые по традиции и, кажется, назло своим восточным соседям рождаются со страстной любовью к Франции, инженер Веселовский был англоманом. По этой причине он повсюду возил с собой элегантную английскую трость, отполированная рукоять которой описывала правильный полукруг. Иногда он прохаживался с нею, тренируясь, по квартире, в которой на тот момент обитал, но не рисковал появиться с ней на людях, что бы не вызвать насмешливый свист и едкую резолюцию в адрес британского премьер-министр и лорда Чемберлена.
Вот и сейчас, взяв трость в руки и немного попозировав с ней перед зеркалами трюмо, он с разочарованием был вынужден оставить трость в углу номера.
Он уже было потянулся к дверной ручке, но, спохватившись, прошел, не снимая фуражки в ванную комнату, где взбрызнул слегка вьющиеся на висках волосы и щеточку усов одеколоном.
Хотел ли он обольстить милую и скромную библиотекаршу? Я думаю, что инженер Веселовский был готов в этот вечер обольстить сам город.
Минуло три часа.
Солнце скатилось с золотых шапок соборов и церквей и, прокатившись по уклончивым улочкам, упало в реку, превратив ее воды в текучее золото.
Заря, подхватив отраженный рекой солнечный диск, вызолотила западный край неба, которое, поднимаясь к зениту, перебирало оттенки желтого, нежной зелени, прозрачного аквамарина и голубого.
Чайки, голуби и галки оставили небо неутомимым стрижам, снующие тела которых с восторженным визгом закладывали в остановившемся воздухе немыслимые виражи.
Горожане, вышедшие после киносеанса из душного зала, как ныряльщики, вернувшиеся с большой глубины, жадно вдыхали волны свежего воздуха, накатывавшие с реки на медленно остывавший после жаркого дня город.
Река в этот вечер бесплатно давала свой бенефис, на фоне которого блекла призрачная жизнь Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса.
Для большинства горожан река была лучшее, что они видели в своей жизни. Зачастую они не осознавали этого в силу обыденности и привычки, но неизменно испытывали искренний восторг, узнавая ее на картинах художников.
Для тех, кто не умел читать, река заменяла книги Фенимора Купера, Марка Твена и Джека Лондона. Но более важным было то, что река свою книгу держала открытой, и любой, даже не умеющий писать, мог оставить в ней короткую строчку или целую страницу.
Поэтому не удивительно, что в этот вечер горожане не спешили вернуться в душные квартиры с коптящими керосинками и ревущими примусами, а парами и небольшими оживленными компаниями тянулись на нижнюю набережную, к пароходным дебаркадерам – излюбленное место вечерних прогулок с открытия навигации.
Между тем, река успела поменять золотой цвет своих вод на перламутровый, и подобно гигантской змее, только что сменившей кожу, переливаясь серебряным, голубым и алым, плавно и упруго струилась среди поднявших из воды свои темные спины песчаных отмелей и перекатов. По спине этой реки-змеи колесный буксир «Красный волгарь» упрямой сороконожкой тянул в затон на ночевку паровую землечерпалку «Профинтерн», с утра углублявшую обмелевший в межень фарватер.
Эспланада вдоль набережной была заполнена двигавшейся во встречных направлениях толпой гулявших обывателей всех возрастов, полов и социальной принадлежности.
Все скамейки, как стручки горошинами, были тесно заняты компаниями.
Но больше всего народа было у среднего дебаркадера, где под парами готовился к отходу двухпалубный грузопассажирский колесный пароход «Урицкий».
Уже был дан второй свисток. Отплывающие, провожающие и те счастливцы, которым удалось протолкаться на дебаркадер, с неослабевающим интересом следили за работой команды.
Трап был убран, но чалки еще крепко прижимали пароход привальным брусом к истертым мочальным кранцам, висевшим вдоль причального борта дебаркадера.
Капитан парохода с рупором в руке, то и дело уходил с открытого крыла мостика в штурвальную будку к переговорной трубе, чтобы узнать последние новости из машинного отделения.
Шкипер дебаркадера, опершись локтями о планшир решетчатого ограждения, неторопливо переговаривался с вахтенным помощником капитана с сине-бело-синей нарукавной повязкой, освободившимся от хлопотливых обязанностей управляющего посадкой на пароход пассажиров и погрузкой их багажа.
Два матроса из команды дебаркадера застыли у причальных кнехтов в ожидании сигнала сбросить с них штаги чалочных канатов.
Наконец механик доложил о готовности машины к отходу. Раздались три коротких свистка. Капитан с рупором, поднесенным ко рту, наклонился над обвесом мостика, оглядывая весь пароход с носа до кормы, и возвестил голосом, заставившим затрепетать жесть рупора, долгожданную команду:
– Отдать носовой!
Повинуясь этому громовому гласу, докатившемуся в чутком вечернем воздухе до ближних улиц и переулков, матрос на дебаркадере, играя загорелыми мускулами, подобно цирковому силачу ловко раскрутил обвившееся тугой спиралью вокруг чугунного кнехта тяжеловесное тело удава-каната и сбросил его в узкую щель между бортами парохода и дебаркадера.
Но не удалось удаву добраться до воды и обрести казавшуюся близкой свободу. Матрос, стоявший на носу парохода, ловким и своевременным рывком втянул его на борт парохода.
Течение реки по сантиметру стало отжимать освободившийся нос парохода от борта дебаркадера.
Капитан внимательно следил с мостика за увеличивавшимся просветом между судном и дебаркадером. Раздалась новая команда:
– Отдать кормовой!
И второй удав-канат был вынужден уползти с дебаркадера на борт парохода.
Стоявшим на дебаркадере в наступившей тишине были слышны журчание речных струй, обтекавших пароход, и своевременная капитанская команда «Малый ход», и то, как за ней в штурвальной будке сыграла звонкая музыка машинного телеграфа, разбудившая скрытое аркой кожуха краснолапчатое гребное колесо, которое со скрипом шевельнулось, ожило и завертелось, гулко шлепая плицами по воде, взбивая белую пену, брызги и водяную пыль, долетавшие до провожавших, не позволяя корме парохода, подхваченного течением реки, навалиться на борт дебаркадера.
Телеграф прозвенел еще раз, ускоряя бег колеса, сдвинувшего, наконец, пароход с места.
Мимо людей, сгрудившихся у перил дебаркадера, близко и удивительно плавно, как не бывает ни на одном другом средстве передвижения, поехал борт парохода с пассажирами, машущими кепками, фуражками, шляпами, платками, косынками, вошедшими в моду тюбетейками и просто ладошками.
Люди, оставшиеся на дебаркадере, махали им в ответ и при этом испытывали приступ возбуждения от внезапного и острого желания и одновременно грусти от упущенной возможности посредством парохода круто изменить свою жизнь.
Последней проехала корма с уже зажженными ходовыми огнями, косо подвешенной на короткой кормовой мачте пароходной лодкой «завозней» и прозевавшим отплытие, лениво шевелящимся кормовым флагом.
Отойдя от дебаркадера саженей двести, пароход развернулся кормой к закату и, подняв над трубой черный хвост дыма, побежал вниз по течению, послав на прощанье городу два коротких и один длинный гудка.
Череда фиолетовых волн, отставших от парохода, приползла к берегу и выбросилась на песок.
Вечер медлил уступить место ночи, которая уже известила о своем приближении, вывесив на небе первые звезды.
Сумерки, густея, скапливались в кронах во множестве растущих на городских улицах лип и кленов, в зарослях сирени, жасмина и лопухов опустевших дворов, за темными провалами открытых настежь окон обывательских квартир.
Наступил час, когда покой опустился на землю и воды, призывая все живое проститься с завершившимся днем и поспешить найти приют на предстоящую ночь.
То были времена, когда в городах люди, птицы и звери ложились спать одновременно.
И только коты и кошки нарушали общий порядок, то и дело пересекая дорогу запоздалым, спешившим домой пешеходам.
Инженер Веселовский со своей новой знакомой так же побывали на берегу, где, стоя у ограждения набережной, они наблюдали отход парохода.
Инженер Веселовский не мог отрицать того, что летний вечер был очаровательным, а его спутница – очень мила и, судя по всему, неплохо воспитана. Но, к сожалению, река была не Вислой, а девушка не владела искусством непринужденного и веселого кокетства польки, с легкостью высекающей искры из сердца мужчины.
По этой ли или другой причине, но инженер Веселовский не пошел провожать девушку до ее дома. Они расстались как добрые знакомые, не связывая себя обещанием будущей встречи, недалеко от скамейки, на которой Александра меняла свои туфли.
Совсем близко от этого места стоял обнесенный временным забором наполовину разобранный памятник, посвященный подвигу Ивана Сусанина, имевшему самое непосредственное отношение к предку и тезке инженера Веселовского – шкловскому подхоружему пану Михалу Веселовскому, о чем сам инженер не имел ни малейшего понятия.
Александра никогда и никому не рассказывала о чувствах и мыслях, владевших ею в тот вечер. Но доподлинно известно, что она вернулась домой в старых туфлях, спрятав коробку с обновкой в «черных» сенях, за «бельевой» корзиной, в которой они с матерью выносили в сад развешивать на веревках для просушки выстиранное и выполосканное белье.
Глава 3. Мне так отрадно с вами носится над волнами
В последующие две недели инженеру Веселовскому было не до посещений библиотеки. Все дни он проводил, мотаясь между управлением строительством и берегом Волги, с истинно польским задором споря с членами мостостроительного комитета НКПС, прибывшими из Москвы для окончательной привязки проекта к натурному месту закладки моста: нужно было успеть до начала подъема уровня воды в реке произвести разметку русла под будущее строительство кессонов, внутри которых через год должно было начаться возведение каменных «быков» будущего моста.
За все это время яхт-клубовский пиджак ни разу не покидал шкафа, а книгу романа, забытую на столе среди записных книжек и технических справочников, листал ветер, свободно гулявший по гостиничному номеру из-за распахнутой настежь днем и ночью балконной двери.
Но все имеет свой конец. Отбыли на пароходе первым классом московские спецы, согласившись в конце концов с убедительными расчетами инженера Веселовского, который, смягчившись одержанной победой, лично провожал своих недавних оппонентов, махая с дебаркадера фуражкой вслед медленно удалявшемуся пароходу.
Лето 1928 выдалось на редкость жарким, и ширина судоходного фарватера на отдельных участках Верхнего Плеса Волги не превышала 25-30 метров. В таких местах капитан выставлял на нос парохода матроса с бело-красным футштоком и вел пароход малым ходом, маневрируя между песчаными отмелями сообразно сообщениям об измеренной глубине.
Проснувшись наутро после отъезда комиссии, инженер Веселовский ощутил потребность в отдыхе, а по сему провел в управлении строительством только первую половину дня.
После обеда инженер Веселовский решил нанести повторный визит в библиотеку, будучи уверен, что делает это только ради того, чтобы вернуть так и недочитанный роман. Поблекли и уже не могли увлечь наивные описания сарматских подвигов и надуманных страстей книжных героев читателя, многое повидавшего во время гражданской войны и успевшего поработать под началом Великого Инквизитора Революции – Феликса Дзержинского.
Проводя все последние дни в служебных хлопотах, он совершенно забыл симпатичную библиотекаршу Александру, напрасно ждавшую его в обрамлении трех назидательных плакатов:
над головой –
Книга – могучее орудие приобщения масс к строительству социализма
слева –
Умеете ли вы правильно перелистывать книгу?!
и справа -
Книгу верните в срок – ее ждут другие читатели!
Направляясь в библиотеку, он тотчас вспомнил о ней и подумал о возможной встрече.
Подумал, скорее, с любопытством – с какой миной на хорошеньком личике встретит его та, которая имела основание дуться на него за его небезупречное кавалерское поведение. Признавая за собой вину, он, тем не менее, только посмеялся бы в душе, встретив демонстративно холодный прием pokrywdzonoy dziewczyny.
Вопреки предположениям инженера, Александра встретила его приветливой улыбкой и лучащимися теплой радостью глазами.
Сердце инженера дрогнуло. В то же мгновение он был свергнут с пьедестала самоуверенности и с пылкостью истинного польского кавалера пал к ногам русской паненки.
И не было ничего удивительного в этой внезапной капитуляции, ибо, будучи первоклассным специалистом по мостовым фермам, балкам, рельсам, брусьям, стойкам и раскосам, во всем остальном инженер Веселовский оставался всего лишь мужчиной.
И как всякий мужчина он не мог знать того, что в Эдемском саду нашептал Еве лукавый Змей, дав совет кое-что из полученных сведений скрыть от Адама якобы для его же пользы.
С этого дня жизнь в доме напротив рынка пошла веселее.
Страстная натура инженера искала и находила множество поводов для проявления вспыхнувшего чувства к Александре, последствия чего ощутила даже тощая серая кошка с довольно облезлым хвостом, делившая кров (но не стол) с двумя женщинами, для которой обязательная охота на мышей перестала быть единственной возможностью пропитания, став увлекательным ночным сафари, еще более приятным от того, что теперь каждое утро на кухне ее ждало блюдце, полное свежего и жирного молока, которое стала приносить в жестяном бидоне аккуратная деревенская молочница Анюта.
Известно, что ничто так не способствует пробуждению и расцвету любви, как трудно поддающаяся описанию словами задушевная красота русской природы. И в этом редко какое место в России могло сравниться с прежним Верхним Поволжьем – с голубой лентой реки на золотом ложе песков, дремотным покоем заросших кувшинками заливов и устий малых рек и речушек, разноцветьем луговых и охрой горных берегов, от отвесных обрывов которых и до самого горизонта шумели березовые рощи и перелески, ниспадающие кроны которых сливались с зелеными куполами еще не взорванных церквей, а сквозь частокол белых стволов украдкой выглядывали уцелевшие дворянские усадьбы, превращенные в агрономические школы, санатории и дома отдыха.
По этим берегам, у самой воды во множестве были расселены тихие городки и оживленные села, и тысячекратно повторенные многоголосным solo азартных петухов деревни со стадами священных месяцерогих коров и табунами широкоспинных скифских лошадей, на утренней заре вступавших в парную воду Великой реки, чтобы набраться на весь предстоящий день ее живительной силы.
Из этих ли соображений или искренне желая поделиться с новым избранником тем лучшим, что она знала в этой жизни, Александра старалась все свободное время проводить с инженером на Волге.
Могучие силы природы, управляющие движением воздушных масс в земной атмосфере, благоприятствовали этому, направляя дождевые облака и холодные ветры по широкой дуге от Балтики через Беломорье и самоедские тундры до голых кряжей Полярного Урала. Вся Центральная Россия была накрыта голубой чашей неба, под которой неторопливо бродили белые барашки кучевых облаков, неизвестно куда исчезавших перед закатом Солнца.
В выходной день, в тот ранний и удивительно тихий утренний час, когда воды едва колышимы в берегах только полетом Земли в бесконечности Космоса, Александра с инженером брали на водной станции прогулочного «фофана» и, выгребя на стрежень, пускались вниз по течению мимо низкого правого берега с домиками заволжской слободы, мимо начавшегося строительства насыпи правобережного мостового устоя, стрелой пролетая мимо подведенных под самый берег первых подошедших караванов плотов.
В десяти верстах от города лодка сворачивала в тихую речку Качалку, поросшую золотыми кувшинками, из песчаного дна которой били светлые и холодные ключи.
Зрелые июльские луга служили им брачной постелью.
Возвращались уже под вечер переполненные солнцем, медовым запахом трав и друг другом.
Выгребать против напора свободно текущей, не перегороженной плотинами реки в одиночку инженеру было трудно. Ведь, кроме силы требовалась сноровка.
Выручала Александра, которая садилась на «банку» рядом с инженером, и они гребли, каждый управляясь своим веслом, касаясь при этом друг друга бедрами и плечами. Случалось, Александра «перегребала» неискушенного в речных делах инженера – сказывались уроки теперь окончательно забытого жениха-спортсмена, и тогда лодка начинала кружиться в речных струях под плеск и брызги беспорядочно «табанивших» весел и смех счастливых гребцов.
Вечера в будничные дни они обычно проводили, гуляя по набережной. Иногда во время этих прогулок инженер заводил Александру в приличный вопреки предубеждению городских обывателей ресторан «Кавказ», где щедро угощал пряными блюдами грузинской кухни.
Открывшийся в тот год в городе оседлый цирк своей посещаемостью сразу затмил местный театр, безуспешно пытавшийся удержать зрителя новаторским репертуаром: «Блудливый директор», «Матрос и проститутка», «Семь жен Ивана-Грозного».
Инженер и Александра единогласно бойкотировали театр, а цирк наряду с кино сделался их любимым развлечением. Неожиданно у них появилось еще одно увлечение – азартное и «с интересом», но об этом будет рассказано в свое время.
Когда они привыкли друг к другу настолько, что даже длительное молчание больше не вызывало чувство неловкости, их привычным местом стала беседка, скрытая кустами сирени в углу двора дома напротив рынка.
Скоро стало обычным, что инженер просматривал разложенные на столе беседки чертежи и расчеты, производя вычисления с помощью малоизвестного и экзотического тогда инструмента – английской логарифмической линейки, и делая короткие пометки в блокноте, в то время как Александра, забравшись с ногами на скамейку, и делая вид, что читает книгу, с удовольствием наблюдала за его быстрой и точной работой.
Часто компанию им составляла совершенно выправившаяся кошка. Она являлась, громким мурлыканием приветствуя общего благодетеля. Церемонно потершись приобретшей шелковый блеск спинкой о его одетую в белую парусину ногу, она вспрыгивала на скамейку и садилась в «египетской» позе рядом с Александрой, чутко прислушиваясь настороженными ушами к шороху остро отточенного карандаша по бумаге, распахивая изумрудные глаза при взлете над столом чертежной кальки.
Единственной, кто всегда отсутствовал в этой компании – была мать Александры, которая молча наблюдала за переменами в жизни дочери.
Не получив определенного совета или хотя бы намека от укрывавшейся за пальмой троицы, она решилась полностью положиться на судьбу и относилась к инженеру с вежливой обходительностью хозяйки по отношению к принятому в дом гостю, не пытаясь придать этим отношениям родственный характер, чем заслужила с его стороны особенное уважение.
Для правильного толкования последующего повествования попытаемся ответить на вопрос, что было между Александрой и инженером?
Любовь?
Для мужчины и для женщины – это не одно и тоже.
Для женщины любовь – это парус, мелькнувший в море, который с нетерпением ждет каждая женщина. Беда, если парус не появится совсем или ее опередит другая. Поэтому очень часто она запрыгивает на палубу, не осмотревшись толком, что это за корабль и каков его капитан. Открытое море – жизнь проверяет прочность корабля и качества капитана. Женщина, заняв свое место на корабле, тотчас принимается за его украшение от киля до топов мачт, при этом все крепче запутываясь в его такелаже. Хотя, еще есть шанс спустить спасательную шлюпку. Дети – это стальные ванты, намертво скрепляющие ее с кораблем. С этого момента она обречена разделить судьбу корабля.
У мужчины любовь – постоянный поиск совпадения встретившихся им женщин с матрицей, хранящейся в его подсознании. Интерес к женщине у него возникает в тот миг, когда та, пускай – всего лишь намеком, чертами лица, сложением фигуры, тембром голоса совпадет с впечатанным в его мозг образцом. К сведению женщин – этот образец в каждом случае индивидуален и совершенно не обязательно имеет внешность голубоглазой и длинноногой блондинки с размерами 90-60-90. Вспомните нередко звучащий вопрос «Что он в ней нашел?!!!». Все остальное в это первое мгновение для мужчины вторично или будет дополнено его романтическим воображением. Слава Богу, женщине дан язык, которым она охотно и неосторожно пользуется, что не раз спасало мужчин от трагических ошибок. Полные совпадения случаются удручающе редко. Из-за этого мужчина, даже свыкнувшись с женщиной, разукрасившей их семейный корабль на свой вкус и на этом основании чувствующей себя вполне уверенной, постоянно осматривается по сторонам. Вот почему не стоит удивляться, когда однажды он в зависимости от своего темперамента либо сразу прыгнет за борт, либо постарается незаметно спустить шлюпку, чтобы пуститься вслед за своим, как выражался простоватый и искренний Пашка Колокольников, «идеалом». Справедливости ради стоит сказать, что чувство привычки в большинстве случаев все же удерживает его на борту корабля, ставшего для обоих плавучей тюрьмой.
В заключение этого пассажа необходимо указать на последнее, но очень важное обстоятельство – Александра умела слушать. Инженер тоже любил слушать – себя. И в этом они, как нельзя лучше, подходили друг к другу.
Глава четвертая. Настройщик
Так получилось, что появление инженера в доме на Рыночной улице стронуло с места запнувшееся было колесо судьбы – общее для обеих женщин и кошки, которое завертелось, ускоряясь и наматывая на себя цепь новых событий.
Сушь, больше месяца выжигавшая влагу из полей, лугов, лесов, болот, прудов, озер, ручьев и речушек, грозившая иссушить саму Волгу, не устояла – с небывалыми грозами, бурями и ливнями скатилась в заволжские степи, уступив место сырому и прохладному воздуху северных морей, где когда-то искал неизвестные науке формы жизни полярный ботаник и убежденный дарвинист профессор Гертнер – отец навсегда оставшейся юной подруги повзрослевшей и расцветшей Александры.
Думал ли тогда либеральный профессор, что пройдет короткое время, и казавшаяся столь логичной эволюционная теория будет с жестокой убедительностью посрамлена: вначале русской, а затем европейской интеллигенции было суждено на собственном опыте познать бессилие и покорную капитуляцию высокоразвитого меньшинства перед темной агрессией примитивного множества.
Зачастившие дожди и северных румбов ветры вынудили Александру, инженера и кошку искать более надежную, чем открытая беседка, защиту от непогоды. Деревянный верхний этаж дома был сух и прохладен, а если немного протопить русскую печь – не было на свете уютнее места, когда плакал в закрытые окна оставленный на улице мелкий дождь, и ветер раскачивал мокрые ветви кленов.
В ранних августовских сумерках, когда тепло от догоревших в подтопке березовых поленьев волнами растекалось по комнате и, добравшись до спавшей на стуле кошки, расправляло свернувшееся «калачиком» тельце в блаженно вытянутую дугу, Александра, ревностно старавшаяся сберечь тепло своих отношений с инженером, садилась к надолго позабытому «бехштейну» и пробовала вспомнить что-нибудь из его прежнего репертуара, но старый инструмент был не в лучшей форме и капризничал, отказываясь подчиняться расчетливой хозяйке.
Для примирения со злопамятным стариком требовался опытный настройщик, который после некоторых поисков отыскался и в один из вечеров явился, опираясь на солидную профессорскую палку и хромая на правую ногу, которую, впрочем, заменял протез. Седой «ежик» на его голове не позволял точно определить его возраст, хотя голубые глаза смотрели молодо. Старый, но чистый и аккуратно заштопанный свитер скрадывал нехватку мышц и мяса на его худом теле.
Поздоровавшись, при этом не называя себя, что было в те годы общепринятым, и повесив кепку на крючок за дверью, ведущей из кухни в «большую» комнату, настройщик прошел к пианино, достал из своего потрепанного кожаного портфеля кусок мягкой синей фланели, которую тут же расстелил на сидении придвинутого к инструменту «венского» стула, разложив на ней свои рабочие инструменты: камертон в футляре, настроечные ключи, войлочные уголки, свернутые упругими кольцами запасные струны и даже несколько фетровых «шапочек» для деревянных молоточков.
Настроить 200 струн – дело не легкое. Но уже через два с половиной часа заново отлаженный «бехштейн» в начале молодцевато отбарабанил «собачий» вальс, а затем, отбросив гаерскую маску, в благоговейном восхищении от собственного звучания сыграл медленную часть ля бемоль мажор клавирного концерта фа минор блаженного Иоганна Себастьяна Баха.
В этот момент Александра окончательно решила задачу, не дававшую ей покоя все время, пока она со своего итальянского дивана наблюдала за возрождением старого инструмента: стоит ли после завершения работы предложить настройщику, не проронившему за все время работы ни единого слова, выпить чашку чаю или достаточно всего лишь рассчитаться за выполненную работу.
Мастерство и чувство, с какими была исполнена последняя мелодия, склонило Александру в пользу поощрительного чаепития. Тем более, что это был отличный повод похвастаться перед посторонним человеком обновками: усовершенствованной инженером спиртовкой и жароупорной колбой, позволявшими быстро приготовить две чашки чаю, и только появившейся в магазинах Госторга новинкой – чайным сервизом на шесть персон, украшенным стилизованными красно-черными изображениями парохода, аэроплана и паровоза, впоследствии получившими название советского авангарда.
Осталось только узнать имя искусного настройщика и пианиста. Об этом и поинтересовалась Александра у молчаливого мастера, складывавшего свои инструменты обратно в портфель.
К удивлению Александры, вполне безобидный вопрос вызвал у настройщика очевидное замешательство, от которого его бледные щеки налились ярким румянцем, а глаза приобрели цвет океанской волны.
Однако, быстро придя в себя, настройщик вытянулся по стойке «смирно» и после кивка седой головы, глядя прямо в глаза Александре, отрекомендовался следующим образом:
– Мы были с вами знакомы, Александра Дмитриевна…Впрочем, неудивительно – прошло столько лет… Я – Антон Морье.
Тут уже наступила очередь смущаться Александре.
Дело состояло в том, что Антон – Антоша Морье, в гимназическом прошлом носившим прозвище – «Моран», был членом их дружной компании, записавшимся добровольцем на фронт одновременно с Юленькой Гертнер, но в отличие от нее, незамедлительно отправленным вольноопределяющимся пулеметной команды на Юго-Западный фронт как раз накануне катастрофы 11-й армии, позорно венчавшей последнее наступление русской армии.
Оставшись на брошенной бежавшими солдатами позиции, никогда до этого не стрелявший даже из охотничьего ружья вольноопределяющийся Морье с двумя пехотными прапорщиками из бывших студентов, имен которых он так и не успел узнать, почти час сдерживали огнем своего пулемета наступавшие немецкие цепи, пока бризантный снаряд, кувырнувшийся в землю перед раскаленным «рылом» выкипевшего «максима», не убил обоих прапорщиков, контузив и напичкав осколками окончательно потерявшего чувство реальности вольноопределяющегося.
По приказу немецкого лейтенанта, отметившего в донесении своему командованию их поведение, как редкий факт честного исполнения воинского долга, оба прапорщика были тут же зарыты в воронке убившего их снаряда, а вольноопределяющийся был отправлен в полевой госпиталь, где немецкие хирурги первым делом укоротили до середины бедра разорванную осколками правую ногу.
По капризу судьбы командующий германской ударной группировкой генерал фон Винклер со свитой штабных офицеров по пути с наблюдательного пункта в свою штаб-квартиру посетил госпиталь, где ему, как диковинку, показали тяжелораненого русского юнкера, отличившегося храбростью в неравном бою.
Известно, что победителям свойственно проявлять некоторое великодушие к поверженному, но достойному уважения противнику.
Будучи под впечатлением собственных успехов в благодушном расположении духа, немецкий генерал распорядился поднять юного русского героя на ноги, хотя к этому времени одна нога бывшего вольноопределяющегося уже была зарыта в числе прочих госпитальных отходов в яме, вырытой санитарами на заднем дворе ковельской гимназии, в которой размещался госпиталь.
Спустя полгода, когда Антон постепенно освободился от кокона пахнущих сукровицей и гноем бинтов, телом он походил на подростка, а лицом – на разрисованную личину марионетки: с необычайно большими глазами, клювообразным острым носом и длинной изогнутой щелью тонких губ.
Жизнь, убедившись в крепости доставшегося ей тела, решила повторить цепочку превращений из куколки в мотылька. Но поскольку куколка была с многочисленными изъянами, то и мотылек получился, сказать по правде, так себе. Силы медленно возвращались в покрытое глянцевыми заплатами шрамов тело.
Ему оказаться бы дома, где, как известно, и стены помогают. Но дом был далеко, по другую сторону двух борозд ощетинившихся колючей проволокой траншей, для порядка осыпавших друг друга кусочками свинца и стали. Он же был среди врагов, которые страдали от ран, жаловались на плохую кормежку, робели докторов, пытались ухаживать за медсестрами, читали вслух газеты и полученные из дома письма, ругали политиков и интендантов, играли в шахматы и карты, грустили и, по возможности, веселились, случалось – умирали, но чаще – выздоравливали, словом, вели себя как обыкновенные люди.
Вначале он был для них загадкой. Плохо говоря по-немецки, он общался с главным врачом госпиталя майором Битнером по-французски. Кем-то пущенный слух превратил его в пленного француза, прибывшего на Восточный фронт в составе корпуса французских войск, посланного союзным командованием на помощь разложившейся русской армии. По мнению раненых это грозило затягиванием войны. Поэтому поначалу к нему относились с неприязненной настороженностью. Никто не хотел воевать. Когда слух про французов не подтвердился, он стал им безразличен.
Вскоре случай изменил их отношение.
Попав в разряд выздоравливающих, Антон получил нижнее белье, халат, костыли и возможность покидать палату.
Его первый самостоятельный выход в свет, точнее – в госпитальный коридор, состоялся вечером дня, когда в последний раз по ту сторону русских траншей от теплых огоньков лампадок загорелись разноцветные свечи на пушистых ветвях рождественских елей, и в одна тысяча девятьсот восемнадцатый раз восшедшая на звонкое от мороза ночное небо Вифлеемская звезда совершила небольшое чудо, обратив тонкие ледяные пластинки, медленно спускавшиеся с бездонной высоты на укрытую снегом землю, в сверкающие брильянты, превратившие в эту ночь совершенно заурядного гражданина, спешившего в манящий теплом и светом дом с добытыми по случаю праздника куском мороженной конины и бутылкой с некоей прозрачной жидкостью, укупоренной туго свернутым обрывком газеты, в халифа Гаруна-аль-Рашида.
В коридоре от замерзших окон, если прижаться к стеклу лбом, свежо и ароматно после спертого воздуха палаты тянуло арбузным запахом уличного мороза, живо напомнившим дом с жарко натопленными комнатами, зеленый треугольник только что внесенной с мороза и установленной на крестовину ели, матово-белый, с сияющей медью вьюшек, прямоугольник голландской печи и черную полированную запятую рояля с раскрытым на пюпитре фолиантом в синем бархатном переплете с золотым теснением слов, выученных наизусть раньше, чем пришло умение читать – «Времена года» П.И. Чайковский».
Видение это было столь убедительным, что он невольно оглянулся, чтобы удостовериться в его реальности.
Увы! Реальностью был тускло освещенный холодный госпитальный коридор со столом дежурной медсестры посредине. Правда, слева, в десяти шагах от окна, возле которого он стоял, обнаружилось старое, неухоженное пианино, выставленное в коридор из бывшей учительской, превращенной в операционную.
До пианино он добрался за четырнадцать неуверенных кенгуриных прыжков.
Тем временем Вифлеемская звезда голубой сигнальной ракетой летела по темному небосклону, держа путь к древнему иудейскому городку посреди каменистой пустыни с храмом над освещенной огнями пещерой.
Она летела над занесенной снегом Россией, которая по собственной безумной воле сделалась кровавой купелью небывалого дотоле царства. Скучен был этот полет в полной тишине – колокольный звон был запрещен под страхом расстрела, ибо мог означать сигнал к мятежу.
На короткий миг звезда замерла над небольшим польским городком, в котором одинокий и страждущий извлек из издерганного грубыми солдатскими пальцами инструмента мелодию из синего бархатного фолианта, без слов поведавшую о простом счастье получить приют у пылающего в очаге огня. Этот незамысловатый, но проникновенный рассказ имел успех у незамедливших появиться слушателей, одобрительными возгласами потребовавших продолжения.
Вышедший на шум из ординаторской майор Битнер, выслушав доклад дежурной медсестры, выразил объявившемуся музыканту свое одобрение и разрешил играть вечерами для развлечения раненых.
Повеселевшая звезда продолжила свой путь, свернув на юг, пока, в конце концов, не встала над празднично освещенной лампадами и свечами пещерой, перед входом в которую в облаках душистого фимиама бородатые, в золотых ризах священники, держа в руках блюда со священными дарами, торжественно исполнили акапелла рождественский акафист.
Через день в госпитале появился маленький седой еврей, вполне сносно говоривший по-русски, который за пол-литровую бутылку спирта, выданную по приказу майора Битнера, за четыре часа неспешной работы посвятил Антона в тонкости настройки фортепьяно.
Поскольку музыка никогда не нуждалась в словах и их переводе, то очень скоро не только были забыты все былые подозрения, но он познал сладость успеха, выпадающего на долю знаменитых музыкантов-виртуозов, блистающих своим мастерством в лучших концертных залах мира.
Еще в то время, когда тело Антона было предметом спора Жизни со Смертью, Россия разродилась второй революцией, слухи о которой одни невероятнее других через формально существовавшую линию фронта доходили до тылового госпиталя.
Эти слухи, при всей их нелепости, побуждали майор Битнера настойчиво советовать своему русскому пациенту остаться в Германии, заключившей к тому времени почетный мир с большевистским правительством России.
Но вскоре у самих немцев дела пошли все хуже и хуже. После ноябрьской революции и отречения кайзера майор Битнер подал рапорт об отставке и отбыл в родной Мюнхен, успев снабдить Антона усовершенствованным протезом ноги, немецкой солдатской шинелью и пропуском Красного Креста для возвращения в Россию. Старшая госпитальная медсестра и большая почитательница музыки Брамса и Шумана фройлен Эльза Кубинек снабдила его в дорогу из скромных госпитальных запасов буханкой эрзац-хлеба, банкой свекольного повидла, бруском шпика и бутылкой рома.
Как весной перелетная птица, не ведая границ, стремится на только ей известную кочку посреди безымянного болота, так Антон пересек земли вновь образованных государств: Польши, Литвы и Белоруссии, пока не достиг России, имея своей конечной целью одноэтажный деревянный дом на крутом спуске к Волге, отчего улица, на которую выходил фасад с шестью окнами и парадным крыльцом, называлась Горной, и извозчики, едва услыхав адрес, рядили цену на целый гривенник дороже.
Две недели ушло на первую часть пути до Смоленска, а на оставшуюся – почти два месяца.
Была зима второго года новой – революционной эры, поэтому стояли на нерасчищенных путях с выбитыми стеклами и снежными заметами внутри стылые вагоны, брошенные без топлива заиндевелые паровозы. Только когда надо было срочно отправить эшелон, местная власть выгоняла на расчистку путей и стрелок, не взирая на пол и возраст, бывших буржуа и служащих. Уполномоченные Центрпленбежа отчаянно пытались с помощью своих мандатов раздобыть хотя бы одну теплушку, чтобы сбыть с формируемым составом засидевшуюся у них на шее очередную партию возвращавшихся по домам военнопленных. И часто оставались ни с чем, ибо с октября 1917 года любой мандат имел реальную власть только при наличии веского аргумента в лице «товарища Маузера» или «товарища Нагана», на худой конец – гражданки «Бутылочной бомбы», которых уполномоченным Центрпленбежа иметь не полагалось.
Но рано или поздно всякая дорога когда-нибудь да кончается.
Розовым мартовским вечером Антон слез с саней, перевезших его через скованную льдом реку, и, забросив за плечи немецкий солдатский ранец, некоторое время стоял, опираясь на костыли и на всю глубину легких вдыхая волнующий запах талого снега, со слезами умиления, неожиданно выкатившимися на ресницы, вглядываясь в накрытый снеговой шапкой город, ярусами улиц опоясывающий высокий волжский берег.
В ранце хранилась вся его «военная добыча»: полученные в Московском комитете Центропленбежа пара бязевого нижнего белья, ношенная, но отстиранная офицерская шерстяная гимнастерка и гражданские синие брюки «навыпуск» с зеленым кантом неизвестной ведомственной принадлежности, а также трехдневный паек, включавший килограммовую буханку липкого ржаного хлеба, стограммовый осколок «сахарной головы», круг копченой колбасы из конины, плитку фруктового чая, газетный фунтик с крупной солью и в качестве инвалидной добавки – холщовый мешочек с двумя килограммами желто-серого пшена и драгоценный «цыбик» английского трубочного табака. Еще в ранце лежали незаменимые в солдатском и походном быту алюминиевые кружка и ложка, складной нож, завернутое в тряпочку кресало, «опасная» бритва с ручкой слоновой кости, а также хроматическая губная гармоника фирмы Хеннер – подарок госпитальных медсестер и сложенный газетный лист «Известий», хранимый для свертывания «самокруток».
Хотя шел Антон на четырех ногах, пока взобрался по протоптанной между подтаявшими сугробами тропе на гору – сошло семь потов. Но когда с колотящимся от крутого подъема и волнения сердцем постучал в дверь крыльца, все пошло не так, как представлялось, давая силы выжить и вернуться.
На стук вначале осторожный, а затем в полную силу никто не спешил открыть двери. Недоумевая, подергал за ручку запертую дверь. Только теперь он обратил внимание на то, что парадной дверью давно не пользовались, – на крыльце, заметенном снегом, его следы были единственными. Подойдя к крайнему окну гостиной, заглянул в него, пытаясь сквозь стекло что-нибудь разобрать, и резко, как от змеи, отшатнулся, увидев близко глядевшее на него чужое лицо. Растерянный он стоял перед отчим домом, который отказывался его принять. С занывшим от предчувствия беды сердцем он через распахнутую и застрявшую в наметенном сугробе калитку вошел в нерасчищенный от снега двор, по узкой тропке обошел дом и открыл дверь черного хода.