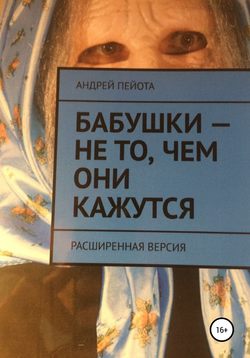Читать книгу Бабушки – не то, чем они кажутся - Андрей Пейота - Страница 1
Оглавление«Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. … Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.»
Д. Хармс
1.СЫНОК, НЕ ТОМИ ТЁТЮ РОЗУ…
СевКабель. Вход. Направо. Цех. Хипстеры кофе пьют, бабушкин скарб продают, новый дизайнерский шмот и винил. В общем и целом – уют. Вполне. Теплая атмосфера в прохладном ангаре, раф банановый с примесью шоколада и масляной гари, у парочки сладких мальчиков в красных штанишках, с парными татуировками бабочек. Тян пьют винишко. Отклячились и закрякали губки у барышень, одетых в Vans и Ray Ban. Ди-джей ведет себя, как местный бог и фронт-мен. Долбит на 104-ых и 808-ых, ему весело и лохмато, просто писец. Но не прёт местных сударей, да и барышень, вроде. Дело тут в смене эпохи и новой моде.
Настал век мета-модерна. «Это слишком жестокая музыка, #мы хотим чувств. Мы – новые и не такие, как все. Да-да-да, вот мы все не такие, как все… особенно я». Последнее местоимение необходимо произносить с московской протяжностью и гнусавостью, чтобы город дохлых поэтов, и все его приезжие колхозники, захлебнулись твоей важностью, особой эстетикой и чувством стиля. Если из общего гула в цехе убрать слова, почерпнутые из Википедии и модных пабликов про популярных писателей и выдающихся художников, останется лишь это гнусавое протяжное «я-я-я». Три сотни человек якают в помещении с овальной крышей, пока их латте и карамельные рафы скапливаются в десятках уголков ртов. (Причинным местом тебе по губам, а не латте!). Оценочное суждение, явно, но отвратительное столпотворение яков. Через одного в бабушкиных пальто и подкатанных брючках, ищущие только повода, выжидающие секунду тишины в диалоге, лишь бы рассказать про свою важность и значимость. И ладно бы образованы были, знали чужих языков штук по семь, и столбовые дворяне по батюшке восемь веков подряд, или, на худой конец пэрство в Англиях. А ты приехал на метро в рваных джинсиках старшей сестры. Что можешь ты мне рассказать про культуру и чувство эпохи? Пока ты несешь эту дичь, через каждые два-три слова мычишь, ища в вокабуляре слова, значения которых не знаешь, но знаешь что они стильные, я постепенно старею. Тем временем «солнце» и «луна», сейчас бы их звали Алехандро и Алехандро, потихоньку вырабатывают подземное электричество от доносящихся с Versus’а глагольных рифм. К сожалению, так и живем.
– Чувак, пойдем покажу тебе кое-что! Тебе понравится.
– Может не надо?
– А может, ты заткнешься, и просто пойдешь со мной?
Комната заперта изнутри, но бас пропускает легко. Два стука, и двери открылись, за дверью бугай.
– Хай.
– Ага, хай. Вы к кому? Вам назначено?
Мой провожатый отталкивает бугая локтем, куда-то вправо.
– К Герингу мы, отдыхай, боец. Всё О. К. Это со мной – и кивает, с важностью депутата, что знакомится с престарелым электоратом.
Мы проходим в еле освещенное нечто, то ли комнату, то ли цех.
– Наливай на всех! – гаркнул дядечка с сигаретой и пустым стаканом. Сигарета не зажжена.
Картишки, всё скромно. Вискарь бармен налил, отпил, выпил залпом, все ожидаемо. Не возьму только в толк. Пардон, а что мне должно тут понравиться? Хамоватые тетки, не первой свежести, да щетинистые на костюмах, по крою прошлого века. Того, что кричал про виски звали Батыр, и как я успел уследить, среди местных проныр он слыл заводилой. Туда вот налить, и тех вон послать. Распоряжался делами, и весь из себя деловой, но болтливый до одури. Весь постоянно подрагивает, как под чем-то. Смотрю на него, и вижу старый мультфильм, из психоделических восьмидесятых. Слов ненужных насыпал, как азбукой Морзе. Костюмчик в полоску частую, сидит, не подкуривает. Рубашка у карт покраснела – блефует.
А справа сидела дама, чернее, чем жизнь моя, но не то чтобы пик, и не то чтобы афро. Просто бывают такие. Достоевский их называл «инфернальные женщины». Волосы – смоль, да платье чуть выше колена, вечно мертвенный, хладный, голубо-бледный взгляд. Имя умалчивает, но пока, и лишь от меня. Ничего-ничего…
Уоу! А слева у парня измена. Рубашка накалена докрасна, слилась с рубашками карт, поглядывает на Батыра, и имя ему Семен. Глазки бегают вечно, руки дёргают дуновения ветра. Диагноз такой есть – отморожен на 360. Сёмка-холодок. Такой вот типаж: то ли урка, то ли нарко, то ли всем вашим наш, то ли всем нашим ваш. Не вписывается в коллективы субъект, зато фишек в его углу больше всех. Видит нутро насквозь, в том его суть. А нервы шалят – привет из Сургута, от братьев чеченских, Багира с Тимуром. Как сейчас картинка перед глазами: домик в лесу, стульчик, веревка «на мыле», стульчик выбили.
– Где деньги, *собака ты женского пола*!? Мы тебя здесь оставим кормить волков, иншалла!
С тех пор Сёмка точно знает, где прикупить, где промолчать, и что ты думаешь о нем прямо сейчас. Такая вот сверхспособность, такой вот «человек-ХЭ».
Мы с провожатым сели за барную стойку, поодаль от карт и красного абажура. Инфернальная женщина задымила, и губки сложила так мило. И да, ей всегда было мало всего и всех, потому на ее краю было всего три фишки. Эта та еле видная грань, что отделяла ее от сонных чаек, что ходили тут полуголые, подавая напитки. Может быть еще анемия, и крадущаяся эмфизема… но они давали нужный окрас, говорили: «Смотрите, аристократия! Гляньте, богема!»
– Флэш-рояль, господа. Было приятно иметь с вами дело. – Сема в ударе.
– Да сколько можно!? Да быть не может такого! У него уже третий раз флэш-рояль! – воскликнул Батыр. – Ты-то чего молчишь, Оксана? Ты ж не мойва, и все понимаешь.
– Нормально все, Бат, остынь. Не тебе же сегодня пешком на Московскую топать, и тем более на каблуках.
– Ой, и когда это мы пешком ходили? Только плачешься. Подцепишь опять дебила, и уедешь к нему на флэт. Хотя, может сегодня и день не твой, а может и год. Геринга кто-нибудь разбудил?
Последнюю фразу он обращал, мысленно взором ища, кого за нее зацепить. Чайки кружили вокруг с подносами, шмыгая носами, в поисках что сказать. Но бармен ответил:
– Нормально. Разбужен. Едет.
И только закончилась фраза, дверь чуть отворилась, чуть выпустив смога, запустив басы внутрь. Там стояла фигура, с осанкой и выправкой. В воздух влились пары гари и спирта.
– Салют, терпилы. Сегодня настал тот день, когда кто-нибудь нас покинет, надеюсь, что навсегда.
На этих словах сидящие за столом оживились, насколько могли. Никто не повел себя настороженно, хотя даже у меня пробежал холодок по спине, а уж видывал я всякое. Это была угроза, явная и неприкрытая. Вечер переставал быть томным, так мне подумалось. А следом, как оно часто бывает, пришло осознание, что я никогда не бывал на «томных вечерах». Трэша и угара было достаточно, было много постыдного и угнетающего. Было много веселого, как шизанутый клоун, и печального, как его жена, получившая вместо алиментов клубничный торт в лицо. Но вот, чтобы томный вечер – не припомню. Вероятно, вся томность осталась с плакучими поэтессами, и суицидально настроенными поэтами, на душных и вальяжных вечерах начала прошлого столетия. Оживление среди присутствующих явно было, но оно носило иной характер. Чудилось, или взаправду, но они были искренне рады угрозам смерти, а их улыбки изображали умиротворение, с небольшой щепоткой расслабленности.
Карты были сброшены со стола полосатой рукой, сонные чайки испарились в поисках своих гнезд, где-то в подсобных помещениях. Геринг, неспешной костлявой походкой, проследовал к заготовленному стулу с бежевой обивкой. Запах проспиртованной кожи и застарелой гари тянулся за ним вязким шлейфом, перемешиваясь с папиросным дымом.
Так пахнет от кочегаров в старых котельных, что всю свою жизнь только и делали, что жгли и пили, все в саже и пыли. Но Геринг – он не похож на таких. Выправка слишком струнная, речь – слегка странная, чуть иноземная, но она добавляла мужчине аристократии. Он не производил впечатления, будто может послать кого-нибудь к сучьей матери старой собаки, как это принято в обиходе у кочегаров, когда они дома, в угаре, и руки так чешутся… и мысли… и мысли… то ли выпить, то ли повеситься. Нет, господа. Тут были ливреи, лакеи и рестораны. Матроны, мадамы, беседы о душной эстетике, за чаем из гордых запасов Цейлона, что не рассыпают в пакетики.
Додумывание – враг мой. Действие началось. Бармен обновил, Батыр – захлебнул залпом.
– Господа-заседатели, обитатели душных коробок – затеял высокопарно Геринг. – Сегодня настал тот знаменательный день, когда любой ублюдок, из здесь присутствующих, – он сделал паузу, оглядев игроков – может вернуться, так сказать, в лоно. Я принес вам занимательную вещицу, на которую мы все возлагаем большие надежды.
И тут он достал из потайной кобуры за ремнем револьвер системы «Наган», и видимо, очень старый. Видно, приглядевшись, по потертостям на рукояти и царапинам явным, на стреляном дуле. И как самурай, аккуратно и с уважением, возложил он его на зеленый игральный стол.
– Это он?! Это точно он? Ты не шутишь? – воскликнул Батыр, не решаясь, но очень желая коснуться.
– Будь уверен, мой друг. Ты надпись на рукояти прочти.
– «Майору НКВД, товарищу Семагину, за заслуги перед народом и партией». Ети ж твою! – на этих словах Батыр потерял дар речи.
Семка-холодок, схватился дрожащей рукой за влажные волосы, чуть дернул, будто проверяя, не спит ли он. Но нет. Он в сознании. Все в точку. Семагин, тот, из Англетера, удавка бессмертия. От этих мыслей подкашивались ноги, руки сами тянулись к стволу, но он вовремя осекся. Рано…
– Как мы это сделаем? – вступила в беседу Оксана. В ее глазах слезилось нетерпение, губы чуть подплясывали.
– Думается мне, что по-старинке: крутим пистоль на столе, на кого дуло укажет – кружит барабан, и к виску – Геринг говорил без вспышек. Он единственный, среди игроков, уже видел все вспышки, и ни раз их сам разжигал.
– А не скучновато ли будет, херы? – вставил свои пять копеек Семка. Ехидная улыбочка не слезала с его лица. Это нервное. Сам пошутил – сам подхихикнул, проглотил смешок, и черт с ним.
– А что ты предлагаешь, смехопанораму на фоне включить?
– Да не о том я… мрачняк, какой-то. Я уже видел подобное в кино, выглядит тупо. Вот не хотелось бы выглядеть идиотом, тем более перед смертью.
Губки Оксаны ускорили свой забег, то за белоснежные зубки, то наружу, то будто пускали волну. Нетерпение…
– Что может быть глупого в столь возвышенном порыве, по своей воле отправиться в Вальхаллу? Вот сколько ты уже здесь маешься сверх срока? Сорок? Пятьдесят? Шестьдесят лет? А ты не думал…
– Господа, давайте уже начнем? – сказала робким голосом Оксана, но не была услышана.
– Не-не-не, подождите. Все должно быть обставлено правильно, не спорю, – ввязался в разговор Батыр. – Но вот не хочу, чтобы все было настолько по-немецки.
– Что ты имеешь ввиду?
– Я – татарин. Мне не с руки уходить в ваши Вальхаллы, Аиды, Мордор, или как вы их там зовете. Я вот вообще не верующий. Просто понимаю, то, что со мной происходит – противоестественно, и хочу это закончить. Полицай – не полицай, а цай-цай, и все отрицай. Так у нас в отряде говорили. Короче, меня не устраивает.
– Мужчины?
– Что значит «отрицай»? Это как понимать? Ты по миру бродишь уже почти сотню лет, а выглядишь на тридцать. Как ты можешь отрицать Вальхаллу и божественный промысел? Да и вообще, уходить по собственной воле – это честь и чистой воды искусство, и не только в Германии. Вспомним хоть римлян, или тех же самых японцев. Почитай Юкио Миси…
– Давайте начем уже, а?
– Книги на то и книги, чтобы обычное делать историческим, убогое – делать искусством. Сплошное самооправдание.
– Нет, давай все же вспомним Юкио Ми…
– Мужчины, хватит, я про-шу-вас – Оксана дрожала. Ее руки задвигались, как на пружинах. Она переминалась с ноги на ногу, как боксер на ринге, отчаянно ожидая ту решающую долю секунды для идеальной атаки. Она готова. Готова! Прямо сейчас! В этом раунде! Прямо тут упасть в нок-аут, выпустить последний пар из ноздрей в пыльный пол. – Я не могу уже! Дайте сделаем! Ну что вы за вурдалаки-то такие!?
– …симу. В его повести «Патриотизм» все подробно описано. Все противоречия и терзания офицер оставляет за дверью, и все что у него есть – его честь и долг. И именно таким он и уходит в иной мир.
– Я же тебе говорю, это все книги. В реальности так не…
– Не могу я больше! Да пошли вы!
На этой фразе Оксана издала истошный крик, как в лучших классических скримерах, схватила наган, вставила дуло в еще визжащий рот, слегка провела по отверстию мокрым языком, и, в долю секунды, ее мозги разлетелись на стене за ее спиной. Несколько ошметков ее плоти долетело до бара, и приземлилось на стойку. И, конечно же, огромное спасибо ей за испорченные джинсы.
– …бывает. – Батыр снизил свой темп и вытаращил глаза от неожиданности.
В комнате воцарилась гробовая тишина, и краски перешли в ч\б. Все присутствовавшие находились в крайне кинематографичном оцепенении. Я будто попал в стоп-кадр, но не мог прекратить ёрзать на стуле. Да-да-да… как всегда порчу искусство. Но, спустя несколько мгновений, динамика вернулась, мир расцвел, как мог, теми оттенками, которыми пришлось.
Геринг улыбнулся первым.
– Ну что, я думаю встретимся в следующем году? Может, удастся раскопать еще один патрон, у какого-нибудь коллекционера.
– Будем надеяться. Я по своим тоже поспрашиваю. Где-то они должны еще остаться, – ответил Батыр.
– Я слышал, в Будапеште есть один хер доктор, который коллекционирует маузеры, – Сема уже не мог ни вставить это излюбленное немецкое обращение, но Геринг снова пропустил шутку мимо ушей.
– Тогда, ауфидерзейн, дорогие мои упыри. Встретимся в следующем году, – сказал он. На том мужчины спешно пожали друг другу руки.
И тут пространство вновь наполнилось сонными официантками, но на этот раз без подносов с алкоголем. В их хрупких анорексичных ручках были молотки и большие гвозди. Все в рабочих робах, как с агитки завода «Красный путиловец». В секунду из под стола достали гроб на колесиках, ярко красного дерева. Было отчетливо видно старание мастера, изготовившего сей скорбный саркофаг. Величавые металлические орлы, две блестящие молнии на крышке, литое обрамление. Стильно. Геринг не лег, он впрыгнул в гроб, и его тут же накрыли крышкой и заколотили ее гвоздями, по два по углам, и два в середине. Не успел я опомниться, как его уже подкатили к входной двери и упаковали в большой деревянный ящик с пенопластовым наполнителем и штампом «Верх здесь. Не кантовать. Антиквариат». Его подкатили к трем другим уже упакованным ящикам. Оксаны, как след простыл, только требуха ее по стенам, да на мне. Знакомец мой тоже куда-то испарился, и бьюсь об заклад, теперь я знаю куда.
– Распишитесь. С.Д. Э. К. Все оплачено.
Я машинально поставил закорючку на бланке. Не уверен, что свою. Краем глаза увидел пункт назначения «Будапешт». Все произошло так стремительно, больше ничего не уловил.
И вот, сижу, значит, на высоком барном стуле, слушаю басы из-за стены. Пытаюсь привести все произошедшее хоть к одному логическому знаменателю, за который не забирают в специализированные больницы. Алкоголь весь прихватили чайки, и упорхнули вдаль, оставив мне лишь то, что плескалось в стакане. Спустя пять минут самого длительного замешательства в моей жизни, в дверях появилась фигура бабули с ведром и шваброй. Напевая что-то себе под нос, абсолютно не в такт доносящейся музыке, она проследовала к месту, где у Оксаны снесло крышу. Прислушавшись к ее мычаниям, я смог разобрать старый джингл из рекламы «mr. Proper». У бабули был орлиный нос, и темные волосы, пробивающиеся через пыльную седину.
– Мил человек, не подскажешь, кто сегодня? – обратилась ко мне старушка. Я все еще находился в некотором оцепенении.
– В смысле? – я запаниковал, что она вызовет полицию, и меня обвинят в убийстве, или в доведении до самоубийства, или чего-то там. Еще пару висяков на меня повесят, и в долгий путь на севера. Мысленно, я уже был на лесоповале и «рубал хозяйские харчи». – Я только зашел, мать. Не в курсе о чем ты. А что случилось? – паника….паника… паника…
– Да ла-а-адно! Не в курсе он – она махнула рукой в мою сторону. – Это они тебя за синьку купили, что ли?
– Кто? Э-м-м. Что?
– Не томи тетю Розу, ей недолго осталось. Немчура поганый откинулся, да?
– Нет. Девушка, – ответил я нерешительно. – Оксана, как я понял.
– Да где ты там девушку увидел!? Прошмандэ она власовская, а не девушка! – крикнула бабуля, но тут же осеклась, плюнула, и ушла мыть кровавый пол, бурча себе под нос. – Ну, ничего, Розочка. Ничего. Будет и на нашей улице праздник. Ты сказала, что переживешь этого изверга, и у тебя таки нету другого выбора. Сколько боли? Сколько ужаса ты натерпелась? А Сенечка? А Яша? Ты пообещала, что умоешься кровью этого супостата. Кровью умоешься, так ты сказала, – она горько вздохнула, выжимая красную жижу в ведро. Вокруг пахло весенними цветами и скотобойней. – Ничего, Розочка… скоро уже…
2.УСТУПАЙТЕ МЕСТА БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, И ПАССАЖИРАМ С ДЕТЬМИ
Одним жарким июльским утром, Глафира Семеновна Воскресенская проснулась, как всегда с неописуемым чувством тревоги, и ломоты в суставах от предстоящей ей суеты. Опять необъяснимо жгуче кололо в груди, и отдавало куда-то под лопатку. В утренние часы, она по обыкновению переживала о том, что же случится с ее особыми закатанными баночками в летнем холодильничке под окном, если ее вдруг не станет на этом свете. Глафира Семеновна с таким трудом добывала компоненты, стояла в бесконечных очередях, впитывая негативную энергетику, заливалась астматическим кашлем каждый вечер, но все же, ей удавалось расфасовать все по баночкам. Она клеила на них маркировки в виде лейкопластыря с именами. Среди них были, в числе прочих, подписанные красной пастой баночки «Порфирий Иванович», которых было большинство. Они были вместительны, проверены временем, чему соответствовала советская цена на донышке «3 коп». Глафира Семеновна каждое утро, перед тем как покормить Мусю (кошку средней полосатости, но высокой степени жирности) и Васю (рыжеющую болонку без левого уха, со склочным характером), всегда просматривала свои баночки под окном, и вела им учет.
«Порфирий Иванович» – тридцать штук. «Зинаида Семеновна Рейх» – пятнадцать штук. Степан Губерман, юрист – три штуки. Степан, как мы можем предположить, исходя из познаний в арифметике за первый класс, был ей нужен менее всех, да и наружности был неприятной. Но, юридическое образование, полученное еще при Брежневе, делало его, в глазах старушки, специалистом высочайшей категории. Ему уже немного осталось, скоро уже… но никуда не денется, напишет еще ей завещание. Есть у бабушки пара способов убедить.
Только бы все успеть, только бы внучке передать, думалось ей. Но что ж она не приедет никак? То сессия, то отпуска какие-то выдумала, будто есть от чего отдыхать. За всю жизнь палец о палец не ударила, а уже на юга собралась. Кому я наследие передам? Ничего… приедет…
Затем, после ежедневного подсчета, она начала наваливать склизкую манную кашу, что наваривала специально на говяжьих костях для своих муси-пусек, попутно поглядывая на настенные часы «Чайка». Рядом с часами неизменно висела карта ленинградского метрополитена с обведенными на ней станциями, на которых она ранее осуществляла самые выигрышные пересадки. Та-ак, значит, в семь утра тридцать первый троллейбус привозит меня на Лесную, надо доехать до «Техноложки», там перепрыгну на Московско-Петроградскую ветку, и на север. Таким образом захватываем тех, что с восьми, проговорила она вслух. Потом с проспекта поеду на юг, переход на Гостиный двор, и до Площади Восстания, и снова на юг – это те, кто с девяти…
Она водила пальцами по схеме, будто дирижер ведет свой оркестр к финальной, самой черной, ноте. Будто полоумный диктатор, гоняющий своих адептов по распростертой перед ним площади, мысленно давя каждого пальцем. Это утреннее планирование не было для нее рутиной, это была ее ода жизни. Единственное, что заставляло ее вздрогнуть, это внушительная вмятина на стене у схемы, пробитая молотком. Чем дольше она здесь живет, тем глубже эта вмятина становится.
Утро было влажным, и слегка душным. Глафира Семеновна решила надеть поверх серого скатавшегося платья, что помнит еще те прекрасные танцы в колпинском клубе в 65-ом, теплую шерстяную кофточку. Запах этой самой кофточки был ее фирменным знаком, ее своеобразной визитной карточкой, и одновременно – самым коварным оружием. Старческий пот, отдающий могилой – это тот парфюм, которым будут пользоваться все. Тут уж ничего не попишешь. Хорошо хоть сами чувствовать его не будут. Но это не отменяет того факта, что ты будешь наводить подсознательный, неосознанный ужас на окружающих.
Это смерть. Смерть будет сидеть рядом с каждым повстречавшимся тебе.
– И вас это ждет. И вас. И вас – будет говорить твое амбре всем в радиусе метра.
Вот, что на высочайшей громкости транслировали обонятельные рупоры в 31-й троллейбус, идущий с Гражданки в сторону Петроградки, стоя в мертвейшей пробке в утреннем СПб, уже десять лет кряду.
А люди что? Что они скажут? Люди склонны проявлять агрессию в сторону объекта своего страха, но выглядят они при этом, как пинчеры у подъезда. Тяф-тяф! Тяф-тяф!.. Им стыдно показать страх, но и в грязь лицом окунаться нет никакого желания. Этот-то эффект Глафире Семеновне и нужен. Концентрированная ненависть, которой нет выхода – самая сочная, и самая жирная. Многие люди очень легко выходят из себя, дают возможности себя расшатать. Социальные рамки. Нормы приличия, необходимое уважение к старшим. Есть свод неписаных строгих правил и ограничений. И плевать, была ли ты потаскухой или монашкой, честной и доброй, или алчной и двуличной. После шестидесяти все спишется, все забудется, и ты автоматически становишься лицом неприкосновенным. Для всех, конечно, кроме таких же, как ты. Глафира знала и это, и была начеку. Она накинула на голову платок, и по-самурайски, выключив внутренний диалог, двинулась на поле боя.
На выходе из парадного ей встретилась дочка школьной подруги, Танька.
– И в детстве была, как глиста, и сейчас. Лосины она натянула, видите ли! С шавкой своей шляется плешивой, жопами обе виляют. Мужика себе ищет богатого, курва такая! – проговорила старушка, где-то в голове.
– Здравствуйте, Глафира Семеновна. Ну, как вы поживаете? Как здоровье?
– Да, здравствуй, моя хорошая. Нормально здоровье, не жалуюсь. Ты-то как? Как детки твои?
– Ой, знаете, спасу от них нет. Сережка хулиганит в школе, меня даже к директору вызывали, представляете? Позор какой. Хотя, какой позор? Мальчишки, есть мальчишки, правильно? И вот, прихожу я к этой директрисе, а она, значит такая… бла-бла… бла-бла-бла… бла-бла-бла-бла…
Глафира Семеновна не слушала. Просто кивала и мотала головой в такт беседы, а сама думала, что курвам так и надо по жизни мучиться. Не зря ж ее мужик бросил. По углам, поди, с кем попало сапог морщила, а сейчас вон, жалуется. Ишь, какая выискалась. Профурсетистая все-таки молодежь пошла. То с одним, то с другим, то наркотики, то музыка это долбежная с утра до ночи, покою нет.
Интонационно поняв, что монолог движется к концу, она сказала что-то вроде «храни тебя бог, деточка», и незамедлительно двинулась в сторону остановки, стараясь совершать как можно больше движений руками. Добротный пот – половина успеха.
Троллейбус пришел точно по расписанию. Глафира Семеновна дождалась на тротуаре именно того момента, когда народ перестал беспрепятственно проходить в узкие двери, и только тогда начала протискиваться в самую гущу, аккуратно расталкивая и лысого мужичка лет сорока, и студентку, что уже и так вжало в поручень, навалившимися на нее потными телами. Старушка двигалась по проходу как можно медленней, останавливая взгляд то на молодом человеке, что в наушниках слушал гитарное соло, то на тетке, хабалистой внешности, в бежевой мятой юбке. Большая часть сидячих пассажиров прикрывала глаза с ее приближением, притворяясь спящими. Отчасти, это было правдой. При работе «пять на два», дни сменяют друг друга в постоянном круговороте стресса и отчаяния, и если у тебя есть двадцать минут на то, чтобы посидеть и подумать о своем – это успех… это добыча, которой ты не хочешь делиться ни с кем. А тут, по громкоговорителю тебе каждое утро твердят: «Уступайте места… старость достойна уважения».
Наша бывалая Глафира Семеновна несколько минут побродила по салону, тактично и не очень, расталкивая повисших на поручнях, пока кто-то из старых работяг не пристыдил молодого парня в наушниках: «Уступи, рожа наглая!» Что примечательно, сам работяга даже и не думал поднять свою задницу. Есть такой хитровыдуманый типаж человека. Не уверен, есть ли необходимый термин в социологии, потому будем называть его просто мудаком.
Бабушка села. Бабушка улыбнулась на сонного паренька. Вот и первая доза задавленной агрессии. Она взирала на него с навязчивой пристальностью, отчего уши его покраснели, а взгляд не знал, куда деться. Ну, нет, ребятушки. Это как-то хило. Так думалось ей. Глафира Семеновна не растерялась, и показала парню свой синюшный слюнявый язык. Эту дразнилку она выучила в старой доброй советской школе, будучи примерным пионером. Пионерам было не положено ругаться матом, потому исхитрялись как могли. Но это отлично сработало и сейчас. Вместе с ушами, у паренька начали багроветь и щеки. Он уже был готов сорваться с этой наглости, наорать что-то вроде: «Да ты совсем страх потеряла, карга старая!» Но в этот момент она сделала то, чего он совсем не ожидал, и в один миг вся злость куда-то улетучилась. Она чуть слышно чавкнула ему в лицо, будто котлету скушала.
– *Чавк*
Нет, парню не стало легче. Просто он вдруг устал. Сразу же. Стоя на одном месте. Он слишком устал для внезапного всплеска агрессии в общественном транспорте. Сейчас он на старуху накричит, кто-то из пассажиров за нее впишется, ругайся еще и с ними, морды бей. Кому это надо? Зачем? Лучше отвернуться в окно, спокойно мечтать о стаканчике кофе из вендинга на первом этаже. Ноги ватные, веки – тяжелые. Наверное, нужно больше спать. А старуха? Что старуха? Ей недолго еще осталось по земле бултыхаться, вот ее наказание.
Глафира Семеновна сидела довольная-предовольная. Даже румянец на щеках появился. Но всё-таки, чего-то не хватало. Она начала ёрзать на кресле, якобы, поправляя платье на сморщенных бедрах. На самом же деле, ее привлекла пухленькая гражданка с соседнего сидения, и старушка не могла упустить возможность невзначай потыкать в нее острым локтем. Пышная девушка долго терпела, но потом всё же вперила свой испепеляющий взгляд в старушку, видимо ожидая увидеть в глазах привычный страх, перед ее крупной персоной. Она не ведала, что творила, это уж точно. В ответ на визуальное испепеление, она получила истинно буддистское выражение лица Глафиры Семеновны. Глаза ее были влажными, полными умиротворения, вперемешку с безмолвным вызовом: «Ну, что ты мне сделаешь, профурсень толстая? А? Что? Ну! Ну! Давай же, смелее!» Вот, что рычалось в голове у старушки, и взгляд ее крайне точно передавал этот посыл.
– Остановка – Станция метро Лесная.
– О, это моя. Позвольте, милочка – сказала Глафира, только начинавшей открывать, рот пухлой гражданке, и тут же, с притворным кряхтением, стала пробираться к выходу, стараясь отдавить как можно больше ног.
У пухлой гражданки случился ступор. Слюна только-только начала собираться, желчь только-только подступила к горлу, и уже была готова изрыгнуться отменнейшими ругательствами, что передавались в ее роду из поколения в поколение, от матери к дочери… из поликлиники в поликлинику. И, на тебе! Карга лишила единственной отдушины.
«Как же могилой пахнет», – подумала гражданка, отстраняя лицо от скатавшейся кофточки, что проплывало мимо.
– Эй, аккуратней, ну! – крикнул мужчина, уже у входа. Старушка, будто случайно, но с таким усилием наступила ему прямо на кончик новых лакированных туфель. Глафира ничего не ответила. Просто спустилась по ступеням, с довольной ухмылочкой и розовым румянцем на щеках. Как только ноги ее коснулись земли, она танцевальным движением обернулась в еще открытые двери.
– *Чавк* – щелкнула она, посмотрев на кричавшего ей мужчину у входа. Колени его слегка подкосились, но он удержал равновесие.
– *Чавк-чавк* – щелкнула она вглубь салона, в сторону пухлой гражданки, что вмиг закатила глаза и покрылась крупной жирной испариной.
– С вами все хорошо? Может… – сказал мужчина с соседнего от гражданки кресла, но продолжения Глафира не услышала, ведь троллейбус закрыл свои двери, и двинулся в сторону новых шведских кварталов.
«А сегодня очень даже неплохо», – подумалось старушке, пока она порхала в сторону метро. Походка стала неизъяснимо легкой и воздушной, как в студенческие годы, когда цветущая акация шептала о ее красоте, всем проходящим мимо мужчинам.
В вестибюле было прохладно и пахло свежим ремонтом, что крайне раздосадовало Глафиру Семеновну. При ее роде деятельности, именно привычный советскому человеку мрак, сырость и облупившаяся штукатурка, – необходимая атмосфера. Это как для хирурга чистая операционная. Но, «бодрость духа, если че, это наш диагноз», а раздражать недоносков – это призвание милой нашему сердцу пенсионерки. Для начала, она заняла очередь к автомату для пополнения БСК. В очередях, причем при любых дизайнерских решениях по интерьеру, жизнь ощущается утекающей, как пот в подмышки, а тут еще старушечьи ножки впереди еле двигаются. Стратегия психологического изнурения, проверенная годами. Нет, поймите верно. Всяческие проявления старости – это обыденность. Все такими будем. Да и люди в Ленинграде понимающие и снобистски терпеливые, но не будем забывать, что сейчас мы имеем дело с профессионалом.
Сначала она ткнула в экран, и переключила язык на немецкий. И тут, началось внимательнейшее чтение, которое без очков, конечно же, не осуществить. 20-й шрифт на экране – это очень мелко. Она эти очки искала-искала, пыхтела и вспоминала боженьку. Затем всё же нашла. Насколько это было возможно медленно, она протерла очки носовым платком, и уместила их на переносицу. Уж как старушка этот немецкий читала и читала, изучала и разглядывала… о-о-о… это искусство. Очередь за ее спиной начала ломаться под издевательским психологическим давлением. Кому нужно на работу, кому – на учебу, а тут – бабушка решила вспомнить детство, думая, что 5 слов выученных в возрасте шести лет, дают ей уровень языка intermediate.
Первым сломался мужчина с кожаным кейсом, в рубашке с затершимся воротом. Сначала он начал громко вздыхать, так что слышно было даже в конце очереди. Бабушка сделала свой ход незамедлительно, как бывалый шахматный гроссмейстер. Язык на табло терминала стал итальянским. Она стояла и смотрела на табло терминала, сама удивляясь своей изобретательности.
– Может вам помочь? – максимально сдержанным тоном произнес мужской голос у ее правого уха.
– Себе помоги, – отрезала Глафира Семеновна, с такой выверенной интонацией, которой не хватает выпускникам Щукинского училища. – Ишь, выискался, рыцарь. Мальчик, я сама знаю как мне, и что делать. Учить он меня вздумал. Да я целину поднимала, пока ты пешком под стол ходил…
Далее шел монолог на тему сельскохозяйственных прорывов СССР, с элементами соцреализма и пролетарского БДСМ. Про энтузиастов, которым не нужны были школы да институты, ведь они проходили суровую школу жизни. Про то, как она научилась чинить трактора (что, конечно же, было мастерской фикцией), и что уж с такой примитивной техникой как терминал оплаты, она справится без сопливых. Тут решительная студентка решила воспользоваться тем, что старушка отвлеклась, и уже пополнить свою карточку. Ошибка новичка налицо.
– Куда прешься, сопля!? – получила она резкий ответ. – Я тебе что, мебель? В очередь становись!
– Но вы…
– Что я?! Ты за собой смотри, а не за мной! Учить они меня вздумали, ишь какие!
– Но я…
– Молчать!
На последнем слове Глафира Семеновна решительно отвернулась к терминалу, и положила вместо проездного свое пенсионное удостоверение. Это был штрих ювелира. Это была грация и простота настоящего искусства. Любые надежды очереди начать двигаться вперед были стерты в порошок, а пристыженный мальчик, с кожаным портфельчиком, сорока лет отроду, от абсурдности происходящего чуть не сошел с ума. Это подтверждалось широко раскрывшимися глазами, и неосознанно отвисшим подбородком. Все действия старушки были максимально ме-е-едленны, с театральными вставками «да что ж это?», «да как это?», «у-у-у, антихристово семя». От безысходности, люди начали перемещаться в еще более длинную очередь, что сформировалась в кассу. Второй терминал, по стечению обстоятельств, не работал. И тут, Глафира Семеновна сделала то, чего уж точно никто не ожидал. Ничего не пополнив, старушка просто вытащила пенсионный, и прошла вдоль строя вымотанных ее спектаклем граждан, ехидно улыбаясь. В конце своего триумфального шествия она сделала свой коронный *чавк* ровно 11 раз, поочередно смотря в затылки каждому в очереди. Последний *чавк* отлетел эхом от стен, сделал пируэт у каменного потолка, и будто упал на голову сорокалетнего мальчика с кожаным портфельчиком, отчего ноги его подкосились, и он рухнул на холодный и грязный пол. Он просто упал и начал биться в эпилептическом припадке, брызгая белой пеной изо рта.
– *Чавк*
– А-а-а, врача срочно! У него приступ! Срочно врача! Тут есть врач? – раздался женский голос.
– Да чего ты орешь? Не дай ему голову запрокинуть, а то язык проглотит! В скорую звоните!
– Уже вызвали! Скоро будут!
– Ну-ну. В прошлый раз час добирались.
По правде сказать, скорая в этот раз смогла оправдать свое название. Долго врачи искали причину, вызвавшую приступ у абсолютно здорового человека, да только не смогли, со всем своим багажом знаний и многолетним опытом. Не учат в медах, что причина внезапной хвори может уехать на эскалаторе с довольной улыбочкой.
В городской суете день пролетает незаметно. С виду худенькая и сухая бабушка, что выходила сегодня из парадного на Гражданском проспекте уже не была похожа на саму себя. Взгляд, что плавал во влаге, как в трясине, стал выразителен и светел. Руки перестали напоминать жерди из клеток в зоомагазинах, налились здоровьем, силой и полнотой. Живот разбух, раздулся, как на дрожжах. И эта улыбка…
Глафира Семеновна стала постоянно улыбаться, причем искренне, а не наигранным утренним оскалом. Она переходила из вагона в вагон, от станции к станции. Чавкала направо, чавкала налево. Кому просили врача, кто начинал задыхаться. Кто поздоровее, просто мечтали о чашке кофе и слегка качались на онемевших коленях. Бабушка втискивалась в переполненный вагон в самый последний момент, когда двери уже «вот-вот», будто кошка, сквозь старые подвальные решетки. Старая скрипучая кошка, сквозь старые скрипучие решетки. В вагоны, что в её юности были супер-современны и считались безумно комфортными для перевозки строителей коммунизма. А сегодня, день был душным, вагоны – ветхими, потными и влажными. Работать. Надо работать.
И вот он, долгожданный последний вагон запланированного маршрута. Через дверной проем подземной кареты вползает, подобно пьяной актрисе из-за кулис новогоднего спектакля, она – Глафира Семеновна Вознесенская. Звезда на небосклоне разбитых надежд и всеобщего отчаяния. Графиня косых коленей, и внезапного приступа тошноты.
Но что с ней случилось? Её совсем не узнать. Может прическа? Может искра Христова? Да нет, всё гораздо прозаичней. В ней лишних килограмм пятьдесят. Она шла по вагону, грузно, с неимоверным усилием переставляя ноги. В хорошенько раздобревшем с утра животе плескалась жидкость, и этот плеск доносился до каждого уха в радиусе трех метров. «Я – водяной, я водяной. Никто не водится со мной…» Эта песенка из советского мультфильма неосознанно отдавалась в ее голове, да так, что она чуть не запела. Вместо этого, бабушка остановилась, подхихикнула, и продолжила движение.
Нет времени развлекаться. Глафира Семеновна наметила свою последнюю жертву, как только зашла в вагон. Вид этой школьницы сразу определил ее положение в пищевой цепочке, как плавучую амебу без каких-либо целей, и уж тем более мозгов. А амебы, по мнению нашей пенсионерки, должны плавать. И они плавают. Они все там плавают.
Старушка встала рядом с сидящей девочкой, и вцепилась в поручень. Школьница не отрывала глаз от своего мобильного, свайпая и свайпая большим пальцем. Девочка, как девочка, и что Глафира Семеновна в ней подметила? Джинсики подкатаны, волосы – синие, взгляд – неосмысленный и безразличный. Ничего особенного. Пенсионерка психологически давила, пристально всматриваясь неодобрительным взором – ноль эмоций. В ход пошла тяжелая артиллерия.
Сжав губки, как для свиста (свистеть она так и научилась, да и зубов своих почти нет), старушка стала делать целенаправленные выдохи на школьницу. Запах малочисленных, но грязных и больных зубов, вперемешку с булькающим содержимым нутра дал необходимый результат. Девочка взглянула наверх, чуть сморщившись, на нависающую над ней гору. Забитая носоглотка создавала нужное музыкальное сопровождение всему шоу. Школьница, не раздумывая, уступила место. Пусть, рядом было несколько свободных мест, но лучше уж пересесть самой, чем терпеть это неизъяснимое зловоние гнилого супа и смерти. Но бабушка и не думала садиться. Сначала она просто перевела свой взгляд на пересевшую девочку, затем медленно обернула к ней всю голову. Пару минут школьница пыталась не обращать внимания на полоумную. Пыталась закрыть глаза, отвлечься на музыку в наушниках. Нет. Этот взгляд сверлит даже сквозь веки. Пыталась почитать рекламу о самых недорогих апартаментах из разряда «лухари вилаж», конечно же, всего в ста километрах от городской черты. Сверлит. Да-да-да, всего четыре часа в обгаженных пригородных электричках, с пересадкой на маршрутку с Урулбеком, и вы счастливы. Сказка! Чудо чудесное… нет… не помогает… сверлит.
– Я могу вам чем-нибудь помочь? – не выдержала школьница, и всё-таки обратилась к старушке.
Молчание.
– Может вам скорую вызвать? С вами все в порядке?
Молчание.
Девочка решила выйти на ближайшей станции, ибо происходило что-то не очень приятное. Благо, до дома от Выборгской было минут двадцать пешком. Как только двери открылись, она вышла из вагона, заставляя себя не оглядываться. Поезд с противоположной стороны платформы тоже только что прибыл, и из вагонов на станцию вывалилось несколько человек. Не сказать, что многолюдно, но некое спокойствие пришло. Жителю мегаполиса всегда становится комфортней и спокойней в людском массиве, в потоке. Он перестает чувствовать себя таким маленьким, в сравнении с каменными истуканами домов, что наваливаются на тебя всем своим объемом и значимостью. Людям из мегаполиса всегда будет не по себе, окажись они вдали от городского шума и неоновых витрин надолго. Они не переносят звука своего дыхания, которое не будет отражаться от шагов прохожих на оживленном проспекте. Эти звуки всегда возвращаются густым шматом энергии, и бьют куда-то в область солнечного сплетения. Долбаный вампиризм. Долбаные зайчики-энерджайзеры на биологической подпитке. Стук-стук в барабанные перепонки, стук-стук, стук-стук! И дыхание… дыхание. Без людского трафика, дыхание – это просто движение воздуха, но без ощущения близости. Без того чувства, что когда-нибудь мы будем все, как одно. Как в начале времен. Будем также летать под землей, снуя от станции к станции, с единственной целью – быть в движении. Мы – это вереница огней, что загораются от дальнего света поездов в метро. И этот свет загорелся сейчас. На секунду. В той школьнице на станции, что была так рада не остаться с маньячной старухой наедине. Она поднималась по эскалатору, сотни раз проклиная себя за симуляцию болезни в кабинете школьной медсестры.
И вот, еще одна вспышка. Доля секунды. Дрожь по телу и слабость в коленях. К горлу подступило что-то горькое.
– *Чавк* – раздалось откуда-то с нижних ступеней эскалатора.
На станции, уже наверху, засуетились бравые охранники. Вызвали скорую, которая на этот раз не факт, что приедет быстро. Оттого начальница станции содрогнулась в коленях, судорожно вспоминая, куда же запрятали их местную аптечку. А еще, в голову ей навязчиво лезли эфиры с Малышевой, но как всегда не те, что нужно. В голове шел видеоряд, с танцующей красной маткой, и слова ведущей, о том, что детки – это счастье, а менструация – это прекрасно. Подобные мысли проблему не решали. Девочка лежала, погоны мысленно облетали, словно сакура по осени. Кошмар.
А вот цветущая Глафира Семеновна Возесенская, 19… (не удобно даже сказать какого) года рождения, уроженка города-героя Ленинграда, уже заняла место в троллейбусе, по направлению к Северному проспекту.
Дверь квартиры слегка щелкнула, а потом стремительно подалась вперед, освещая подъездным сиянием темную прихожую. Эти некогда белые обои приняли в себя душные запахи метрополитена и грязное дыхание своей хозяйки. Комнатная собачка виляла хвостом и подпрыгивала на месте, пока кошка Муська равнодушно поглядывала на разувающуюся старушку. Движения ее были медленны и неказисты, но не лишены решимости к действию. Не в первый раз. Надо только сделать все правильно, и не забыть убрать молоток из кладовой. Все будет хорошо.
И вот, кухня зашипела и зашкворчала в полный голос, наполнившись звуками брызжущего из сковороды масла и Хворостовского, исполняющего старый романс «Я встретил вас, и все былое…», так там пелось. Певец пытался максимально походить на Шаляпинский оригинал начала прошлого века. Порфирий Иванович Воскресенский очень любил Шаляпина. Много лет назад он рассказывал молодой жене, как отец водил его послушать народное достояние. И Проша, будучи обычным деревенским мальчишкой, сидел с открытым ртом в абсолютном бессилии оторваться. Именно из-за того огня, который Шаляпин смог зажечь в мальчике, он и выжил в гражданской, а потом и на фронте. Всю свою жизнь оставаясь беспартийным, он прекрасно жил в насквозь пролетарской стране, и даже умудрился найти себе место преподавателя в ВУЗе. Он пережил многих именитых вождей, а на склоне своих лет, смог растопить сердце юной студентки, что слушала его лекции об этике и эстетике в социалистическом обществе. Слушала она их с таким же открытым ртом, как он в свое время Шаляпина. Она непременно вздыхала каждый раз, как вспомнит себя в этом ситцевом платье в белый горошек, стройную себя, молодую себя… И он, такой статный и мужественный, с сединой на висках и атлетическим складом. Как он укрывал ее от дождя своим бежевым пиджаком, пахнущим еще фронтовой гарью и одеколоном «Шипр». Но сказки не длятся вечно. Случились тучи и гроза. Он вышел в ближайший продмаг за папиросами, пока пыльные вихри гнули деревья, и рвали листву с дворовых берез. Глафира видела своего мужа сквозь вот это кухонное окно, под которым она хранит свои особые закатки. Она готовила его любимые оладьи, чайник рвался к последнему свистку. Но вот, нелепая вспышка. Небесный вдох. Яркая кривая стрела разрезала небо, и с треском рванула к земле, упав в метре от ее супруга. Она вскрикнула, потеряла дар речи и памяти. Просто встала, как вкопанная, выронив из рук замусоленное вафельное полотенце. В этом оцепенении она простояла несколько минут, пока не услышала привычный щелчок входной двери.
– Проша! Проша! Живой! – она ринулась в прихожую, и повисла а его шее. А Порфирий Иванович, вроде и не понял, чем вызвано такое беспокойство.
– Чего разгонашилась-то? Есть хочу. Скоро там у тебя?
– Да, готово уже, – Глафира улыбалась сквозь слезы, утирая их рукавом домашнего халатика.
– Ну, так накрывай. Давай бегом, как зверь голодный, говорю же. А я пока вешалку в прихожей приколочу. А то, сколько можно на этот гвоздь гнутый всё вешать?
Глафира Семеновна, в своем домашнем халатике, чуть перепачканном мукой, вспорхнула в кухню, пока Порфирий полез за скрипучую дверь кладовой. Она была вне себя от счастья. Все обошлось. Все хорошо. Целехонек, думала она.
Этот случай дал девушке понять, и понять уже окончательно и бесповоротно, насколько этот мужчина дорог ей, и чем ей грозит его потеря. Если его не станет, придет этот бесконечный ступор, вперемешку с ненавистью и замешательством. Если его не будет – это уже навсегда. Она дала себе немое обещание уберечь его любым способом, что бы ни случилось. За этими мыслями, она сама не заметила, как накрыла на стол. Разложила оладьи по тарелкам, налила чаю.
– Порфирий Иванович, вам сахару как всегда? – крикнула она из кухни.
В ответ было молчание.
– Порфирий Иванович, а-у! Сахару сколько, говорю?! – она крикнула громче, но ответа так и не последовало. И тут, до нее медленно начало доходить, что ничего он в прихожей не вешал, ведь стука не было. Точно, не было.
– Проша!
Глафира Семеновна Воскресенская обнаружила своего мужа в дождливый октябрь 1966-го, лежащего в своем мокром пальто, в их тесной кладовой. Ни слезинки… ни единого всхлипа не вырвалось тогда из нее. Только ровное холодное дыхание и стекло в глазах, будто у выброшенной куклы. В голове не было мыслей. Она взяла, и вышла.
В домашних тапочках и халате спустилась по лестнице, толкнула дверь. Прошла по тропинке до остановки, и села в первый подъехавший троллейбус. Когда кондуктор не получил ответ по поводу оплаты проезда, в салоне зазвучал зычный глас пролетариата, в лице того же самого кондуктора: «Бесстыжая! Ишь, какая выискалась, дармоедка! Все платят, а ты не будешь! Проваливай! Слазь, давай! Наглость какая, зайцем решила кататься!» После этих слов, к Глафире вернулось чувство, но пока только одно. Она поняла, что очень голодна, и непроизвольно чавкнула.
Бывают такие состояния, когда ты не понимаешь, чего от тебя хотят, и почему ты едешь в троллейбусе в халате… куда?.. а главное – зачем? Психиатры называют их аффектами, и дают им одни негативные характеристики. Однако, эти состояния являются порой самыми продуктивными, с точки зрения самопознания. Ты полностью отрезан от реальности, твой разум чист, и может дать себе свободу воли, которую отнимает общество, винтиком в котором приходится быть. Ты – гайка, вылетевшая из фюзеляжа Боинга на огромной высоте, и пока притяжение не сделало свое дело и не впилило тебя в грязную землю, у тебя есть время сделать пару кульбитов так, как тебе действительно хочется. Глафира находилась именно в этом состоянии. Но в тот самый миг, как прозвучал громкий *чавк*, голод немного поуспокоился, да и кондуктор прекратил кричать. Он просто взялся за голову, и, видимо от качки, немного покосился в ногах, и присел на ближайшее свободное место.
– Проша! – вскрикнула Глафира, и вылетела в открывшиеся двери троллейбуса.
Она бежала прямо через лужи, омываемая мерзким дождем и слякотными взглядами недоумевающих прохожих. К моменту ее появления в их квартире, она, уже насквозь мокрая и грязная, простучала себе все зубы, и стала отличным претендентом на получение кареты скорой помощи и пневмонии. Но это не было столь важно, как и отсутствие левого тапочка. Это был не сон, не сказка про Золушку, где все будет замечательно. Порфирий Иванович лежал на прежнем месте, обняв ящик с инструментами. Осознание потери пришло.
Все, чего ей хотелось, это поцеловать любимого в последний раз. Девушка шагнула вперед, наклонилась, с трудом перевернула мужа на спину, уложив его голову к себе на колено. И тут слезы забили из глаз с небывалой силой. Она кричала, била его по щекам, но не получала никакого отклика.
– Очнись же! Очнись, ублюдок старый! Очнись! Ну, как я без тебя!?
Она рыдала, уткнувшись в его шею, кричала ему в ухо, погрузившись с головой в запах гари и Шипра. Муж ее ушел. Ушел навсегда. Глафира только коснулась своими губами его губ, отправляя его в светлый путь, и тут же почувствовала, как что-то горькое рвется у нее из груди, прорывая пищевод, поднимается к горлу и вырывается наружу. В ту же секунду, Порфирий Иванович со звериным криком вскочил на ноги. В руке он держал молоток, которым он размахивал во все стороны. Складывалось впечатление, что он ничего перед собой не видит, и не понимает, что с ним происходит. Глафира молчала, а ее мычащий и рычащий супруг Проша продвигался от прихожей в сторону кухни. Секунд через двадцать она услышала удар молотком в стену, а затем звук глухого падения. Той ночью она не могла уснуть, но эти часы не прошли даром. Она поняла, что ей делать, и как не нарушить данное самой себе слово.
И вот, сорок пять лет спустя, она также накрывает на стол, но надевает уже парадное платье. Разливает по кружкам индийский чай «со слонами», как любит ее Проша. Проведя свой ежедневный ритуал в кладовой, она заметно постройнела, и будто выглядеть стала моложе лет на десять, хотя, что тебе семьдесят, что восемьдесят – отличить трудно. С годами она поняла, что время и качество возвращения в себя ее суженого, напрямую зависит от количества горькой жижи, а сегодня у нее был отличный «улов». В эру отстраненности и социальных сетей выводить людей из себя стало куда проще, и ненависть брызжет из людей куда мощней. Вот и Порфирий Иванович явился к ужину уже минут через десять. Сел на свое любимое место у холодильника, и налил чайку.
– Глаша, у нас чего, сахар закончился, ёж твою мать?! До которого часа продмаг?
– Есть сахар, милый, есть, – она пододвинула к нему сахарницу с рафинадом. В одно из прошлых пробуждений она разбил прошлую молотком. Эту пока не узнавал. – Ты кушай, давай. Остынет.
– Чем занималась сегодня? – спросил Порфирий, только что вернувшийся с папиросами из продмага в 66-ом.
– Да, какие у меня дела? Как обычно всё. Вот, оладушек сделала. Ты-то как?
– Продавщица мне опять глазки строила. Ну, помнишь, рыжая эта? А я ей, значит говорю: «Гражданочка, встретил бы я вас лет двадцать назад…» – тут он зашипел хриплым смехом, и толкнул жену локтем под бочок.
– Я тебе встречу! – при этих словах она вновь расцвела, посмеялась, не забыв шлепнуть его по лицу кухонным полотенцем. Эта шутка смешила ее каждый день, как в первый раз.
Они еще некоторое время похихикали под чай с оладушками, беседовали по душам обо всем на свете, несущественном, и в то же время безумно важном. Когда время подошло к часу ночи, в квартире раздался хлопок, будто на пол упал старый пыльный мешок. В кухонном кране зажурчала вода, и было слышно, как ставится в накопитель чистая посуда. Свет еще долго горел в том кухонном окне. Сколько это самое «долго» длилось – определить сложно, да и не нужно. Главное – он было, они были. Есть и будут. Пока стучат на стене часы «Чайка», и дождь моросит в Ленинграде, соседям снизу будет слышен звук падения посреди ночи. Не ругайтесь, дорогие соседи. Уж так заведено, и заведено не нами. Вам на работу к восьми, а им – хоть чаи почаевничать.
3.МУХИ
Веселая история про мальчиков и девочек, в лицах, флэшбеках, сюжетных дырах и прочем наполнителе.
Мария Сергеевна Скряжнова всю свою жизнь мыслилась окружающими крайне бережливым человеком, если ни сказать что жадным. Хотя, почему бы и ни назвать вещи своими именами? Полезная практика. С молодых ногтей ее воспитывали в строгости, и, по старым традициям ее далекого цыганского предка, эта строгость воплощалась в хлестких ударах совсем не фигурального кнута. Физически, находясь в городе, довольно сложно быть аутентичным цыганом с заборами и конями, потому-то и обходились шнуром от сломанного радио. За годы воспитательных работ, с младенчества по отрочество, спина ее превратилась в сплошные неравномерные борозды, будто вспаханное бомбами поле. А лопатки ее – крылья журавлей над всем этим ужасом.
Колорит. Страшный, средневековый, но ничего не попишешь, и целый народ не перевоспитаешь.
В свои семнадцать она упорхнула из родительского дома в ночь с одним миловидным, но весьма и весьма слабовольным актеришкой, Изей. Ожидаемый и очевидный шаг, на который жизнь толкает всех, а ее она просто швырнула за дверь родительского дома, минуя ступени крыльца. До встречи с Машенькой, Изя подавал большие надежды на своем театральном поприще, но новая суровая жена смогла-таки перекроить их совместную судьбу, убедив его найти более высокооплачиваемую работу. Она не мыслила себя тираном, или деспотом, просто жить хотелось по-людски. Чтоб на плечиках манто, а под крылышком детки-лапушки, накормленные, напоенные, бегают по лужайке, как бычки перед забоем.
Изичкины родители, к слову, прямо нарадоваться не могли: их сыночка приобщился-таки к их семейному делу, и забросил свои юношеские порывы на полку благочестия и честного счетоводства. Изя стал бухгалтером, и мамочка пристроила его считать к одному зажиточному, сейчас бы сказали «владельцу крупной торговой сети». Тот факт, что жена у него из гоев старательно скрывался от всех знакомых семьи, но лишь из благодарности за то, что сыночек теперь шел по пути истинному, и не убоялся зла, и обновленной системы налогообложения.
И, надо признать, Изя работал самоотверженно и честно, столбик к столбику, циферка к циферке, несколько лет к ряду. Но вот, Мария сообщила, что скоро разродится. Подобные новости в момент переворачивают моральные устои любого мужчины, не то что бухгалтера – там вообще, пиши пропало. Изя был морально готов к злодеяниям и махинациям, мало того, он чувствовал талант к этому делу, но не было, знаете ли, того самого оправдательного фактора, который ищет любая персона в момент потирания потных ладошек. А с появлением Семушки столбцы с пометкой «расходы» по всем торговым лавкам стали стремительно увеличиваться, пусть и незаметно взгляду обывателя. Возвращаясь домой, в свою серую комнату с подержанным бежевым комодом, он как можно скорее передавал свое «заработанное» женушке, которая только и умела в последние месяцы, как прятать всё по углам да по секретным баночкам. Ему ничего особо не надо было, кроме как подойти к резной люльке, да посмотреть на сына. А Сема улыбался ему слюнявым беззубым ротиком, да лопал пузырики из носика. А Изя качает люльку, да не нарадуется. Стоит имбецилен, лицо коровье-индийское, и думать не о чем. И вроде бы, идиллия. Сундучки по квартире, жена суетится, Семушка накормлен одет и обут. И да, квартирка не из лучших, и стены тонковаты. Еще соседи щенка завели осоловелого, что только и знает, как тявкать. Но, не стоит его винить. Он просто не понимает, что ему охранять в соседской квартире, состоящей из трех табуреток и двух алкоголиков.
Через пару лет жизни такой, успел только Сема произнести свое первое беззубое «дай», Мария Сергеевна снова утяжелилась. Тут же и столбик «доходы» в записях Изички стал уменьшаться. Уменьшаться стало и уважение в семейном кругу, в котором он теперь воспринимался только лишь, как добытчик условных мамонтов.
– Деньги-то где, остолоп проклятый?!
– Да вот тебе! Вот! – Изя, по уже приевшейся привычке стремился поскорее отдать Марии Сергеевне все, что ему удалось раздобыть, лишь бы она его не трогала, и побыстрее прокрасться к резной люльке в бежевом углу. Там его ждал Игорек, а Семушка ожидал внимания неподалеку.
Игорек, к слову, оказался куда капризнее своего предшественника, и зубы от этого вырастил раньше. А наш бухгалтер каждый день улыбался в люльку, гримасой все более походившей на усталого моржа, а потом шел возиться с Семушкой, объясняя что солдатики стреляют, а не бьются друг об дружку головами. Затем читал сыну сказку, и шел на кухню, где выслушивал от жены, какая же он а самом деле сволочь, и как мало он приносит в дом. Какие дети у него непослушные крысята, и вообще, дегенераты растут. Так случалось почти каждый вечер, и именно таким видом сношений ограничивалась половая жизнь относительно молодой пары. Но вот, как-то в солнечную июльскую пору, Мария Сергеевна пол дня наблюдала в окошко за соседским родственником, что прокачивал свою мускулатуру на дворовых турниках. Тем вечером супружеский долг имел место быть. Гормоны сделали свое дело, а изина плодовитость не заставила себя ждать. Так получилось. Еще раз. Теперь уж дочка. Сонечка.
На этот раз перед Изей встал серьезный вопрос, кто же он больше: хороший отец, или хороший иудей. По привычке были совершены некоторые подсчеты, прикинута вероятность существования высших сил. Итогом подсчетов стало то, что на восемьдесят три, и три четверти процента он все-таки отец. С того момента у славившегося своей стабильностью предприятия по продаже антиквариата внезапно открылось несколько финансовых черных дыр, да таких незаметных и тягучих, что через несколько лет предприятие обанкротилось, и его акции пришлось распродавать за бесценок. И никто его ни в чем не заподозрил. А почему?
А потому что Изя был, как образцовая белка в колесе. Весь день он подгребал под себя орешки, хотя делал вид, что самоотверженно бегает. Потом, под вечер уставший и изрядно поседевший за год, он тащил орешки своей бельчихе, которая и уже и буковый ларчик под них в дупло прикупила.
Изя ушел, когда Сонечке исполнилось шестнадцать. Мария Сергеевна, пусть и не подавала особого виду, не знала что ей теперь без кормильца делать. Но были и плюсы, ведь квартирку кое-где, да обставила. Детей – кое-как, да вырастила, причем крайне консервативно и традиционно, ведь шнур не лежал без дела. Все то время, что Изя бегал в своих бесчисленных колесах и махинациях, дети летали по квартире, в поисках тихого угла. К возвращению мужа они все были умыты, одеты и показательно накормлены. Спины их были всегда закрыты, а через ласковые материнские угрозы о смерти от утюга или крысиной отравы в еде, закрыты были и рты. К моменту отеческих похорон старшие сыновья были уже свободны, как ветер. Семушка улетел учиться на юриста в Москву, а Игорёк служил своей стране в дальних морских плаваньях. Ему предлагали послужить в сухопутных войсках, но он настаивал на море, ведь срочная служба там дольше. Лучше уж подальше, попрохладней, и ну его к черту это материнское гнездо и проклятый шнур. Сонечке доставалось теперь за всех, и до окончания школы она не утерпела.
В один из теплых апрельских вечеров она просто взяла свой ридикюльчик, и убежала в ночь с хамоватым молодым уркой, что гастролировал по ближнему Зауралью и обносил чужие квартиры. О ней не было слышно ровным счетом ничего порядка десяти лет, как раз до той истории, свидетелями которой вам придется побывать.
Миловидная девушка, некоторое количество лет за двадцать, сидит за стоиком уличного кафе. Её южный загар выдает, что она недавно приехала из длительного отпуска, а крой василькового платья говорит, что бывает она там довольно часто. И вроде бы «лухари, грация да шампанское по бокалам»…эм-м-м…а что она здесь делает?
Стоит быть внимательней в наши дни.
Если она на секунду приснимет свои очки, мы заметим глубокие морщины по краям глаз, которые бывают у девиц, путешествующих по местам не столь отдаленным, но весьма распространенным. Эти морщины щурят глаза, что так жаждут забыть эту зыбь северов и неровную строчку казенной швейной машинки. Платье? Да, конечно же из капсульной коллекции азиатского кутюрье со сложной фамилией, но скроено оно не по ее фигуре. Местами на нем виднеется мешковатость, а на подоле имеется еле заметное красное пятнышко. Детали, детали, детали… они просто насилуют наш мозг теми подробностями, которые обещают раскрыть, ведь все мы у мамы сыщики и талантливые психологи. Но то, что случилось с бывшей владелицей останется между ней, и этой миловидной барышней. А она, между делом, все еще сидит, периодически отпивая из идеально белой кружки свой миндальный латте, пытаясь припомнить, сколько же она не была в этом городе.
Десять. Десять лет, не меньше.
Как вы наверняка догадались, это Сонечка. Та самая, что повинуясь цыганским кровям сначала долго терпела, но по итогам-таки убежала с первым встречным-поперечным, что лаской поманил, да сказкой накормил. Сейчас она сидит в попытках выстроить мозаику своей жизни, да так, чтобы она выглядела посимпатичней, и по возможности с яркими кубиками счастливого детства. Но тщетно.
При первом же воспоминании о матери, грубые шрамы на ее спине принялись сначала зудиться, а затем неимоверно быстро нагрелись. Этот провод. Эта черная тонкая змея, жалящее и отравляющее жизнь нечто, перекраивающее Сонечкину личность из жизнерадостной девочки в забитую тупую куклу. Мешок для битья. В подобие человека, на котором можно сорвать материнскую злость и обиду. Соня была уверена, что провод еще на месте. Там. В верхнем ящике пахучего комода из дешевых крашеных желтой краской досок. А у комода, в двух шагах спальня с кроватью, где скрип и стук, а под ней буковый сундук, а в сундуке… Папа… бедный папа… натерпелся же ты от этой гарпии. Ты ведь не знал, папа? Конечно же, не знал. Ты бы не позволил. Так ей думалось. Она, в сущности, вытерпела куда больше. Вспомнилась тут же потерянная помада. Мария Сергеевна долгие годы обвиняла девочку за то, что та была девочкой, и то и дело подводила себе то губки, то глазки. Косметика в их доме стабильно исчезала и пряталась. Всё по канонам католических монастырей, века эдак шестнадцатого.