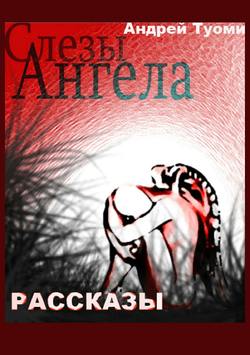Читать книгу Слезы ангела. Сборник рассказов - Андрей Вилхович Туоми - Страница 1
ОглавлениеМЕХАНИК
Рассказ
Тойво проснулся задолго до противного, бьющего по нервам звонка будильника часовой фабрики «ЗиМ», и привычным, натренированным движением сбросил одеяло на спинку старенькой металлической кровати. Еще в армии Тойво научился просыпаться до подъема, и потому шансов у будильника просто не оставалось. Однако матушка, уверенная в том, что сын, пришедший далеко за полночь с гулянки, не проснется к шести утра, с завидным постоянством заводила «будильник-убийцу» и ставила его на белоснежную салфетку макраме в центре тумбочки.
Тойво встал с кровати и быстрыми движениями армейской зарядки разогнал кровь. Впрочем, это было лишним: еще три часа назад он с компанией гулял по поселку, веселился и заигрывал с девчонками. Всего три месяца назад Тойво вернулся из армии, и жизнь на гражданке сулила массу положительных эмоций. Парень старался не упустить ни одного часа вольной гражданской жизни, воспринимаемой после долгих лет службы как подарок судьбы.
Тойво шумно умывался под рукомойником, отфыркиваясь и покряхтывая, когда в кухню вошла заспанная мать. Ни слова не говоря, она, сладко поеживаясь и позевывая, принялась за приготовление завтрака.
– Мама… Ну что ты… Скачешь? Спала… Бы… – наставлял мать Тойво в паузах между пригоршнями воды.
– Провожу тебя и лягу, – ответила мать на привычный ежеутренний вопрос сына.
Тойво работал в лесу механиком. Хваткий ум и страсть к технике сделали из парня мастера на все руки, а потому в леспромхоз Тойво взяли безо всяких разговоров механиком по ремонту бензопил. Автобус, отвозивший мужиков на работу в лес, проходил мимо дома механика в семь утра.
Быстро позавтракав, одевшись и, подхватив под мышку фуфайку, Тойво выбежал во двор, попрощавшись уже на лету. Морозный воздух с размаху заполнил грудь, заставил закашляться. «Однако, жарит», – подумал он. В это время в конце улицы, натружено жужжа шестеренками и подмигивая на выбоинах фарами, показался потрепанный леспромхозовский КАВЗик.
В салоне автобуса дым стоял коромыслом. Два десятка мужиков, казалось, разговаривают одновременно, от чего автобус напоминал потревоженный улей. В общем гуле отчетливо слышались только крепкие словечки, вставляемые мужиками во все места по поводу, без повода, а то и вовсе безо всякой надобности. Тойво материться не любил, но к своеобразному языку лесорубов давно привык и не обращал внимания на перемат, который мужики вставляли в разговор для связки слов. Он сел на свое обычное место на заднем сиденье автобуса, прикрыл глаза и прислушался к разговорам.
В центре КАВЗика мужики резались в козла, и оттуда ничего кроме хохота и крепких словечек не долетало, в конце же автобуса сидели мужики поспокойнее. Они обсуждали кто охоту, кто рыбалку, кто женщин. Обычный разговор по пути на работу.
До делянки было километров тридцать, но побитый, старый КАВЗик преодолевал их за час с хвостиком. Автобус пропах табаком, бензином и запахом свежеспиленного дерева. Тойво свыкся с этой атмосферой, привык к мерному гудению старого движка, к монотонному бормотанию мужиков. Было время немного подремать…
Что-то знакомое сквозь дремоту навевал шум работающего мотора. Ах, да, армия… И вот уже сон, вытянутый из глубин подсознания знакомым звуком, заполняет все, уводит туда, в прошлое, в совсем еще свежие воспоминания о службе.
Что это? Да эта же та самая Лысая гора под Кандалакшей. Грузовик натужено ревет, волоча в затяжной, трехкилометровый подъем себя и тридцать солдатиков, глотающих пыль под душным брезентовым тентом. У всех – новенькие АК-47 с полным боекомплектом. Едут они отнюдь не воробьев стрелять по предгорьям Хибин, а заступать в караул по охране спецзоны, контингент которой состоит сплошь из бывших власовцев.
Тойво отчетливо чувствует какую-то тревогу, он знает, что должно произойти дальше, но никак не может вспомнить…
Старенький грузовик, который тысячу раз до этого вскарабкивался на Лысую гору на сей раз подвел. Точнее, подвел молодой водила, который совсем недавно пришел из учебки, и не знал пока всех тонкостей организма вверенной ему колымаги. Дернул его черт переключать передачу почти на самой вершине горы. Лендлизовский «Студебеккер», который, очевидно, принимал участие в штурме Берлина, жалобно заскреб коробкой передач и замер; несколько секунд машина подчинялась нажатой педали тормоза, а потом скрипнула, сорвалась с места и, набирая скорость, покатилась вниз по накатанному склону…
Тут Тойво вспомнил, чем кончилось то роковое падение и, дернувшись как ошпаренный, проснулся. Автобус по-прежнему крался по извилистой дороге, выхватывая светом фар из тяжелого морозного сумрака высокие снежные обочины. Перевел дух. Опять это видение. Даже две раны на затылке, оставшиеся от входа и выхода армейского штык-ножа явственно заныли. Да, здорово им тогда досталось… Восьмерых солдатиков раздавило насмерть, еще семеро калеками на всю жизнь остались, остальных порвало да порезало – штыки-то примкнуты к автоматам были. С тех пор его голову украшают два шрама от собственного автомата полученные.
Старлей, что ехал начкаром в кабине с водителем, вместе с ним и погиб. Еле достали бедолаг из груды покореженного металла. После этого случая по частям прокатилась волна проверок. Штабные офицеры с большими звездами строили личный состав по всякому поводу и без него, зачем-то устраивали строевые смотры, маршброски и ночные стрельбы. Все закончилось тем, что командир части перед строем зачитал приказ, согласно которому ехать в караул разрешалось с примкнутыми штыками, но с одетыми на них ножнами. Боевой готовностью жертвовать не стали, так как в последнее время случаи побегов из власовской зоны участились. Правда и начальнику караула дали право выгружать личный состав у подножия Лысой горы, если дорожные условия на его взгляд покажутся сложными.
Калек отправили на досрочный дембель, вернулись из госпиталей легкораненые, попрощались с воинскими почестями с погибшими, и пошла служба дальше. А что делать, такая она – солдатская доля, не знаешь, когда покалечит, а когда и вовсе душу приберет. Но у Тойво, слава богу, все закончилось нормально…
Автобус наконец-то добрался до делянки. Мужики загалдели и потянулись к выходу. Столовая на мастерском участке уже заманчиво светила окнами, от водогреек валил дым и пар, где-то в сторонке мерно постукивал старенький финский генератор с гордым именем «Sisu», поставленный после войны по репарациям побежденной страной. Отдельной стайкой, чуть поодаль, стояли девчонки-сучкорубы. После теплых широт родной Белоруссии, откуда они приехали на заработки в Карелию, привыкнуть к здешним морозам было непросто. И хотя одеты они были во все ватное, мороз покусывал их за ноги и щеки, заставлял в ожидании начала рабочей смены поплясать и от души похлопать варежками.
Механик отвечал не только за исправность пил и заточку цепей, но и за топоры для сучкорубов. Хороший топор – это как продолжение руки. Если топорище правильно выстругано, хорошо подогнано к лезвию, а сам топор наточен соответствующим образом, с ним работать – одно удовольствие. Или напротив, плохой топор – только помеха в работе: и сам намаешься, и работы толком не сделаешь.
Тойво открыл свою мастерскую, включил наждак и, придирчиво осматривая каждый топор, стал их править. Работа у него спорилась, а потому через десять минут он уже раздавал топоры девчонкам.
– Лена, это твой топор. Аня, свой возьми. Надюша, ну что ты опять не свой топор берешь, это Сашин, а твой – вот же он.
Надюша из всех девчонок нравилась Тойво больше всех. Некрикливая, скромная и красавица – глаз не отвести. Даже через ватные брюки, фуфайку и валенки на три размера больше, угадывалась ладная, стройная фигура и крепкая, высокая грудь.
Всем девушкам было по семнадцать-девятнадцать лет, на север они приехали не за длинным рублем, но за лучшей долей, от колхозных нищих трудодней и убогой деревенской жизни убежали. Что касается Надюши, то она казалась среди подруг явным недоразумением: с такой внешностью не суки рубить в тайге надо, а со сцены выступать. Она казалась хрупкой и очень женственной, даже топор брала в руки как-то странно: того и гляди, выронит инструмент. Тойво откровенно было жаль девчонок, пропадающих в лесу на тяжелой работе, которая далеко не каждому мужику по плечу, но что он мог поделать?
Самой заводной в этой компании была пышнотелая, краснощекая толстушка Аня, у которой рот не закрывался ни на минуту. Отчаянно мешая белорусскую и русскую речь, в которой все чаще мелькали и крепкие карельские словечки, она успевала почесать своим языком, как выражался Тойво, все деревья на делянке. Ни мороз, ни вьюга не влияли на ее болтливость. Особенно от колких шуток доставалось Тойво, так как он был самым молодым и видным парнем в бригаде.
– Тойвушка, а откуль ты знаешь, какой топор чей? Ты чаво, их подписываешь, что ли? Или у тебя на каждую бабенку заточка особая?
– Особая, особая, – отвечал Тойво под дружный девичий хохот.
– А чаво в ней особого, мяханик? Ты привораживаешь их, что ли? Ты уж подскажи, а то я, грешным делом, Надюшкин топорик уведу, так ведь потом будешь за мной бегать! А я ведь дивчина озорная – захомутаю, и никаких тебе перкеле-саатана!
– Не бойся, Анютка, все топоры одинаковые, кроме твоего.
– А что же в моем особого?
– Там лезвие пошире, чтобы ты покрепче к нему своим языком на морозе прилипла, может хоть потом помолчишь какое-то время.
– Ой, зря ты, Тойвушка, надеешься! Я ведь с топорами не целуюсь! Сильно захочу, так пойду вон Ваську-тракториста зацелую. Хотя, нет, от него вечно соляркой пахнет. К тебе, милок, приду, если очень заскучаю…
Девушки уже шли на свое рабочее место – к видневшемуся поодаль штабелю вытрелеванной древесины, а Анька все не унималась. Иногда Тойво раздражали ее постоянные шутки, особенно, если они касались Надюшки и его: в бригаде давно стали подмечать, что эта парочка начинает обращать друг на друга все больше внимания. Впрочем, Тойво понимал, что Анины шутки безобидны, а на самом деле она добродушная и веселая девчонка.
Работа кипела. Мороз никак не хотел отпускать, а это значило, что работы у пилостава будет сегодня предостаточно. Цепи и топоры, вгрызаясь в мерзлую древесину, тупятся моментально, и потому, не мешкая, Тойво заготовил впрок свежезаточенный инструмент и сел за резку топорищ. Этим ремеслом он овладел еще в детстве. Топорища у него получались ладные, по-настоящему удобные и практичные. Так карелы делали топорища испокон веков, и Тойво в совершенстве овладел навыками работы с неподатливой, капризной и жесткой березовой древесиной. Он мог выточить топорище, как для колки дров, так и для плотницких работ, а мог сделать произведение искусства, пригодное только для шитья лодок и серьезного, тонкого столярного дела. Таким топором можно было и хлеб нарезать, и побриться.
Ближе к полудню, когда совсем рассвело и дымчатое солнце окрасило лес в обманчивые желто-розовые оттенки, напрасно сулящие уют и тепло, бригада потянулась на обед. Обедали дружно и весело. В хорошо натопленной столовой, пропитанной запахом добротных щей, котлет, блинов и компота, суетилась и хозяйничала повариха Лена – тоже из приезжих белорусок. Женщина невероятной скорости, она успевала не просто все приготовить вкусно и вовремя, но и уделить внимание каждому. Она знала назубок пищевые пристрастия всей бригады и никогда их не путала, при этом она знала и то, кто из мужиков какую порцию в состоянии осилить. А потому из столовой бригада не выходила, а выкатывалась, пыхтя и отдуваясь от удовольствия. Нечего было и думать после такого сытного обеда идти на работу, и мужики еще минут сорок перекуривали и лениво перекидывались фразами о том, о сем.
Подъехал автобус и круглый, как новогодний елочный шар, водитель Петро радостно засеменил в столовку. В нудном распорядке дня водителя не было места для более радостных событий, чем обед. Привез рабочих на делянку, покопался в своем тарантасе, и спи себе до обеда. А вся работа после обеда – привезти бригаду домой. От такого размеренного образа жизни Петро разленился настолько, что даже закинуть летом удочку в ламбушку, кишащую рыбой, не было ни сил, ни мочи, ни особого желания. Хотя поесть Петро был далеко не дурак.
Девушки вышли из столовой последними. Они не курили, использовали обеденный перерыв по прямому назначению, а оставшееся время – для обычных женских разговоров. Тойво к тому времени очистил их топоры от наледи, подсушил в жарко натопленной мастерской и подправил на наждаке. Аньке после обеда шутить особо не хотелось, она только улыбнулась Тойво, взяла инструмент и пошла к штабелю. Передавая топор Надюшке, Тойво заглянул в глаза девушке и тихо проговорил: «Осторожно, острый». Ему показалось, что он произнес это слишком громко и, опасаясь, очередного Аниного наскока, шмыгнул в мастерскую. В мутное оконце он видел удаляющихся девушек и заметил, как Надя оглянулась и чуть заметно махнула ему рукой.
Воодушевленный маленькими успехами на любовной ниве, Тойво засуетился по обычным делам. В это время снаружи донесся душераздирающий крик. По голосу Тойво сразу определил, что кричит Аня. Он пулей вылетел из мастерской и рванул в сторону штабеля. Навстречу ему неслась перепуганная до смерти Аня, кричавшая нечеловеческим голосом:
– Там! Помогите! Там Надя на топор упала! Поскользнулась! Упала! Прямо на топор! Помогите!
Тойво припустил к штабелю, где девчонки окружили лежащую на бревнах Надюшку. Лицо девушки выражало испуг и недоумение, дескать, что такое, что со мной случилось, почему мне так больно? Она пыталась то ли сесть, то ли встать, из правого бедра хлестала кровь. Лезвие топора, отброшенного уже после падения, тут же превратило капли Надиной крови в покрывающиеся матово-красной поволокой сосульки. Кровь была повсюду – на скользких, промерзших насквозь бревнах, на снегу, на одежде девушки.
Эти мгновения отпечатались в памяти Тойво как стоп-кадр. Нельзя было терять ни секунды. Он подхватил девушку на руки и со всех ног бросился обратно к мастерской, с ходу влетел на две ступеньки и вышиб дверь ударом сапога.
Мозг работал четко и лихорадочно, как и тогда, на Лысой горе, где пришлось останавливать кровь после штыковых ранений. Рванув с пояса ремень, накинул петлю Наде на ногу и, что было силы, затянул. Кровь перестала бить пульсирующей струйкой. Это уже хорошо. Теперь аптечка. Где эта чертова аптечка? Огляделся по сторонам и только тут заметил, что в мастерскую набились все, кому не лень, даже Петро прервал свой обед и теперь топтался у входа. Только сейчас до Тойво дошло, что они галдят все разом – причитают, что-то кричат и советуют, кого-то зовут на помощь. И даже дверь не потрудились закрыть!
– Назад! Все вон отсюда! Я сказал – все отсюда вон! – Тойво рявкнул таким нечеловеческим голосом, что люди посыпались с мастерской, как горох. Дверь захлопнулась, оградив их с Надей от галдежа, криков, паники и суеты.
Аптечка оказалась под рукой – на полке над нарами. Держа одной рукой затянутый ремень, второй Тойво вытряхнул содержимое на стол. Вата, бинт, жгут, йод. Все что надо в таких случаях.
Надюша тихо стонала, шок смешался с явственным ощущением серьезности ситуации, с близостью смерти, с собственной беспомощностью перед хлещущей кровью.
– Надюша, все будет хорошо, успокойся. Мы тебя вытащим, все будет хорошо, но сейчас мне надо перевязать рану.
Тойво вытащил нож и стал аккуратно разрезать ватные штаны.
– Ой, не дам штаны снимать! Ой, не дам! – запричитала Надя, хватаясь за его руки.
– Глупенькая, ты жить хочешь? Тогда придется снимать, я не могу перевязать на ватнике! Успокойся, миленькая, ничего плохого я тебе не сделаю. Мы только остановим кровь и перевяжем рану…
С этими словами Тойво быстро распорол штанину ватников, затем теплых нижних кальсон и добрался-таки до Надюшкиной ноги. Рана проходила по задней части бедра, как раз под ягодицей. Хорошо, что топор не вошел в ногу всем лезвием, а только углом и топорище не дало ему углубиться полностью. Тойво ловко перевернул девушку на живот. Надя уже не причитала и не сопротивлялась, только тихо постанывала и, будто что-то безуспешно ища, шарила окровавленной рукой по стене в поисках дополнительной опоры.
Несмотря на туго перетянутый выше раны ремень, кровь сочилась довольно бойко. Кровотечение венозное – определил наметанным глазом Тойво и обработал кожу вокруг раны йодом. Теперь перевязка.
– Будет немного больно, надо туго перевязать рану, – обратился он к Наде.
Девушка кивнула. Тойво перевязывал рану четкими, уверенными и сильными движениями. Как и тогда – на Лысой горе. Именно тогда он научился не бояться крови, действовать быстро и уверенно, не теряя такие важные и драгоценные секунды.
Кровь сочилась и через толстый слой бинтов. Тойво наложил дополнительный жгут, убедился, что теперь пульсация прекратилась. Самое страшное было позади. Теперь оставалось самое трудное – доставить Надю в больницу.
– Заводи свою хренову колымагу, – закричал он Петро, выскочив из мастерской. Дважды повторять не пришлось.
Механик сам повез Надю в больницу. Девушку уложили на груду фуфаек, Тойво взял ее голову к себе на колени и бережно накрыл раненую ногу, оставшуюся теперь без штанины:
– Смотри на меня и не смей закрывать глаза, слышишь?
Надя кивнула и едва улыбнулась слабеющими, ставшими бледными губами.
– Ну, Петро, теперь гони, что есть мочи. Гони, родимый, будто в последний раз едешь!
Петро, вопреки своей лени, был водителем классным. Он выжимал из старого КАВЗика все, на что тот был способен. И даже то, на что не был способен лет, эдак, пяток. Автобус скрипел всеми своими лонжеронами, жалобно стонал рессорами и трещал сразу всем кузовом, но несся, между тем, по снежной дороге, как заправский экспресс. Изредка автобус заносило на поворотах извилистой дороги, но Петро забыл обо всех педалях, кроме газа. Сосредоточенно, как летчик-истребитель, ведущий свой самолет в последний бой, он гнал машину, стиснув зубы и забросив страх в глубины сознания. Даже у Тойво пару раз мелькнула шальная мысль, что Петро не выдержит этой гонки и завалится в кювет, и тогда уже никто и ничто не спасет Надюшку.
Надя смотрела на Тойво почти не отрываясь. Ее взгляд прояснился, она поняла, что находится в крепких, надежных мужских руках, которые не отдадут ее в лапы смерти, не отпустят, не оставят на произвол судьбы.
– Смотри на меня, Надюша, не закрывай глаза. Осталось чуть-чуть. Терпи, милая моя девочка, – повторял Тойво как молитву.
За всю свою недолгую еще жизнь он не говорил столько теплых и ласковых слов…
***
– Ну, что, красавица, как твое самочувствие? – бородатый дядька в белом халате склонился над Надиным лицом и внимательно, изучающее посмотрел ей в глаза.
– Хорошо, доктор… А скоро меня выпишут?
– Э-э-э, Надя, погоди с выпиской, только-только с того света вернулась, а туда же – на выписку. Подлечимся, сил наберемся, кровушки-то ты много потеряла, надо восстановиться.
Врач что-то записал в своем блокноте, пошептался с медсестрой и снова обратился к Наде:
– Скажи, красавица, а кто тебя так ловко перевязал и так умело тебе кровь остановил? Откуда у вас там, в лесу, такие специалисты?
– Это механик наш, Тойво…
– Мда-а… Старый, видать, механик, опытный, раз так умеет перевязывать? – усмехнулся доктор одними усами.
– Да не-е, молодой совсем, – Надя почувствовала, что краснеет.
– Уж не тот ли, что третий день пороги тут у нас обивает? Погоди-ка, да он и сейчас тут. Все просит тебя, Надюша, повидать… Да мы не пускаем, режим ведь…
Сердце девушки отчаянно забилось. Он! Тойво! Пришел!
– Доктор, пустите его, пожалуйста…
– Пустим, милая, пустим! Надя, Наденька, Надежда… А ты знаешь, как имя твоего механика с карельского переводится?
– Нет…
– Надежда. Так что вы, получается, тезки. Видишь, как на свете бывает. Бывает надежда женская, а бывает мужская. Крепкая мужская надежда, которая тебя из беды и вытащила.
Доктор почесал ручкой кончик носа, пробормотал себе под нос «мда» и направился к выходу, затем оглянулся и добавил:
– Вообще говорят, что надежда умирает последней. А тебя сразу две надежды оберегали. Счастливчики!
***
Свадьбу Тойво и Нади играли через полгода. Бригада, которую общая беда сдружила и сплотила, пела и плясала четыре дня подряд. Ради такого случая руководство леспромхоза дало всем отгулы. Больше всех радовался счастью молодых Петро. Он все повторял без конца мужикам: «И до того ездил, и после того, но так, как тогда – никогда не ездил!». Долго еще в поселке судачили о трагической и романтической истории Нади и Тойво, о счастливом финале со свадьбой. Поговаривали даже, что на той свадьбе еще две пары нашли друг друга, да мало ли что люди наболтать могут. Поселок-то невелик, все друг друга знают, а такие красивые истории раз в сто лет случаются.
ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
Быль
Давно это было. Еще в приснопамятные «ельцинские» времена, которые нынче принято называть «лихими девяностыми». Жили в одном северном карельском поселке два закадычных друга-пенсионера. Один финн по национальности, другой – карел. Один, который карел, ушел на пенсию прямиком из райкома партии, а потому (по своему социальному статусу) имел на тот счастливый момент автомобиль «Нива» – вечную и непоколебимую гордость отечественного автопрома. Финн был поскромнее, его материальное благополучие ограничивалось, на момент развала великой империи СССР, всего-навсего моторной лодкой «Днепр» и мотором «Вихрь-30».
Подружились они давно, еще до войны, когда были сопливыми пацанами, и учились в одном классе. Вместе удирали с уроков, тискали и тягали за косы по темным школьным углам девчонок и воровали у отцов папиросы. То за одно, то за другое периодически вместе и отгребали.
Карел хорошо знал финский, а финн – карельский, говорили они на сборном диалекте, состоящем из обоих языков. А матерились всегда по-русски, так как с самых детских времен это считалось особым шиком.
Вместе они голодали в эвакуации, когда началась война, вместе вернулись в родные края, где и прожили всю оставшуюся жизнь. Оба были заядлыми рыбаками, охотниками и любителями бани. Оба не дураки были выпить, хотя ни один из них никогда не слыл в поселке алкашом.
Общее пристрастие к рыбалке их особенно объединяло. То на «Ниве» на дальние ламбушки поедут, то на лодке на большие озера. В общем, все бы ничего – хорошо мужики дружили, – если бы не одно «но». А это самое «но» возникало всякий раз, когда они открывали на рыбалке взятую с собой бутылочку.
И вот тут они – оба вроде бы и немногословные, вдумчивые, не болтливые, – в один миг превращались не просто в говорунов, каких мало, но в заядлых спорщиков.
Спорили они решительно обо всем: не так рыбу чистишь, не так гребешь на веслах, не так сеть ставишь, не так картошку чистишь и котелок на костер вешаешь. Но то были только мелкие, текущие перебранки, так сказать, репетиция перед главным спором, который всякий раз вечером возникал в избе, когда сети уже были в озере, грести никуда не надо было, а под бутылек «Столичной» на столе в мисках парила наваристая уха.
Карел ярко и бурно ругал и хаял нынешние, бандитские ельцинские времена, всхлипывал по канувшему в лето СССР и, то и дело треская по столу кулаком так, что позвякивали кружки, поминал добрым словом товарища Сталина:
– Эх, ёппой матти, мало он вас перестрелял, мало в Сибири гноил – опять вы изо всех щелей повылазили! Контра недобитая! Такую страну профукали!
Финн, на долю которого выпало не только голодное военное детство, но и расстрелянный ни за что отец (кстати, из числа красных финских командиров), напротив, на чем свет стоит клял «усатого монгола» и созданную им империю, замешанную на голоде и крови.
– Это вас надо было в 20-х годах белогвардейцам рубить, шинковать и вешать побольше, чтобы духу от вас красного не осталось, – горячо возражал финн на выпады друга.
Спорили до хрипоты. Приводили сотни раз приведенных уже раньше, на других рыбалках и других избах, аргументов и доказательств своей правоты, иной раз не только по столу кулаком хватали, но и кружками друг в друга кидались. А как-то раз в кровь разодрались, своротили в избе стол и выбили окно.
Итог всех споров всегда оказывался одинаковым: оба приходили в полный тупик. Карела финн загонял в угол тем, что при Ельцине, в отличие от Брежнева и всех, кто был до него, жратва в магазинах появилась. А финна наповал сражал аргумент карела о том, что если бы беляки всех красных покоцали, то отец мол и вовсе бы не родил его, финна, на свет божий.
При этом в бога не верили ни один, ни другой.
Утром же, как ни в чем ни бывало они снимали сети, чистили рыбу, занимались мелкими рыбацкими делами и ни словом, ни полусловом не поминали вечер накануне. Как будто бы и не орали благим матом на весь залив, не тюкали по столу кулаками и не посылали друг другу на голову самые отборные проклятья.
Был я как-то раз с ними на рыбалке. И вот во время очередного разгоревшегося спора имел неосторожность в него вступить. Сначала, на радость финну, я проехался по советской эпохе, а уже потом – по ельцинским временам, которые по своему жлобству, воровству, бандитизму и казнокрадству уравнялись с СССР в наплевательстве на собственный народ.
Надо сказать, что к тому времени я уже побывал в Финляндии и то, что было там и тут, я мог вполне себе сравнить и сопоставить.
– А что, по-твоему все-таки лучше – при Сталине и Брежневе или при Горбачеве с Ельциным? – вопрошали меня карел с финном.
– А разве нами не те же бывшие члены бывших обкомов руководят? Разве не они нас с таким же усердием звали на комсомольские стройки, с каким усердием теперь призывают распрощаться со старой эпохой и торговать всем, что не приколочено? Как тогда врали, так и сейчас врут.
Для обоих это было страшным ударом. И тут, к моему искреннему удивлению, оба они дружно объединились против меня. В их миропонимании я стал самым опаснейшим из существ, – страшнее, чем они друг для друга.
– Вот она – наша молодежь! Все Западу продались! Дослушались этих хреновых роков, наплясались брейков, наездились по Финляндиям – Родину готовы продать за жвачки и джинсы!
– Так какую Родину-то продавать, – отвечал я им: – Твою, карел, со Сталиным и Брежневым, или твою, финн, с Горбачевым и Ельцыным? Судя по тому, как вы тут друг другу чубы рвете – Родины-то у вас разные!
– А у тебя какая Родина, сынок? – спросил кто-то из них.
– За окошко выгляни – вот тут моя Родина и начинается. Прямо за порогом избы этой. Ни Сталин, ни Брежнев, ни Ельцин мне эту Родину не дарили, не продавали и в аренду не давали. И ни вы, ни я им ничем не обязаны. И вы, и я тут родились, живем и умрем тут. Разве это не так? И разве этому озеру, этому лесу и этим камням не все равно, каким вы над ними флагом машете – красным или полосатым? По-моему ей пофигу: она любого в землю свою примет – и красного и белого, и синего, и зеленого.
Мужики осеклись. То ли аргументы закончились, то ли внезапно возникшее третье мнение слишком глобально расширяло тему спора, но в тот вечер разговор на этом и закончился…
Наутро все было как обычно. Снимали сети, чистили и делили рыбу, молча собирали скарб. О вечернем разговоре никто ни словом, ни полусловом не обмолвился. Домой тоже ехали спокойно и в полной тишине.
Но что интересно – с тех пор на рыбалку втроем меня уже не звали. Нет, с каждым по отдельности выезжал и не раз, но вот втроем так больше и не довелось. Сначала мне думалось что это случайно так выходит – то один занят, то другой, а со временем понял, что просто им так уютнее. Им так легче и проще – находится внутри своего варева и в каждый раз разбирать по косточкам одно и то же. Одни и те же времена, одни и те же события…
Финн умер первым. Карел без друга затосковал и тоже не протянул и года. На похоронах финна он горько, почти навзрыд плакал и никак не хотел мириться с тем, что друг ушел раньше его.
– Сколько всего натерпеться в жизни ему пришлось, когда отца расстреляли. И со школы его гнали, и в ФЗО брать не хотели, и на работу никак устроиться не мог – мыкался с семьей по всей Карелии, случайные заработки искал. А пенсию назначили – с гулькин шиш. Всю жизнь деньги копил, на книжку складывал, а они при новой власти синим пламенем сгорели. А он все Ельцина защищал, – сетовал сквозь всхлипывания на поминках карел.
Когда хоронили карела, кто-то из его старых знакомых рассказал о том, что хоть он и был вроде как «шишкой», но сладкой его жизнь уж никак не назвать было. Как оказалось, дед его был участником вооруженного восстания карелов и сбежал в Финляндию. Из-за него карелу, хоть он и вырос по партийной линии, все время палки в колеса ставили. А уж сколько выговоров из-за друга-финна получил – вообще не счесть. Из-за него и на пенсию досрочно из райкома партии его выпинали. Как неблагонадежного. А при нынешней-то власти он вроде как безвинно пострадавшим получился и даже пенсион ему на этом основании подняли.
Когда бываю на кладбище, заглядываю иногда на могилки одного и другого. Даже надгробия их дети им одинаковые поставили – квадратные, под черный мрамор. Один год рождения – один год смерти. Две фамилии, каких и у карелов, и у финнов – пруд пруди. Кто из них сталинист, кто ельцинист – не сразу и я через десять лет вспомню. Да и Родине их все равно, какими флагами они махали над ее лесами и озерами, – она им места в себе отвела и поровну, и по-справедливости. Как родила, так и в себя приняла – таких разных и таких одинаковых.
ГОРЬКИЙ ХЛЕБ
Рассказ
– БА-А-АТ-Т-ТАРЕЯ, на ме-е-есте!
Сержант Война с грозным видом прошел вдоль строя, вслушиваясь в добрый стук кирзовых сапог, месивших на асфальте водянистую снежную кашу.
– Я не слышу батареи, вы что, сынки, оборзели?
Бойцы второго месяца службы ещё отчаяннее заколотили сапогами, но и это не спасло их от ярости старшины батареи.
– Стой! Раз-два.
В наступившей тишине только и слышно было, как порывистый осенний ветер треплет оторвавшийся щит огромного плаката, на котором красовался розовощекий, мужественный солдат на фоне паутины локаторов, зенитных ракет и взлетающих истребителей. Лицо солдата излучало огромную гордость, а для пущей убедительности, по всему плакату проходила подпись: "Воин, гордись службой в войсках ПВО!".
Сержант Война стоял, слегка покачиваясь с пятки на носок – верный признак, что он недоволен вверенной ему батареей.
– Вспышка сзаду! – вдруг рявкнул он. Солдаты посыпались на асфальт. Двум последним шеренгам пришлось падать прямо в лужу.
Старшина проверил, все ли выполнили команду из норматива по ЗОМП1, примял к земле каблуком парочку халтуривших бойцов и не спеша заговорил.
– Что, душманы, жрать не хотите? Ну, тогда будем лежать. А потом пойдем на плац, нагонять аппетит. Вы этого хотите? – задал Война свой коронный вопрос. Он любил наслаждаться гробовой тишиной, покорностью этой униженной солдатской массы, зная, что каждый из двухсот бойцов, лежащих на асфальте, молит только об одном – чтобы старшина сменил гнев на милость.
– Ладно, попробуем ещё раз, – размяк сержант. – Отбой!
Через минуту батарея вновь месила кирзачами грязную ноябрьскую кашу, зарабатывая ногами гарантированный Родиной солдатский ужин.
Вообще-то, от казармы до столовой было метров сто, отсилы, однако все походы в нее по поводу завтрака, обеда и ужина затягивались на добрые двадцать минут. Впрочем, все зависело от настроения ведущего батарею. Обычно путь к столовой лежал через спорт-городок, баню, санчасть и клуб, но иногда батарея "по пути" заходила и на строевой плац, нагонять аппетит. Редкая ходка обходилась без принятия "упора лежа".
Старшина Война, весь день проваландавшийся в каптерке, не имел возможности покомандовать своими подопечными, растащенными по караулам, нарядам и учебным занятиям. К концу дня его прямо распирало от желания поруководить неотесанным и угловатым стадом, по иронии судьбы именовавшимся батареей. Теперь, во время шествия в столовую, старшина мог с лихвой реализовать свое "младшекомандирское" звание. Почувствовав, что батарея "прислушалась" к его командам, Война успокоился (много ли надо человеку для счастья?) и благополучно довел подразделение до столовой.
– Слева по одному, в столовую, бегом… отставить, бегом… отставить, – старшина внимательно следил, чтобы все одновременно прижимали по команде согнутые в локтях руки к бокам. – Бегом – марш!
Батарея заплясала на месте. Последняя шеренга успевала натоптать так метров триста, прежде чем приходила ее очередь нырнуть в жерло солдатской столовой, вечно гудящей, гремящей металлической посудой, пахнущей хлебом и хлоркой.
После процедуры снятия головных уборов и выявления раздатчиков пищи батарея приступила, нет, не приступила – накинулась на ужин. Не отвыкшие еще от цивильной, сытной гражданской пиши желудки курсантов "учебки" с жадностью принимали и перемалывали все, что отводилось им солдатским рационом: и "сечку", и "картечь", и "дробь шестнадцать"2. И все равно калорий не хватало. Сказывались и напряженные занятия от подъема до отбоя, и скудное солдатское меню, и просто чувство стаи, где прохлопать свой кусок – дело плевое.
На ужин отводилось десять минут, поэтому бойцы кашу проглотили куском и, закинув на нее сверху ежевечерний сантиметр селедки (говорят, что до дембеля ее нужно съесть больше семи метров), принялись за самое приятное – чай с белым хлебом, хлеб – он и в армии хлеб, а тем более белый. Его нельзя, например, испоганить, как кашу или суп, он – готовый продукт, испеченный к тому же на гражданской пекарне. Поэтому даже с чаем, в который для цвета плеснули обеденный компот, а для подавления мужского достоинства добавили бром, он был необычайно вкусен.
Чаепитие длилось недолго. По команде батарея встала, водрузила на место головные уборы и поскакала в обратном порядке на улицу. Путь курсантов лежал всего в двух метрах от окошка "хлеборезки" – места, почитаемого в армии не менее чем каптерка. Тут же стоял с нарезанным хлебом, приготовленным для сержантов "учебки", которые могли в любое время его оттуда взять, что категорически запрещалось бойцам первого года службы. Однако наиболее ловкие солдатики, уже усвоившие жесткие правила игры в Советской Армии, на свой страх и риск умудрялись стянуть ломоть-другой хлеба. И сегодня все прошло бы как обычно, если бы инструктор, младший сержант Левадный, не поймал за этим делом доходягу Мацько из первого взвода, который ухватил слишком много и не успел рассовать все по карманам.
"Качок" Левадный, как котенка, выхватил Мацько из колонны бегущих и прижал его к стене.
– Что, душара3, не хватает? Не хватает? – повторял он, постукивая курсанта кулаком в грудь – по второй пуговице, которая больно втыкалась в грудную кость. – А ну, положи на место, – он слегка толкнул Мацько, и тот, пролетев метр, шмякнулся на пятую точку прямо у стола.
– Оборзели, сынки, оборзели, – Левадный не спеша, вразвалочку, направился к выходу, сминая строй и наводя беспорядок в колонне бегущих.
На улице он подошел к старшине и громко, чтоб слышали остальные сержанты – замкомвзвода и инструкторы (некоторые из них, чего греха таить, сквозь пальцы смотрели на то, как молодые таскают хлеб), повторил свое замечание по поводу борзости духов.
Война как будто этого и ждал. Его щеки вмиг покраснели, а лычки на погонах – под напором командирского начала – стали канареечно-желтыми. Угрожающе желтыми. Выждав, пока батарея выстроится, откашляется и проплюется, Война всех "заровнял и засмирнил", а затем приступил к экзекуции.
– Та-а-ак! – мрачно протянул он. – Значит, кого-то у нас нехватка долбит, та-а-ак. Значит, у нас солдатам Устав – побоку. Так? – Война замер, давая возможность самым трусливым освободиться от хлеба. – Ну-ну, посмотрим, кто у нас самый голодный!
Старшина разомкнул строй и стал прохаживаться между солдатами, внимательно смотря под ноги.
Война дослуживал свой срок и знал до тонкостей все хитрости курсантов, через его руки прошло уже две "учебки", и потому он наверняка знал, что в строю найдутся те, кто поспешит кинуть хлеб на землю из страха быть наказанным. Вскоре старшина вытащил из строя по очереди троих: литовца Янкявичуса, узбека Хайтметова и мурманчанина Лазарева. Поставив их лицом к батарее. Война начал гневно позорить виновных в надругательстве над святым продуктом. Была ли его речь заученной армейской заготовкой или искренним порывом души (до армии старшина работал комбайнером), осталось загадкой, но слова Войны звучали убедительно и ничего хорошего ни для отступников, ни для подразделения в целом не предвещали.
В разгар воспитательного мероприятия на арене появился майор Фаустов – командир батареи, личность незаурядная, подстать своей фамилии, и, разобравшись в чем сыр-бор, изготовился к пламенной речи. Выступать комбат любил. То ли это было частью его натуры, то ли сказалось воспитание военно-политического училища, которое Фаустов когда-то окончил. Говорил он горячо и злобно, прохаживаясь вдоль строя и заглядывая в глаза солдат. Время от времени он потряхивал головой, сдвигая на брови фуражку, которая в процессе речи почему-то соскальзывала на затылок.
– Хлеб – на землю, вашу мать, в лужу! Да вас хоть чему-то на гражданке учили? Люди пухнут с голоду, умирают сотнями тысяч, а они хлебом кидаются! Сволочи! Да кого-то, может быть, этот кусок от смерти бы спас, а вы его – в лужу! Зажрались, сучары, служба медом показалась? Только и знаете, что брюхо битком набить, нет, чтобы на совесть Родине служить! – Комбат распалялся все больше. Наметанным глазом он нашел в строю курсанта Тарасова, который побывал до столовой "по вспышке" в луже и теперь стоял в мокрой "хэбэшке", дрожа от холода как осенний лист. Вытянув его за шиворот перед строем, комбат разошелся не на шутку.
– Это кто? Это солдат? Это защитник отечества? Вот эта кишка будет сбивать "эф-шестнадцать" или драться в рукопашной с "зелеными беретами"? Солдат, мать твою за ногу, на кого ты похож, да тобой полы вытирать тошно, ты и на пушечное мясо не сгодишься! Пять нарядов вне очереди, – комбат толкнул Тарасова в строй. – А еще в Афган рапорты пишите, – добавил он тихо и пошел прочь, затем остановился, обернулся через плечо. – Война, этих троих наказать своей властью, и так, чтоб другим неповадно было, – Фаустов тряхнул головой и зашагал к штабу.
Получив "добро" на наказание троицы, Война не стал больше куражиться над батареей, а повел ее прямехонько в казарму. Случай небывалый, поэтому у всех курсантов появилась твердая уверенность в том, что следует ожидать развития события. Угрюмые виновники "торжества" шли в общем строю как-то отчужденно. Никому не хотелось, чтобы его заподозрили в лояльности к тому, с кем будет расправляться сам старшина. Только Хайтметов перекинулся парой слов по-узбекски со своим соплеменником.
Вместо положенного по распорядку дня свободного времени, после ужина батарея выстроилась в помещении казармы. Лазарев, Янкявичус и Хайтметов уныло стояли в ожидании "казни" перед строем.
Появился старшина и, посовещавшись о чем-то со стоявшими отдельной группой сержантами, вышел перед батареей и заговорил на удивление спокойно.
– Вот этим бойцам не хватает солдатского пайка. Сегодня они своровали хлеб с сержантского стола, а завтра своруют у своих товарищей. В придачу ко всему, они не научились ценить вкус хлеба, но это дело поправимое. Сегодня они научатся его ценить, а заодно и наедятся вдоволь, – на лице Войны светилась загадочная улыбка.
– Так, Хайтметов? – старшина похлопал узбека по плечу. – Кушать хочешь? Хочешь, Хайтметов, по глазам вижу. Ну, так прими упор лежа, – ласково промурлыкал сержант. Хайтметов выпучил глаза, ничего не понимая.
– Упор лежа принять! – рявкнул Война так, что вздрогнула вся батарея, а Хайтметов рухнул на пол почти без сознания. Лазарев и Янкявичус поняли, что команда касается и их, а потому через секунду они были готовы к отжиманию от пола.
Левадный положил на пол пред лицом каждого из троих по полбуханки черного хлеба.
– Ну вот, теперь будем кушать,
– с усмешкой сказал Война. – Делай – раз! – все трое согнули руки в локтях. – Кусай! Делай – два! – руки выпрямились. Лазарев, не успевший откусить, поднялся с хлебом в зубах.
– Жуй! – скомандовал Война и, не дождавшись пока бойцы прожуют хлеб, опять: – Делай – раз! Кусай! Делай – два! Жуй!
Первым не выдержал Хайтметов. Узбеки вообще не приспособлены к службе в СА, а Хайтметов был к тому же и довольно тучным. После пятнадцати отжиманий его руки затряслись от напряжения, и он бессильно рухнул на пол. Война коротко бросил двум оставшимся:
– Самостоятельно, – и приблизился к узбеку. – Уже наелся? Давай-давай, не сачкуй, – старшина слегка поддел Хйтметова ногой и присел рядом на корточки. Хайтметов силился подняться, но у него мало что получалось. Война начал злиться. – Жри, душман, а то на очко пойдешь!
– Я те дам "нэ могу", – старшина схватил узбека за шею и ткнул лицом сначала в хлеб, потом в пол. – Жри, падла, и сопли не распускай!
У Хайтметова пошла кровь носом, он попытался было встать, но сапог старшины снова уложил его на пол. – Лежа жри, чурка драная, и чтоб сопли свои с пола вылизал! Пока Хайтметов, всхлипывая и причитая, перемешивая на полу кровь, слезы и хлебные крошки, не выдержал Лазарев. Он встал на четвереньки и тупо уставился на хлеб.
– Ну, а ты что, дружок, не ешь? Сыт? Мы так не договаривались! Война прижал Лазарева к полу. – Ешь.
– Не могу, не лезет больше.
– Ах, не лезет, сейчас я тебе утрамбую, – старшина пнул Лазарева в бок. Тот изогнулся дугой, схватился за бок, но есть не стал. – Тебе что, не понятно? – Война поднял бойца и припер его к стене. – Выбирай: или жрать, или в душу.
– В душу, – ответил Лазарев, готовый уже ко всему, лишь бы не есть злополучный хлеб. Удар у старшины был крепкий. Лазарев буквально влип в стену, он стал судорожно хватать ртом воздух.
– Еще? – спросил Война, отведя руку для нового удара. – Хва… Хватит, – простонал Лазарев и тут же полетел на пол от нового удара в грудь, то бишь "в душу".
– Завязывай, Война, – сержант Левадный перехватил руку старшины, который намеревался в третий раз "помять душу" уже мало что соображающего Лазарева.
– Смотри, бибис-то старается, – отвлек внимание старшины Левадный.
В самом деле, Янкявичус, методично, как заведенный, отжимался от пола и исправно кусал ломоть хлеба.
– Хорошо, Янкявичус, отставить, – скомандовал Война. – Доедай стоя.
Литовец встал и с каменным лицом доел оставшийся хлеб. В его ледяных глазах читались ненависть, какой позавидовали бы его земляки – "лесные братья" образца 45 года.
– Янкявичус – свободен, Хайтметов и Лазарев – в распоряжение дежурного по батарее. Чтоб к утру туалет блестел как у ленивого кота… Батарея – вольно, разойдись!
Измученные в конец курсанты мгновенно разбежались по своим делам: кто курить, кто писать письма, кто подшиваться. Вечерняя разборка быстро забылась – сколько их еще за два года предстоит пережить! Сегодня эти трое, завтра следующие, послезавтра другие. Все испробуют горький вкус сладкого хлеба, кто-то сломается, как Хайтметов и будет всю службу греметь ведрами, отмывая сортиры, кто-то, как Лазарев, будет до самого дембеля затычкой во все дыры, а из кого-то получатся новые войны и левадные, которые в свою очередь будут учить уму-разуму пацанов, пришедших с гражданки.
Все это будет скоро, через год-полтора, а пока набегавшаяся за день батарея борется со сном у телевизора, на обязательном просмотре бессмертной программы "Время". Доходяга Тарасов пишет украдкой письмо домой. Пять нарядов не шутка: через день – на ремень, некогда будет поспать и поесть, не то что письмо писать. Лазарев, сгорбившись, тупо смотрит в экран телевизора, сломленный предстоящими ночными работами в батарейном сортире. Хайтметов задумчиво выковыривает из носа засохшую кровь, его знаний в языке межнационального общения явно не хватает, чтобы понять важность текущего момента, о котором вещает с экрана телевизора первый президент великой державы, обещающий своим подданным построить социализм с человеческим лицом.
ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ
Рассказ
Иван Иванович Пересудный в чудеса не слишком-то верил. Будучи от природы человеком приземленным, не очень стремящимся к высоким материям, он довольно скептически относился ко всякого рода прорицаниям, предсказаниям и ясновидениям. Иван Иванович всегда с удовольствием зубоскалил над людьми, сверяющими собственную жизнь по звездам, верящими в предначертания и в судьбу, хотя в глубине души, как и всякий, верил. Верил во что-то бесформенное и неопределенное, чему не дать ни описания, ни характеристики. И вера эта его угнетала более, чем вдохновляла.
Иван Иванович втайне, где-то в потемках своего, даже не сознания – подсознания, завидовал людям верующим. И не важно, во что они верили, важно, что они в своей вере определились, а Иван Иванович так и не пристал ни к одному берегу. В любой вере он находил недостатки и условности, затрудняющие жизнь, хотя, вместе с тем, видел в разных религиях и много привлекательного. Так, Иван Иванович в молодости ничего не имел против мусульманского многоженства, а иногда, когда начальство заедало выше всякой меры, помышлял и об индульгенциях.
Однако, как ни крути, Иван Иванович на момент нашего повествования, так и не позаботился о том, чтобы душа его обрела хоть какое-нибудь плохонькое бессмертие.
Как-то раз, отдыхая летом в деревне, Иван Иванович встретил странную старуху.
Он; как обычно, возвращался с утренней рыбалки, шлепая босыми ногами по холодной и скользкой от росы тропинке. Иван Иванович наслаждался чудным утром, сулящим жаркий день, радовался жизни и жирным окуням, приятно отягощающим руку.
Насвистывая что-то себе под нос, он чуть было не столкнулся со старушкой, стоящей на краю тропы. Иван Иванович аж всхлипнул от неожиданности, так внезапно эта старуха возникла как бы из ниоткуда. Между тем бабуля – божий одуванчик – мило улыбалась Ивану Ивановичу, ее глаза, полные выцветшей голубизны, прямо и приветливо смотрели на него.
– Куда спешишь, милок, куда торопишься?
– Да вот, на рыбалке был, – перевел дух Иван Иванович.
– Вижу, вижу… Да я не о том спрашиваю. Куда жить спешишь-торопишься, без оглядки несешься?
– Это как? – Иван Иванович опешил.
– Да вот все бегаешь, а о душе, милок, забыл. Да-а-а. Забыл. Но помни, помни нашу встречу – тебе уже недолго осталось…
– Что? Да ну тебя, бабка! Каркаешь тут! – Иван Иванович собрался было идти дальше, но бабулька крепко схватила костлявыми пальчиками его руку и зашептала каким-то зловещим шепотом:
– От воды умрешь, Ваня, от воды…
Иван Иванович вырвался и засеменил по тропинке мелкой рысцой, поскользнулся, да шлепнулся со всего маху в мокрую -траву. Только и услышал вслед: «Апрель вижу…»
А когда встал, старухи и след простыл, только чуть примятая трава на краю тропки медленно расправлялась.
С тех пор минуло два года. Иван Иванович дважды терял покой и встречал апрель как на войне – в полной готовности ко всяким неожиданностям. Долгими бессонными ночами он изобретал все более совершенные способы борьбы с судьбой. Иван Иванович располагал, как ему казалось, достаточной информацией, чтобы оказать ей сопротивление: ему нужно было продержаться всего тридцать дней, чтоб одиннадцать месяцев жить спокойно. Нов эти тридцать дней Иван Ивановичу надо было исключить всякую возможность умереть от воды.
Он забросил весеннюю рыбалку, весь апрель пил только дважды кипяченую воду, сам готовил и соблюдал во время приема пищи величайшую осторожность, чтоб не захлебнуться ненароком в ложке с супом.
Иван Иванович стал выходить в отпуск исключительно в апреле и целыми днями отсиживался дома, стараясь не попадать под дождь. Он не мылся целый месяц, рассказывая близким выдуманные Им самим истории о лечении каких-то неведомых болезней именно в апреле и только такими методами, какие применял.
Родные не очень-то реагировали на причуды Иван Ивановича – у каждого свои «вывихи», тем более, что в остальные месяцы года он был вполне нормальным и даже каким-то повеселевшим, бодрым и полным сил. Видимо, делали они вывод, такое лечение шло ему только на пользу.
Вот и в этом году, утомленный изнурительной борьбой с неизвестностью, Иван Иванович ждал конца проклятого им месяца. До мая оставались считанные дни, на исходе были и силы Иван Ивановича. В этот год он превзошел себя, взяв практически под полный контроль все, что касается воды и сфер ее применения.
В приподнятом настроении – не сегодня, так завтра закончится бой – Иван Иванович вышел покурить во двор. Он теперь курить не боялся, знал, что не от табака ему суждено умереть. Вообще, рассуждал иногда Иван Иванович, полезно знать минимальные параметры опасности, чтобы ее избежать, Если, конечно, все это действительно имеет место. Иногда Иван Иванович крепко сомневался, чего греха таить, в том, что предсказанная ему гибель действительно правда, но как человек упорный и в то же время осторожный перестраховывался. Тем более, что за время своей борьбы Он основательно завяз в мистической литературе и оккультных науках, сделав для себя вывод, что не все так просто на белом свете, как расписал в своей теории происхождения видов дедушка Дарвин. И место высшим силам, видимо, какое-то отведено. Нельзя сказать, что Иван Иванович стал человеком религиозным, но в вере во что-то сверхъестественное он укрепился.
Иван Иванович наслаждался чудным апрельским вечером. Чуть подморозило, воздух был свеж, чист и необыкновенно прозрачен.
Иван Иванович стоял у подъезда, с наслаждением чередуя затяжки сигаретой с упоительными глотками весны.
Вкус к жизни просыпается весной. А для Ивана Ивановича весна была временем борьбы за эту самую жизнь. «Ничего не поделаешь», – рассуждал Иван Иванович: «У каждого свои проблемы в жизни. Кому-то весна – счастье, кому-то – сплошные проблемы. Кто-то умирает весной, так и не узнав, почему именно в это время, а я знаю. Судьба. Может, для того и сказано мне это, чтоб я мог бороться с ней? Может, я не должен просто так умереть, и у высших сил на мой счет особые планы?».
Иван Иванович даже гордился собой немного – не каждому дано вот так вот знать свой конец.
И вдруг Иван Ивановича осенило. Он неожиданно понял, что вся его борьба – полная ерунда: Ведь он взял в учет только одно из физических состояний воды, напрочь позабыв про лед, пар, снег… «О, Боже…» – только и успел подумать Иван Иванович.
Огромная сосулька, весом в добрых полцентнера, сорвалась с козырька крыши и, ускоряясь по вполне земным законам физики, с высоты девятого этажа обрушилась на бедную голову Иван Ивановича…
***
Хоронили бедолагу как и принято, через три дня. Охали и ахали: такой человек и такая смерть нелепая! А в день похорон было солнечно и ясно – май вступал в свои права с первого дня решительно и неумолимо.
ЗВЕЗДОЧКА
Рассказ
Солдаты вошли в деревню вечером, когда налаявшиеся за день собаки уже не высовывали из будок носа, а занесенные снегом по самые крыши крестьянские избы светились теплыми, манящими огоньками. Вся деревня словно ощетинилась густыми, серыми столбами дыма, струящимися изо всех труб – мороз стоял за сорок, потому-то крестьяне и не жалели дров. В один миг все вокруг ожило: закричало зычными командирскими голосами, заурчало дизелями, заржало лошадьми и загоготало веселым солдатским смехом. Командиры разбежались по избам, устраивать на ночлег промерзших солдат, механики и водители засуетились вокруг техники, а бойцы, дождавшись заветного перекура, задымили, зачиркали спичками, разгоняя кровь в ногах, сомкнутых, будто капканами, промерзшими кирзачами. Обитатели деревни, удивленные невиданным доселе солдатским столпотворением, стали мало-помалу выходить на крыльцо, а самые робкие, прижались к окнам, силясь разглядеть на дворе причину столь необычного шума.
Через час солдаты были распределены по избам, баням и даже по сеновалам, и все равно деревушка не смогла вместить всю эту беспокойную и нетерпеливую ораву в свои стены. Разожгли костры во дворах, выставили караулы и решили греться по очереди, благо, что тех, кто не вместился в избы, было как раз по количеству караульных, в которых, впрочем, подразделение едва ли нуждалось. Деревня стояла в стороне от большака, в глубоком тылу, которого не коснулось обжигающее огнем и морозом дыхание «зимней» войны.
Изба Евдокии была самой большой в деревне, во всяком случае, ей и семерым ее детям места в ней хватало. Изба была еще новой, пахнущей по весне свежей смолой. Муж Евдокии срубил ее лишь два года назад. Срубил, да и сгинул. То ли по навету недоброму, то ли по ошибке, как думала Евдокия, арестовали его казенные, строгие люди в длинных шинелях и при винтовках. Василий, так звали мужа, только и успел расцеловать младшенькую, да подхватить наспех собранную женой котомку. Уже на крыльце он смахнул шершавой рукой слезу с ее щеки, обнял и шепнул: «Я вернусь…». С тех пор минуло два года, а Евдокия ждала. Несмотря па то, что в деревне ходили шепотом страшные слухи о судьбе тех, кого арестовало НКВД. Несмотря на то, что Василий был не первым и не последним мужиком, ушедшим навсегда вслед за конвоем в сторону большака. Ждала, покорившись судьбе всех баб того страшного времени, когда мужики своей смертью не умирали.
В избу к Евдокии набилось человек тридцать. Она загнала на печь ребятишек и стала хлопотать вокруг стола.
– Не суетись, мамаша, мы гости не званые, потому и не требовательные – своим обойдемся, – остановил хозяйку молодой офицер. – Да и не прокормить тебе такую ораву, – добавил он, ласково заглядывая ей в глаза. Евдокия плохо понимала по-русски, но догадалась, что офицер не велит накрывать на стол, а потому занялась печкой, чтоб продрогшие солдатики смогли отогреться.
Ребятишки во все глаза смотрели с печи на молодых, веселых солдат с блестящими пуговицами, наслаждались новым, незнакомым запахом тушенки, гуталина и махорки.
Дружно с гомоном и прибаутками солдаты гремели кружками, стучали ложками, ели, пили и курили. Кто-то приметил, что дети с печки следят за ними.
– Давай их сюда, пусть поедят! Эй, пацаны, опускайтесь! Налетай, шпана! – раздались возгласы.
– Да они не понимают по-русски! Егорыч, давай их сюда!
Чьи-то сильные руки, видимо Егорыча, стали одного за другим выуживать с печи младших детей, старшие успели выпрыгнуть сами. Засмущавшиеся было дети быстро соблазнились ароматом тушенки и под одобрительные возгласы красноармейцев дружно навалились на еду. Хоть они и не голодали, но с тех пор как забрали отца, в доме стало многого не хватать. Старшие понимали это и старались изо всех сил помогать матери, но все равно семья жила по-спартански, без излишеств.
Особенно дивились бойцы, глядя на младшую, четырехлетнюю девчушку, которая между делом успевала всем улыбаться и трогать тонюсенькими пальчиками значки на груди Егорыча, на коленях у которого она восседала. Она что-то лепетала по-карельски, задавала непонятные вопросы и сама же на них отвечала, чем вызывала бурю веселья у окружающих. Кто-то в углу затренькал на губной гармошке, и девчушка тут же заплясала, смешно по-детски закручивая ручками.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу