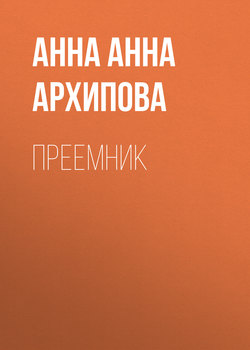Читать книгу Преемник - Анна Ивановна Архипова - Страница 1
ОглавлениеИЛЬЯ ТОМЧУК
Я ненавижу.
Ненавижу свою комнату, дом, работу, место, где я живу, жизнь тоже давно уже не приносит восторга. О каком восторге может идти речь, если я каждый день задаю себе один и тот же вопрос: ради чего я все это делаю? И так последний год, наверное. Нет, в последний год случилось обострение. Ответ на вопрос я так и не нашел. Крышу тоже не отремонтировал. Все время капает на лицо.
Уже несколько месяцев пытаюсь вести с собой диалог. Психологи в интернете говорят – в диалоге начинаешь лучше понимать себя. Я – нет. Это все конечно занятно, но безрезультатно. И со стопроцентной вероятностью уверен, что я не один такой. Нас миллионы по всей стране, всему миру, может быть даже, где-то в галактике существует такой же, как и я, который не желает исполнять свой «долг». Даже слово фонетически некрасивое «долг». Я никому ничего не должен. Я мечтаю об одном – покончить с этим раз и навсегда. Даже мечта у меня, как и слово «долг» отвратительная – покончить с тем, что делаешь каждый день. Значит ли это, что я должен покончить с собой?
Внутри, где-то между сердцем и разумом я не такой как все. Вот бы узнать, где находится тот самый движок, который не дает покоя и требует, требует стать собой.
А может, я всего лишь главный лирический герой чужого романа или автор? Если я герой, то все поступки за меня придумывает писатель этой книги? А если автор, то я могу делать со своим персонажем все что захочу? Имею ли я на это право? А может все еще намного проще я не автор и не герой, а простая подопытная мышь, которая живет в мире реалити на потеху миллионам? Но боюсь, шоу не будет пользоваться популярностью. Рейтинг и доля обнулятся еще на пилотной серии. Раз уж так, то лучше уж засыпьте меня землей и посадите вокруг хризантемы.
Меня зовут Илья Томчук, мне 35 лет и я устал, но, к сожалению, уйти не могу. Если быть совсем уж честным, то я даже не уверен все ли мои мысли имеют подлинность. И давно сомневаюсь, что я тот, кем был задуман.
Вот уже пять лет я живу на Вэнском архипелаге. Это первое, что вызывает сомнения по поводу моего существования. Но. Если вдруг на карте между Охотским и Японским морями вы найдете три крошечных островка размером со стеклярус, знайте – там есть жизнь. И живут на этих островах настоящие последние герои. Те, кого не может сломить ни страх перед действующим вулканом, ни цунами отдающее эхом 5 метровых волн от островов Хоккайдо, ни пронзающие ветра со всех четырех сторон света, ни местная монархическая система правления. Погодные условия уж точно не страшны тем, кто живет по законодательству островов.
Три острова входящие в Вэнский архипелаг – Куру, Утуру и Вэн считаются совершенно необитаемыми и долгое время, до появления gps спутников в галактике не значились даже на карте нашей страны. Но с приходом современных технологий правительство было вынуждено признать, что эти три точки виднеющиеся из космоса существуют на поверхности воды. Но до сих их не признали обитаемыми.
Жизнь на островах есть.
Три острова расположены друг за другом грядой. Если читать с севера на юг, то получается так: Куру, Утуру и Вэн. Мы с женой живем на центральном острове Утуру. Из трех, он считается самым населенным – две тысячи человек плюс-минус по официальной статистике. Утуру закрытый остров не только для всего мира, но и для жителей соседних островов. Чтобы попасть в центр, необходимо иметь справку от специального внутреннего подразделения № 6. Так после реорганизации называется отделение местной полиции. Это была шестая реорганизация за всю историю островов. Мало у кого находится причина, чтобы приехать на остров. У нас нет ничего. Скорее так – у нас есть военный объект по разработке стратегических бомбардировщиков «Скала» и бар «Краб», который работает три дня в неделю с четверга по субботу. Обычно к полуночи в баре заканчивается весь алкоголь. Да, алкоголь тут тоже не достать – сухой негласный закон.
История архипелага не так уж глубоко уходит корнями в прошлое. Корни еще на поверхности виднеются, и местные помнят, кто их туда посадил.
В середине 19 века острова считались неприспособленными к жизни из-за действующего вулкана, который до сих пор находится на Вэне. В последний раз он извергался лет двадцать назад, но это больше похоже на плевки, чем на громкое слово «извержение». Археологические и любые другие раскопки на островах запрещены, поэтому доказать, что до 1850 года там кто-то находился никто не может. Да, это никому и не нужно, как собственно и многое вокруг. Главное, что есть, а дальше разберемся.
Когда царская власть озадачилась локацией для ссылки, и создала на Сахалине обособленную зону для самых свирепых преступников – Вэнский архипелаг был отведен под карцер. Прибыл на Сахалин террористом, на острове убил такого же каторжника – отправляешься на Утуру или Вэн, куда довезут. Может быть, бросят в море. Выживешь – наверное, хорошо. Погибнешь – никто и не вспомнит. По такому принципу избавлялись от отребья.
Вэн в переводе с языка айнов – враг. В ссыльные времена Вэн был самым большим по площади из трех островков. 60 километров с севера на юг и 40 с запада на восток. За сто прошедших лет он опустился в воду глубже, уступив в площади Утуру. Со временем провинившихся ссыльных становилось все больше, они образовали целую колонию. Чтобы предотвратить бунт и побеги правительство стало заселять Утуру и Куру. В переводе с айнского Куру означает – человек, а Утуру – между. Так и получается Утуру находится между человеком и врагом.
Через двадцать километров по фарватеру к югу от Вэна – остров Хоккайдо. И, по логике завоеванных территории, острова должны были принадлежать японцам, но не в характере нашего народа отдавать даже необитаемые места вражеской державе. «Проклятый архипелаг» – так называют Вэнские острова в Японии.
Когда правление царской власти подошло к своему логическому завершению – власть сменилась, а взгляды нет. Во время Великой Отечественной войны на острова продолжали свозить японских пленных, которые смешивались с советским поселением бывших каторжников, так создавался свой новый дивный мир. Только 12 декабря 1956 года, когда в силу вступила Московская декларация, и официально завершилась Советско-Японская война все пленные на архипелаге были свободны. Территорию зачищали, японцев отправляли на родину. Но не все решились уехать – кому-то не позволяло чувство павшей чести, кому-то страх перед Большой Землей, кому-то не к кому было уже возвращаться. Так зародилась свободная жизнь на архипелаге.
И, казалось бы, мир наступил, но не для нашей страны. Началась вторая волна репрессий и из центральной России продолжили колоннами поставлять ссыльных политзаключенных. Так на островах появилась, некогда пропавшие без вести писатели и поэты, чиновники, общественные деятели и сторонники иных политических взглядов. Все они мечтали когда-нибудь вернуться домой. Совсем скоро советско-японский народ образовал коммуну.
Смерть Вождя народов СССР стала путевкой на Родину всем невозвращенцам, но все оказалось не так просто. Кого-то реабилитировали только к концу 70-ых, и они смогли вернуться в центральную часть страны к семьям, которые их не дождались. А кто-то был реабилитирован посмертно и навсегда остался на острове.
Архипелаг закрыли в 1986 году. Осваивать земли никто не стал. Погодные и социальные условия наводили ужас на разведывательные бригады по месторождениям газа и нефти. Люди охотнее уезжали на Ямал, чем на Вэн. Пронизывающий до костей ветер прибивал к берегу лишь мертвых японских рыбаков. Такое себе развлечение – не привлекало ни советское, ни японское правительство. Так до 1991 года архипелаг оставался диким местом, где проживала лишь часть коммуны созданной до середины века. На Утуру оставалось 17 семей, которые продолжали жить в условиях дикой природы.
И только после распада Советского Союза, когда к правлению государством пришли органы внутренней власти – «Состав 17» вышел на передовую. «Состав» был создан еще на базе КГБ, в дальнейшем переименованному в ФСБ. Аббревиатуры менялись, люди на постах оставались те же.
«Состав 17» распределялся точечно на стратегически важных правительственных объектах. «Состав» был сформирован в 1991 году, в группу всегда входило только 17 человек. И как в любой тайной структуре было что-то явное, что мешало эту тайну сохранять. Так начался третий этап заселения Вэнского архипелага.
В 1991 году, когда Крым уходил с карты Советского Союза в сторону отдельного государства, российское правительство попыталось избавиться от Вэна предложив вместо Сахалина, на который японцы всегда рассчитывали – Вэнский архипелаг. Киити Миядзава премьер-министр Японии тех лет отклонил предложение, но аргументировал свой поступок – «Кровь наших предков на ваших ладонях». «Наши» не придавая значения словам, (потому что, какие сотрудники внутренней полиции поверят в проклятье и боль всего народа), предложили снова заселить острова, но назвать – это иначе «поселение», а не «добровольная ссылка». Так острова Куру, Утуру и Вэн снова стали наполняться людьми.
На Утуру началось строительство военного авиационного завода по производству бомбардировщиков. Стали появляться рабочие места, потребовались специалисты в различных областях. Инфраструктура начала расти, список жителей увеличиваться. Так к 2019 году на Вэне проживало тысяча триста человек, на Утуру около или чуть больше двух тысяч, население Куру было не больше пятисот человек. Основной приток людей хлынул на острова после 2003 года, когда начал функционировать завод «Скала».
В школьных атласах архипелаг появился после 2005 года, когда международный экспериментальный космический комплекс по определению координат ядерных взрывов обнаружил «Скалу». На заседании в ООН правительство вынуждено было предоставить документы, о том, что земля Вэнского архипелага является стратегически важным объектом для страны.
Я узнал о Вэне раньше. В 1999 году меня, как лучшего ученика отправили от школы по обмену в Ирландию изучать английский язык. Меня и еще двух парней из Москвы поселили в семью прогрессирующих пенсионеров Мэри и Колмана в городок Сордс в часе езды от Дублина. Мэри и Колман были очень активными старичками, которые водили нас в парк кормить белок, мы спускались по рекам и ходили в поход с палатками. Так в игре мы изучали английский с ирландским диалектом, который потом мне сильно пригодился в работе. Это лето было полно открытий. Одно из которых случилось на прогулке в парке солнечным днем. Мы сцепились с американцем из Северной Каролины, который с пеной у рта доказывал мне о существовании Вэнских островов на территории России. Он был непреклонен в своих убеждениях – «Все в мире знают, что между островом Сахалин и островом Хоккайдо есть Вэнский архипелаг. Все знают, а ты не знаешь».
Об этом не догадывался не только я, но и 97 процентов моей страны. Через год внутренний орган власти вышел из сумрака и заступил на трон. Сменилось правительство, и вскоре на карте появился Вэн, Утуру и Куру, которые считались совершенно необитаемыми островами непригодными для жизни.
Чтобы добраться до островов необходимо долететь до Южно-Сахалинска, от туда пересадкой на вертолете до острова Итуруп. Далее, на катере или пароме до нужного острова. Чаще ходят катера – это единственное проверенное транспортное сообщение между островами. Паромы запускают лишь при крупногабаритных поставках.
6 июня 2014 года я прибыл на Утуру. Только закончилась весна, и наступило календарное лето, но это совершенно не означало, что на островах стало тепло и жизнепригодно. Нет, напротив, границы между весной и летом здесь не существует и местные жители об этом конечно же знали, но только не я. Мне приходилось с непривычки запасаться теплой одеждой и водкой. Это единственное что грело. Постоянно дул пронизывающий до кончиков волос ветер, лил не прекращающийся дождь. Все время протекала крыша. Жить на островах было невозможно – казалось мне тогда.
И если лето и осень я переживал всего лишь с непрекращающимся, как и дождь насморком, то зима и весна давались мне очень нелегко. Дикий, лютый холод сбивал с ног и укладывал в постель с температурой в 39 градусов. Температура не сбивалась, а если и случалось, что я мог снова встать на ноги, то через неделю я снова укладывался в постель. Не было и дня, чтобы я чувствовал себя хорошо.
Жена приехала на острова позже, спустя два месяца. Сначала я обзавелся арендованным на время командировки жильем, которое, конечно же принадлежало правительству островов, утеплил деревянные продуваемые окна ватой и заклеил их техническим скотчем. И только после этого Вера приехала ко мне. Чтобы не умереть от холода мы включали газ и ставили на все конфорки кастрюли с водой, при испарении воды становилось чуть теплее. Мы двигали кровати дальше от окон, чтобы ветер не задувал в лицо, ночью укрывались двумя одеялами. В каждой комнате ставили по электрическому обогревателю. Только благодаря этим нехитрым лайфхакам я стал чуть меньше болеть. Но стоило не застегнуть верхнюю пуговицу куртки, возвращаясь домой, тут же сваливался с ОРВИ. Тяжелейшие два года в моей жизни прошли, как в тумане. Как будто бы я и не выползал все это время из постели. Спал и пил куриный бульон. Потом бульон закончился. Не стало Веры.
Вера не смогла стать частью острова, она все время просила вернуть ее на материк. Ночные разговоры, слезы, просьба отпустить. Я не мог. Не имел права. Она была слишком юной для того, чтобы создавать жизнь там, где ее не существует. Ей было 22 года. Приехала скорая помощь и увезла на лечение. Остров забрал ее.
Я устроил скромные похороны, пригласив, тех, кто успел ее узнать на острове. На кладбище в южной части стоит крест над ее могилой. Памятник не ставил осознанно. Он ей не нужен. Иногда я прихожу туда послушать, как поют птицы. Почему-то там собирается очень много птиц.
Сказать, что после ее смерти мне было как-то одиноко, физически плохо – нет. Все быстро улеглось. Эта боль не успела в меня проникнуть. В меня тогда проник очередной вирус, и я неделю провалялся в бреду.
За полгода до ее смерти я устроился в «Скалу», там познакомился с новым приятелем Трыновым, который и помогал мне справится с этой нелепой скорбью.
На заводе работа у меня не пыльная, не хитрая и совершенно неинтересная.
– Это пятый топлевно – заправочный комплекс. Здесь шланг, здесь баки, сюда подъезжают самолеты. Дальше разберешься.
Рассказал мне предыдущий сменщик Трынова и перешел из нашего цеха в третий токарный.
Завод назвали «Скалой», потому что находился в скале. Все просто. На краю, в северной части острова возвышалась каменная глыба с острым выступом кверху. С одной стороны утес был крепко впечатан в землю и переходил в серпантин ведущий к городу. С другой стороны каменистая стена была повернута к Охотскому морю спиной, и спуститься к ее подножью можно было только через хвойный лес. На самой вершине скалы расстелилась взлетная полоса для авиационных испытаний.
Чтобы обезопасить себя от любопытных глаз спутников соседних стран, конструкторы завода четыре года контролировали работу шахтеров, которые пробивали подземелье для застройки военного комплекса. Так скала осталась неизменна, а внутри приобрела жизнь. Работа над «Скалой» началась в 1993 году, и только спустя десять лет завод приступил к работе.
Когда впервые попадаешь на проходную производства, то кажется, что вот тут, пару шагов, и ты упадешь в бездну. Но конструкторы были озабочены не только спуском и подъемом сотрудников, но и безопасностью на случай военных действий.
Попадая на служебную проходную нужно отметиться в компьютере, за которым вот уже шестнадцать лет сидит одна и та же женщина – Джуна Ювашевна была гордой армянкой с копной черных, но уже поседевших густых волос на затылке. Она приехала на остров из Воронежа, когда ей было 28 лет – скрывалась от бандитов в 90-ых. Встретила своего гордого японского самурая и осталась на Утуру. Официально на материке считалась без вести пропавшей.
Отметившись, сотрудников группами сажают в вагонетки, которые перевозят груз по железнодорожным путям. Всего три вагона, куда помещаются по 6 человек. Кто не успевал в заезд – ждал. После того, как поезд доезжал до центрального цеха, он возвращался обратно за следующей группой. Дорога от проходной до центра завода занимала 7 минут.
Людей высаживали в центральном комплексе, а дальше каждый сотрудник разъезжался на мопедах и самокатах до своего цеха. Завод делился на пять частей. Первый: инженерский, где штат из 12 аэродинамических инженеров со всей страны разрабатывали боевой стратегический бомбардировщик ТУ – 180.
Второй цех был складским. Там хранились все детали привезенные для сборки и все расходные материалы необходимые при производстве самолета. В нем работало 6 человек.
Третий корпус – токарный. Весь внешний конструктив – крылья, хвост, фюзеляж, нос, вся электрика изготавливалась на материке. На производство уходило год и три месяца. Дальше детали поступали на остров паромами и грузовыми самолетами. Внутреннее наполнение также изготавливали в центральной России и после везли на архипелаг. И только две детали производились на Утуру – внутренняя рабочая втулка для двигателя и гильза цилиндра. 14 парней по сменам день через день производили всего две, но очень важны детали. Там же изделия хонинговались, хромировались и азотировались и после этого отдавались на линию окончательной сборки.
Линия окончательной сборки начиналась в четвертом корпусе, собственно, где и начинался сам завод. После того, как вагонетки попадали внутрь скалы, они останавливались в центральном, четвертом корпусе и именно в этом амбаре собирали самолеты. Там же проходили все монтажные работы и проверка внутренней техники. Все собиралось вручную. 93 человека складывали, как конструктор самолет.
Когда в 2002 году была завершена постройка «Скалы» со всей страны привезли самых опытных и самых талантливых специалистов. Каждый, кто работал на заводе подписывал документ о неразглашении информации. Никто не должен был знать о военном объекте и что на нем производят. Конечно же на островах знали, что происходит внутри горы, но подробности тщательно скрывались. Никто лишний не мог попасть внутрь.
Пятый и последний комплекс делился на два блока. Экспериментальный – в нем находилась лаборатория по проверки всех внутренних и внешних жидкостей. В ней работали 5 лаборантов. И второй блок был – топливно-заправочный, где работали я и Трынов.
Дальше, из нашего цеха самолет по техническому лифту поднимался наверх под потолок. Раздвигались горизонтальные ворота в стороны, и образовывался коридор для того, чтобы самолет мог выехать на взлетную полосу для испытаний. После запуска самолета и его полной проверки в небе, он возвращался обратно в четвертый корпус, где проводились завершающие работы. После чего самолет отправлялся на Вэн, там был амбар для внешних работ, его красили и полировали. И только после этого ТУ-180 отправлялся на границы в стратегически важные военные точки страны.
ТУ-180 – мечта конструктора-эстета. Птицу окрестили «Орланом» – нос был острым, его окрашивали в белый цвет, основная часть фюзеляжа была тонкой, как парящий ястреб, а крылья широкие, как будто он нападает на жертву. Хвост имел клинообразную форму – острую, как жало. По наполнению «Орлан» превосходил американский B-3. Стелс-технология была разработана таким образом, что когда ТУ- 180 опускался на вражескую территорию, звуки невозможно было уловить. Звук его двигателей был слышан только летучим мышам и птицам. Орана мог услышать только такой же ястреб, как и он сам. Боевой радиус машины был до четырех тысяч километров без дозаправки, с дозаправкой превышал одиннадцать тысяч. Полезная загрузка до пятнадцати тонн. Самолет был разработан для того, чтобы перевозить ядерное оружие на вражеские станции оставаясь незамеченным радарами. Самолет имел возможность работать как с пилотом, так и без него. Совершенное, не убиваемое оружие, которое несло в наш мир разрушение.
И каждый день вот уже три года я хожу по одной и той же дороге. Почти всегда меня провожает одна и та же женщина. Чаще не провожает, ей на работу к восьми. По пути я встречаю одних и тех же людей. Под воротник заползает один и тот же ветер, а в голове крутится одна и та же мысль – ради чего я это делаю?
С годами желание думать – притупилось. Живешь просто на автопилоте и от дома к работе, от работы к дому в голове кружат одни и те же мысли. Иногда в голове можно услышать шум моря и как волны бьются о скалу. И тишина. Голова давно уже не наполнялась мыслями о чем-то важном, нужном, волнующем. Все неважно и ненужно становится с годами, когда привыкаешь к пустоте. Такие мысли у меня появлялись только в сложные дни. Сегодня был один из них.
Сегодня 14 сентября – день гибели моего отца. Тогда в 2008 году я жил в Москве и только-только положив на стол красный диплом Академии службы безопасности стал наконец свободным перед родительской волей. В Москве была прекрасное лето, которое я шумно отгулял под песни Леди Гаги в ночных клубах в обнимку с бутылкой Джэка Дэниалса. Самая отличная компания для проводов юности.
Я защитил диплом и влюбился на Пушкинской площади. Она стояла прекрасная в свете солнечного дня и светилась. Невысокая, чуть на цыпочках доставала головой до моего плеча. С нежными, белоснежными кудрями. С добрыми, честными голубыми, бездонными. В сторону разлетался сарафан, слегка оголяя детские колени. Волосы путались прикрывая оголенные плечи и было страшно подойти к ней и коснуться. Хотелось поставить под музейное стекло и любоваться. Она была очень редким экспонатом. Но я подошел. Не помню зачем, но соврал. Потом это вошло в привычку – врать, а тогда мне надо было действовать решительнее, чем все те, кто на той же Пушкинской собирался с ней знакомиться. Сейчас или никогда.
– Меня Настя зовут – Представилась.
А я забыл свое имя.
Настя приехала поступать в Щукинское училище из Калининграда. Особым актерским талантом Настя казалось бы не обладала, поэтому игра, которую я затеял, казалась мне совершенно безобидной и совершенно беспроигрышной. Тогда я и поверить не мог, что кто-то меня рассекретит.
– А я в Щуке на третьем курсе учусь. Смогу помочь поступить. – На ходу придумал.
– Не может быть! Это же совершенно неслучайная встреча!
– Все встречи не случайны. – Подмигнул.
– А где ты играешь?
– В «Et cetera». Еще вот во МХАТе с Табаковым постановку готовим. Это пока секрет.
– С самим Олегом Павловичем? – удивилась тогда и захлопала в ладошки маленькие.
Как же она в меня верила. Мне верила. Я и подумать не мог, что так искренне можно верить словам. Так просто можно взять и обвести вокруг пальца обычными фразами придуманными на ходу. Ну, что же, это всего лишь розыгрыш.
Потом подошла невероятной красоты золотая, ярко-красная, насыщенная, как акварельная палитра осень. Все аллеи были усыпаны кленовыми листьями, такими еще юными, что даже отказывались хрустеть под ногами. Пахло медом и яблоками. По вечерам можно было гулять под желтыми гирляндами из городских фонарей. Для сентября было еще очень жарко, и, задерживаясь до утра можно было попасть под поливальную машину и не замерзнуть.
Настя поступила в Щукинское училище с первого раза и с первого занятия поняла, что никакого отношения к профессии актера я не имею.
14 сентября мы поднялись в небо над городом на колесе обозрения на ВДНХ. Я понимал, что она мне нравится. Нравится не так, как нравились девушки раньше, а нравится чуть больше. Я чувствую к ней слабость и с ней я становлюсь сильным. Мне с ней нежно и сладко. Мне с ней хочется быть. Врать я больше не мог. Хотел еще, чтобы не разрушать ореол таинственности, созданный вокруг себя, но врать было уже бессмысленно, она раскусила меня, как гнилую грецкую скорлупу.
– Я не актер и никогда не хотел им быть.
– Зачем врал тогда?
Она плакала и прятала глаза, отводя в сторону. Под нашими ногами расстилался осенний лес – светофор. В своих слезах, она казалась жалкой, но обнять ее мог только честный человек, так я тогда подумал. И не обнял.
– Я просто хотел тебе понравиться.
– Но нравятся не особенные, нравятся настоящие.
– Я есть такой.
– Это подло. Ты все время смеялся надо мной.
– Даже не думал.
Хотя если не врать себе сейчас, то да, иногда я над ней посмеивался. Так отчаянно она верила в то, что я имею отношение к местам, литературным произведениям, людям. Я не хотел, чтобы это заканчивалось.
Мы кружились на колесе, пока нас не стала выгонять охрана парка. Почти не разговаривали. Она плакала, я не знал, как оправдаться. Честно – не хотел. Потом проводил на трамвай до Бабушкинской, а сам поехал домой. Больше Настю я не видел.
В этот же день пока я наслаждался теплым осенним днем и рефлексировал моего отца выписывали из больницы. И по давней договоренности встречать его должен был я. Но я забыл. Вылетело из головы. Его выписали после операции на сердце, поставили клапан и обещали еще лет десять пожить. Недожавшись меня, он даже звонить не стал. Отец был гордым и всегда держал слово и в этой ситуации он понимал, что у меня либо что-то случилось важное, либо я забыл. Скорее всего, он знал правду.
Ему оставалось ехать две остановки. Переходя дорогу через пешеходный переход на проспекте Вернадского вылетел черный BMW с триколором на номерах. Мне было 24 года, когда я остался без человека, который любил меня сильнее всех на свете. С тех пор 14 сентября для меня не просто день скорби и памяти, в этот день, я как будто сам впускаю в себя самые сильные страхи, которые разрушают мою волю к жизни. Жизнь вытекает из меня. Я всегда был слаб перед этими демонами в голове. Страх – это единственное, что могло заставить меня опустить руки. Каждый год я вспоминал, что мог спасти, но не спас.
Уже через полгода после смерти Веры я снова узаконил отношения. Жанна была со мной ростом вровень, если коротко о наших взаимоотношениях. Но иногда я все же убеждался, что на голову выше все же она. Быстро топил эту догадку внутри себя и продолжал идти вровень. Она была беспримерно порочной. Это влекло и отталкивало одновременно. Не было в ней середины, которая сдерживает баланс плохого и хорошего в человеке, она была либо на одной чаше весов, либо на противоположной. Как редкая акула Мако внешне завораживала, а изнутри отпугивала. Опасная, агрессивная, дикая. Никогда не сидела в засаде, настигала мгновенно, била хлестко по больному. Я был к ней нежен.
Когда она распутывала огненные кудри и распускала их по плечам, где-то в горле начинало щекотать. При знакомстве с ней внутри случился второй сильный эмоциональный удар, который сбил с толку. Она как трансформатор подключила меня к себе за мгновение. Заряд был сильный, но не долгий.
Странным казалось называть нас, отдельных личностей, семьей, скорее – обоюдно согласные. Получив пару ожогов, я остыл, и чтобы не повторяться разделил наши отношения айсбергом, раздельными комнатами и разными интересами. Единственное тепло, которое нас связывало – это был электрический обогреватель. Все было немного сложнее, чем казалось со стороны. Или проще. Люди любят тайны других, нашу, казалось не разгадать обывателям.
От этого постоянного душевного озноба мы совсем забыли, что есть в жизни какие-то общечеловеческие ценности. Не важно – семья ты или одинок, ты не имеешь права думать только о себе. Ты часть общества, так будь добр быть неравнодушным ко всему живому и происходящему. У нас таких заветов дома не исповедовали.
И пока Жанна спала с очередными, вновь прибывшими на остров моллюском, я был увлечен редким минералом, который казалось, хранился все годы в международных водах. Мне хватило одного погружения, чтоб обрести ее. Нежная, тонкая, величественная, ювелирная. Но при всей своей хрупкости обладала редким талантом скрывать волнующее море внутри себя. Настоящая дочь самурая. Женщина, которую я мог не встретить и которую я уже не желал отпускать.
Тогда 14 сентября 2019 года все было по плану. Капля воды с протекающей крыши упала на лоб. До будильника оставалось еще пятнадцать минут. Разозлился, но продолжить дремать. В 6.25 прозвенел будильник. Отключил его, как и всегда ударом по крышке настольных часов. Пошел отсчет еще пяти минут запланированного сна с вечера. Из сновидений в этот мир возвращаться совсем не хотелось. В щели окна задувал резкий ветер, и я желал прятаться от него под одеялом, отказавшись на время от существования. Хандра – вот определение ежеутреннего ритуала пробуждения.
Кровля двухэтажного дома билась в лихорадке. На несколько секунд замирала и снова начинала пульсировать. Карниз, казалось бы, подыгрывает кровле, когда на него попадают редкие, но крупные капли дождя. На улице была настоящая, безжалостная островная осень.
За стеной в ванной, также как и за окном лилась вода. Жанна вернулась под утро, шагов не слышал, осторожничала. Ее утреннее появление было таким же привычным, как и унылая погода за границами нашего дома.
Во второй раз отключил будильник, и, собравшись с силами сел на край кровати. Укутав тело в одеяло, подошел к окну. Лужи оставленные вчера без присмотра превратились за ночь в реки стекающие вдоль равнин и впадин. Рельеф острова не позволял иметь гладкие и ровные дороги. От мопеда можно было уже отказываться. Если в сухую погоду, летом и поздней весной до работы можно было доехать за пятнадцать минут, то с началом сезона дождей приходилось ходить пешком минут по тридцать с одну сторону неспешным шагом. Общественный транспорт работал только в центральной части Утур для пенсионеров, машины на архипелаге были под запретом. Автомобили разрешалось иметь только спецслужбам, больницам и детским учреждениям. И была еще одна машина – она принадлежала Левону Кирилловичу Мацумуро. Левон Кириллович руководил «Скалой». Один раз в год, летом Левон со своей семьей выезжал с палаткой на рыбалку в южную часть острова ловить лосося. После, ставил свой японский внедорожник в гараж и оставлял до следующего лета. Это была его личная забава.
Для жителей острова существовали мопеды и велосипеды. Возражений со стороны граждан не было. Местные вообще редко когда противились созданному. Мне кажется, что смирение было у них в крови.
Также по привычке, закутанный перебрался в кухню на запах кофе. В ванной затихла вода и настала привычная тишина. Налил в чашку черной жижи и залил ее для цвета молоком. За окном начинал злиться дождь, и бить уже в окна промазывая мимо карниза. На первом этаже, под нами жила семья, где уже три года росли близнецы Ваня и Вова. Всю свою жизнь они без остановки кричали. Невыносимые дети порой приводили в состояние бешенства. Я держался. Жанна иногда стучала по батарее тяжелым, с криками: «Ну, когда вы уже замолчите!». Единственное, что не могло не радовать, так это то, что они растут, чем старше становились мальчишки, тем крепче был мой сон по ночам, а их комната находилась, как раз под моей. Но каждое утро, включая выходные дни они что-то требовали от родителей, и, не добившись результата впадали в бешенство. Муссон в их квартире менял курс от мальчишки к мальчишке и начинался шторм. Слышимость в старых домах была гипотетическая. То есть, предположим, что стена есть, но скорее всего ее не существует.
– А я хотела тебя кофе угостить, а ты угостился сам. – Накидывая полотенце на голое тело, еле прикрывая грудь, чуть хрипло уже почти сонно, за спиной появилась Жанна.
– Угу. – Не обернулся.
Обошла со спины, протянув за собой запах сладкого из ванной комнаты. Она размазывала крем на руках и лице. Медленно, с привкусом наслаждения встречая пасмурное утро, налила в чашку кофе и поставила ее недалеко от себя. Встав на цыпочки, уселась на пустой подоконник, и облокотилась спиной на холодное запотевшее стекло. На плите по привычке уже кипела вода в кастрюле.
– Одеться не хочешь?
Табурет подо мной качнулся.
– Ножка расшаталась. – Вспомнил, что давно хотел прикрутить.
– Мог сделать уже.
– Не хочется.
– Вот и я одеваться не-хо-чу. – Резко ответила она.
Повернулся к ней. Она медленно, по-кошачьи подняла худую ногу на подоконник и поджала под себя, села сверху.
– Выпадешь.
Окна в доме были, как и стены, уверенности в том, что они не вылетят вместе с рамами не было. Двухэтажное здание, в котором мы жили больше походил на ветхое жилье неперселенцев. Деревянные хрупкие рамы на окнах продувались ветрами со всех сторон, тонкий, потертый ламинат уже вздыбился на полу от влаги, которая стекала по трубам и с потолка весной. Весь дом, как будто стонал и просил беззвучно, глазами застрелить его в голову, как дикий подбитый звереныш. Тонкие вафельные стены от удара проваливались в соседнюю комнату. Один скандал и моя злость порывом руки могла оказаться через стену. Ржавая сантехника, запах мышей с чердака. Все эти условия, как будто толкали к выживанию, проверяли на прочность.
В доме было два подъезда по четыре квартиры. Мы жили с северной и самой продуваемой стороны. Окна выходили в сторону порта. Но, несмотря на все неудобства и неприязнь мы любили эту квартиру, хотя не уверен, что это было взаимно. Такие квартиры, как будто оставляют после себя паларойдные фотографии в сердце. Память о двух тридцатиметровых комнатах, о самой уютной, хоть и самой маленькой кухне, о скрипе пола в прихожей, о запотевших стеклах, о потрепанных временем занавесках и о разговорах за ужином под звуки радиоприемника.
– Поймаешь. – Не отвела от меня черных слегка припудренных цветочной пыльцой глаз. Провела тонкими пальцами по свисающей ноге, распределяя крем вдоль голени.
Она, как булгаковская Марго была невидима и свободна. Еще пару движений и она бы точно полетела из окна, но не для полета над Москвой, а чтобы попасть в травм пункт Утуру. Соседи снизу вряд ли бы это перенесли спокойно. Придумали бы легенду, что во время очередной ссоры за закрытыми дверями в квартире номер 7 случился приступ семейного насилия, в результате чего супруга научилась летать. Соседки снизу получили бы особое наслаждение от происходящего. Никто не мог переносить Жанну хладнокровно, со спокойными сдержанными эмоциями на лицах. Если бы была возможность и люди знающие ее могли опустить все рамки приличия, то по ее приходу в комнаты все вставали и уходили. Навсегда. Я обожал ее за способность создать атмосферу войны вокруг.
Дома она была другой. Для меня ее взбалмошный характер был всего лишь постоянным поиском, и в этом своем поиске она была прекрасной. Даже сейчас закинув ногу на подоконник, чтобы я мог видеть ее обнаженную, не делало ее поведение вульгарным и вызывающим. Хотелось силой взять ее на этом подоконнике, но после глотка отвратительного кофе желание прошло.
– Нам надо поговорить. – Поджала губы и посмотрела в сторону.
«Что-то тревожит» – подумал я.
– Ты хочешь говорить утром? Сегодня?– ответил.
– Прямо сейчас хочу. – Опустила обе ноги с подоконника и встала ровно по стойке, скрестив руки на груди.
– Сегодня 14 сентября.
– Мне плевать какой сегодня день. Я устала.
Молчал. Ждал, когда продолжит. Вливал в глотку омерзительный кофе. Она закрыла в кухню дверь, включила радиоприемник, заиграло что-то из «Человека амфибии», Петров кажется, написал. Она продолжила.
– Мне 38 лет. Я красивая женщина. Я не хочу жить на этом сраном острове. Мне здесь холодно.
– Ударь по раме, окно открыто.
Она обернулась, стукнула по раме кулаком.
– Мне вот здесь холодно.
Положила ладонь на солнечное сплетение.
– Ничем не могу помочь. У тебя начинается истерика.
– Я уже три года здесь и ничего не происходит. Никакой динамики. Никакого развития. Может все это специально придумано, чтобы отвлечь наше внимание?
– Может.
– Я хочу не в тишине жить, а чтобы утром птицы за окном пели, солнце в глаза светило, чтобы зайчики по потолку бегали, дети кричали под окнами.
– Соседских мало?
Казалось, близнецов никто не собирался вести в сад. Они уже начинали кричать в голос, и плевать им было, что часы показывали семь утра. Жанна схватила со столешницы половник и ударила со всего размаху по батареи.
– Я своих детей хочу!
– Смотри, притихли.
Близнецы, и правда, затихли, но ненадолго. Минуты на три хватило.
– Ты вообще мечтаешь хоть о чем-нибудь? – Уже хлюпала носом она.
– Конечно. Я же человек. Каждый человек о чем-то мечтает.
Я врал. Я давно уже ни о чем не мечтал и ничего не хотел. Внутри меня закипала вода, как та, что стояла в кастрюлях на плите.
– Я чувствовать хочу сердцем.
– Жан! – Я встал с табурета и собирался идти в ванную, пока она не остыла. Из меня по каплям на ладошках выходил пар, который сдерживал в кулаках. – Послушай. Тебе просто надо выдохнуть, у тебя были не простые выходные. Начинается новая неделя. Скоро вообще весна. Надо смотреть вперед, позитивнее.
«Кому бы говорить» – подумал, но смолчал. У нее случались всплески, к ним я давно уже привык. Ей надо было просто прийти в себя.
– Ты меня не хочешь? – Она сбросила с тела полотенце и подошла ко мне вплотную. Я глубоко вдохнул, продолжая держать влагу в руках. Дотянулась губами до шеи и слегка коснулась горячим воздухом.
– Щекотно. – Отстранился от нее.
– Да что, блин, с тобой не так! – крикнула она разъяренная, – Я тут голая перед тобой стою, ноги раздвигаю, а тебе щекотно?
Отвернулся, открыл дверь в кухню.
– Замолчи. – Бросил вслед и вышел.
Я заведомо знал, чем это все может закончится. Она долго будет тереться об меня своим идеальным телом. Я смогу возбудиться до состояния «больше не могу терпеть» и она устроит скандал. Придется взять ее силой, склонив у подоконника закрыв рот рукой, чтобы молчала. Она будет кусать пальцы, вырываться, а потом сдастся. Я опоздаю на работу. Пару дней будет ходить спокойная после, а я злиться, что не совладал с собой.
Именно поэтому я пошел в ванную, закрылся на замок, чтобы не ворвалась, и вытерев с пола всю воду, которую она после себя оставила, смог умыться.
– Да что мне сделать, чтобы ты меня хотел?! – кричала она в дверь.
– Спать иди. Устала.
– Тварь ты, Андрей!
– Перепутала.
– Да пошел ты в жопу! Просто я сейчас уйти не могу, полгода! Полгода и я свалю с этого сраного острова.
Дверь в ее комнату захлопнулась со страшной силой, это означало, что резко наступил штиль. Я тут же вышел из ванной, накинул наспех одежду и выбежал из квартиры, чтобы не провоцировать цунами. Она хлюпала носом. Ненавижу, когда женщины плачут. Всем сердцем. Ведь это их оружие, которое помогает обезвредить противников и заставляет его поднять белый флаг. Когда женщины плачут – это уродливо. Красные глаза, растертый нос, волосы прилипают к щекам. А если причиной этих слез я, то тогда вынужденно бросаю оружие на землю и просто выхожу их этой игры в войну проигравшим.
Только спустившись на первый этаж, смог выдохнуть. Женщину надо оставлять с ее слезами одну. Им всегда нужно время, чтобы обесточиться. И так каждый раз я сбегал, как дезертир из нашей квартиры, чтобы не оставаться с этим монстром один на один. Подобные сцены она устраивала не часто, только когда силы заканчивались, и надо было на ком-то отработать новый словесный удар. Но каждый раз подобные спектакли игрались неожиданно. Я даже билеты не успевал на них купить, как меня сажали в первый ряд партера и заставляли принимать участие в этом иммерсивном действии. Это вам не Богомолов. Здесь все происходило быстро.
Как не закрытый гештальт были для меня слезы моей, как казалось тогда, первой любви Насти. Она плакала, а я не знал, что делать. Я и сейчас спустя годы понятия не имею, какую помощь оказывать, когда женщина рыдает. Рыдает, как будто оплакивает самого дорогого человека на свете, а она просто рассталась с парнем-подонком или потеряла солнечные очки. Спустя годы я понял, что чувствовала она тогда – отчаяние и пустоту, которую не заполнить и не излить слезами.
В последнее время я все чаще стал думать о том – существует ли возможность прожить всю жизнь с отвращением к происходящему? Трансформируется отвращение в пустоту, ну чтобы совсем без чувств жить? Это ли не смерть? Каждый человек сам решает, когда заканчивается его жизнь. Моя закончилась пять лет назад, когда я приехал на этот остров.
Барабанило со всех сторон. Оборонятся было бессмысленно. Как будто под конвоем дождя я шел в сторону «Скалы». Волнорезы разрывали волны на части, а ветер, словно играясь старался сделать их сильнее и выше. Не с первого раза, но если разбежаться получалось.
Все эти пять лет на острове я мечтал хоть с кем-то поговорить по душам. Ну, вот так по простому. Рассказать, о чем я думаю, когда смотрю на белое пасмурное небо или что мне хочется оставить в прошлом навсегда. Я хотел делиться тем, что «накипело». Но то что кипело внутри невозможно было выливать извне. Я такой возможности не имел.
Наверное, от невозможности говорить и случается эта тотальная пустота. Но, что я знал о других? Может быть, у тех бородатых мужиков, которые идут на завод внутри, между сердцем и разумом такая бездна, в которую бросаешь монетку и не слышишь, когда она ударяется о дно. Дна нет. И может быть, им не помогает разговор по душам и алкоголь давно не заменяет внутренний антисептик. Женщинам легче, они могут устраивать истерики и спектакли на публику. Думаю, что из этого эмоционального голода им проще выбираться, они внутри сильнее. Мужчине быть импульсивным – стыдно. Так говорили родители, друзья, общество, в конце концов так решило. Лучше быть пустым, чем живым.
Отец стремился воспитать во мне «нормального мужика». Как все. Как у дядь Васи с Красногвардейской, пацаны – и в спецназе служили и бизнес открыли. А то что одного потом в 90-ых посадили за организацию ОПГ, а второго в бане с тёлками расстреляли это папа не учел. Но надо отдать ему должное сильнее всего он хотел, чтобы я был просто счастливым человеком. А добьюсь успеха или не добьюсь его мало это волновало. «Не в деньгах счастье» – говорил он, пока мама не слышит. Успешным я так и не стал, собственно, как и счастливым тоже. Может быть, в мире существовал третий вариант оставаться в гармонии с собой, но этот третий вариант оказался не таким популярным.
По пути к «Скале», перед серпантином стоял синтоистский храм. На обочине дороги небольшой восточный домик – немногое, что осталось от пленных японцев. По большим праздникам здесь собирались все оставшиеся на острове японские ветераны и их дети. Собирались они всегда общиной, проводили факельные шествия и костюмированные парады. В финале вечера всегда был салют. На национальные японские праздники деньги выделял лично Кирилл Семенович Мацумуро – глава правительства Вэнсокго архипелага. Посыл его был следующий – только когда мы сможем убедить богов острова, что мы с ними заодно, вот тогда и сможем жить спокойно. Казалось ему, что бог воды все видит, бог земли все чувствует, бог воздуха все слышит и если они довольны, то жить можно спокойно, и ни одна катастрофа не страшна архипелагу.
Храм Мацумуро восстанавливал лично. Тем самым ему казалось, что духи помогут защитить завод по производству страшнейших орудий по защите страны. И вот тут получается – либо молиться, либо воевать. Мирно жить – это не про людей.
Отметился у Джуны Ювашевны и пошел в сторону вагонеток. Очередь была не большой. Войдя в скалу можно было спрятаться от дождя. Вокруг курили.
– Духи! – Похлопал по плечу Трынов.
Я резко обернулся, хотя его приближение не стало для меня неожиданным, я слышал.
– Чего? – не разобрал и поэтому переспросил.
– Духи хотят, чтобы мы закончили этот самолет. Осталось ерунда, а дождь по ходу на неделю затянется. Отложат испытания. Не станут.
– Но если хотят духи, то может…
– Если хочет Мацумуро. Что с тобой? – почувствовал он мой невроз.
– Слабость. Заболеваю, наверное.
– Острый грипп по островам ходит, Варя говорит. Какой-то рыбак из Вэна привез. Сколько можно нас травить? Они там опыты проводят свои, а мы дохнем как тараканы?! – негодовал, но без злости Трынов.
– Опыты? – Засмеялся я.
– А что ты не знаешь? Варя говорит по телевизору говорят, что американцы нас отравить хотят. И вообще на Вэне штаб секретной службы, думаешь, почему все болезни идут от них? Потому что опыты над людьми проводят. Уколы вкалывают, чипы в голову вставляют.
«Вот это фантазия» – подумал я, но промолчал.
– Не знал. Это по телевизору показывали?
– В «Фактуре» писали, что «Состав 17» – это самые дикие люди, которые безжалостны ко всему живому.
– Так и писали?
– Да, Варька сказала так.
Трынов был единственным с кем мне удалось подружиться на острове. Нас связала «Скала», авиационное топливо и мое горе. Он не умел поддерживать словами, но всегда помогал действиями. Это было ценное качество в людях, которое я уважал. Но, скорее всего, если бы мы встретились на материке, то дружба наша не сложилась. Мы были разные. Разные взгляды на жизнь, на общество, на семью и работу. Разный образ жизни и уровень мышления. Он, как местный житель островов остался в том советском прошлом, которое смастерило его из того что было. Иногда я чувствовал, что море внутри него пенится и его корабль желает вырваться наружу, но волны извне уже давно обрели такую мощь, что топили его корабли еще на берегу. Все-таки идиотом был тот, кто пытался уровнять людей. От осинки не родятся апельсинки. И если поэт не умеет закручивать болты – это не значит, что он руконепригодный, а это значит, что просто он этого не умеет и возможно даже не научится. Ровно, как и сантехник, который попытается написать поэму дактилем или амфибрахием. Безусловно, есть люди «комбо», которые и гайку закрутить и стихословие создать, но гений приходит в человека не с годами, а с рождением. И редко.
Мы сели по вагонеткам и состав тронулся. По темному, сырому тоннелю сначала медленно вниз, а потом резко вверх, как по серпантину. С непривычки, новеньких не редко укачивало. По бокам с правой стороны висели, как гирлянды лампы на веревке, чтобы освещать путь. По левую руку был обрыв огороженный железными ставнями. За мои годы работы не было, но «старички» поговаривали, что раньше, когда не было ставень, вагонетки переворачивались и люди разбивались улетая в пропасть. Их тела никто не доставал.
Вагонетка прибывала в центр четвертого корпуса и ехала обратно. Пять комплексов занимали почти две тысячи гектар под землей и для того, чтобы ускорить передвижение, в «складском» надо было взять мопед и доехать до нужного цеха.
В «токарском» всегда было жарко, поэтому через пару лет им разрешили прорубить в скале окно. Но она не всегда спасала от душного сжатого воздуха и запаха жженного металла. Дальше проезжая линию окончательной сборки и объезжая пластиковый забор обнесенный вокруг лабораторий экспериментального комплекса попадаешь в тоннель, который разделял лаборантов и ТЗК. Не доезжая пятого комплекса – попадаешь в длинный широкий темный коридор, который освещался только, когда самолет проезжал в заправочный комплекс. Ровно посередине этого коридора по правую руку был заезд, там мы в Трыновым оставляли мопеды, шли в раздевалку, надевали защитную экипировку с эмблемой флага страны и дальше ногами передвигались до своего цеха.
Первые пару месяцев работы в «Скале» дорога от центра до ТЗК казалась бесконечной. Какое-то время даже отказывался от обедов, потому что путь до столовой занимал двадцать минут, находилась она за инженерским комплексом. Дорога утомляла больше, чем работа. Но скоро привык и стал вникать во все запрещающие и разрешающие знаки встречающиеся на пути. Логистика была выстроена таким образом, что соблюдая все ограничения со скоростью 30 километров в час ты доезжал от одного конца завода в другого за двадцать минут. Дорога в пути в час обеденного перерыва не входила. Это я узнал позже.
И когда я понял всю схему работы «Скалы», в голове сложился пазл всей системности и всех действий каждого сотрудника завода. До меня дошло каким образом рассчитано время, чтобы каждые два года на свет появлялся новый ТУ -180. Конструктором завода был некий Клим Белоусов. Молодой инженер-разработчик и архитектор. В конце 80-ых годов попал в поле зрение советских спецслужб. Белоусов был слишком свободным, чтобы жить в Советском Союзе. Он собрал штат конструкторов и вместе с ними продумал работу будущего завода таким образом, что при сдачи не должно было остаться ни одной лишней детали, которую нужно будет утилизировать. Они продумали логистику передвижения таким образом, чтобы каждый корпус был автономен от других и пребывая в который ты не ехал в соседний, чтобы завершить работу. Нет – все четко. Здесь придумали, здесь собрали, здесь сдали. После того, как шахта была готова, Клим и его команда поставили срок постройки завода – 4 года. Они рассчитали все с учетом запаса времени на всё: вплоть до природных форс-мажоров, смены правительства и даже на случай войны. Но, как это и бывает, Белоусова слушать никто не стал и сроки сдачи объекта сократили до минимума – 2 года, отстранив от работы вольного конструктора. Клим не расстроился и в 2000 году покинул страну. Поселился в США, где развернул работу инженерно-конструкторского бюро и решительно отказался от страны – взяв американское гражданство.
Завод построили в 2002 году. Соблюдены были все схемы и чертежи продуманные конструкторами, но, в силу нехватки времени некоторые блоки строились в ночь до сдачи объекта. Поэтому, иногда можно было столкнуться с недочетами в виде проваленного конструктива, который от греха подальше залатали какой-нибудь дешевой обшивкой. Или, например, в заправочном комплексе отсутствовала часть под ремонтные работы в случае аварии. Просто не было пяти квадратных метров. На вопрос – а где площадь? Подрядчики ответили – не было прописано в договоре. Но, отменив ремонтную площадь строители оборудовали курилку. Неудобно ведь выезжать из «Скалы» обратным путем.
В общем, иногда мне казалась, хорошо, что Клим Белоусов никогда не сможет побывать на объекте, в который он вложил столько сил.
Если подняться по железной лестнице на уровень второго этажа и ввести пароль, то можно выйти на площадку закрытую козырьком с видом на Охотское море. Этот запасной выход спасал еще от постоянно жары в комплексе летом. Минус – спину постоянно продувал сквозняк. Плюс – в помещении не было запаха дыма. Я не курил. Не сложилось. Но еще все знали, что больше всего на свете табачный дым не переносит Левон Кириллович.
Директором «Скалы» был сын главы правительства Вэнского архипелага – Левон Кириллович Мацумуро. Так как территория была автономной, то и острова отдавать в Сахалинские владения никто не желал. С 1991 по 2000 года на архипелаге господствовала корейская мафия, которая опытным путем истребляла японских чиновников, чтобы завладеть территорией полностью. Но в нулевых, когда менялись властные структуры в центральной России, в тот же момент сменился и исполняющий обязанности главы архипелага. Спустя три месяца вся корейская мафия была изгнана с островов, лишь в тайной полиции оставался корейский военный сотрудник Чи Ше, который вот уже 12 лет работал на Россию. Полноценным повелителем островов Мацумуро стал 9 сентября 2000 года. Этот день принято считать Днем Островов.
Мацумуро – был потомком первых поселенцев. Мама Кирилла Семенович была русской, из аристократов. Ее привезли в 50-ые годы из Ленинграда, а отец из пленных японцев пожелавших остаться на островах, а не возвращаться на родину. Как говорит сам Кирилл Семенович, отец его был великим полководцем. Исторических подтверждений этого факта нет. До 16 лет Кирилл Семенович прожил на острове, и сменив имя в паспорте на Кэтсу Мацумуро уехал в Токио к дальним родственника отца. В Токийском университете получил юридическое образование на факультете права и управления, после вернулся на Утуру. В конце 70- ых прошел обучение в Ленинградском государственном университете им. Жданова и с того момента верил в безусловность своего успеха.
Карьеру строил стремительно. В 1988 году Кирилл Семенович становится первым советником главы Сахалинской области, в 1994 году попадает в Федеральный резерв кадров. В 2000 году занимает пост руководителя архипелага. С того времени народных выборов на острове не было. Не было и конкурентных игроков с кем можно было побороться за регион. Так считал он. Получалось скорее по-другому – конкуренция была, но внутри региона, жители острова про этих людей узнавать не успевали.
На архипелаге была специально создана и специально заверена президентским аппаратом своя собственная конституция. В нее вносились поправки каждые четыре года, потом срок правления увеличился, и поправки стали появляться реже. В этой конституции было прописано, что на должность главы Вэнского архипелага может вступить тот, кого лично назначит президент страны. В случае форс-мажора, несвоевременной кончины действующего главы правления – на пост вступает заместитель главы правительства. Устраивать бунты и перевороты люди острова давно не желали. Они помнили те времена, когда были в рабстве у островов, потом когда их зажимала корейская мафия. Денег не было, купить ничего не могли, запасов продовольствия на островах было катастрофически мало. Спасало рыболовство. И только когда пришел Мацумуро и дал им спокойную жизнь со средним достатком, люди выдохнули. Они почувствовали, что под ногами появилась земля и не нужно теперь ловить рыбу, чтобы выживать. Смирение – второе имя всех жителей островов. Этими людьми можно было управлять не подключая тайных полиций, средств массовой информации или духовенство. Девиз островитян был простой – «Хочешь жить хорошо – научись принимать все с благодарностью».
В демократичной стране, где-то среди двух морей существовала монархия. Не скажу, что меня это удивляло, но было в этой системе, что-то утопическое. Вполне себе здоровое общество без прививок либерализма.
Помимо того, что Кириллу Семеновичу принадлежали острова, как назначенному руководителю. Он беспокоясь о будущем, скупал акции больших предприятий на островах. Жизнь вне островов он не представлял. Ему принадлежали крупные торговые точки на Куру и Вэне, грузовые поставки с Большой Земли тоже были под его контролем. Но самой большой удачей он считал «Скалу», которая на 48% принадлежала ему, а точнее его сыну.
И все это он делал не для того, чтобы обеспечить себе безбедную старость на юге Японии, а для того, чтобы стать президентом России. Каждый раз делая шаг по карьерной лестнице вверх он думал, что вот здесь и можно остановиться, но каждый раз находил все новые и новые пути. Осталась одна ступень, и она вела в 2024 год. Он грезил инаугурацией и масштабными поправками в конституции. Целью своего правления Мацумуро ставил – навести порядок в стране. Единственное, что лично ему мешало быть первым лицом государства – его фамилия и происхождение. Но также он знал, что в любой документ нашей страны можно легко внести поправки.
У Кирилла Семеновича был не менее амбициозный сын Левон. Левон Кириллович девятнадцать лет руководил «Скалой». И не сказать, что он был безмерно рад этой должности, но и вне этой должности себя уже не представлял.
Кабинет директора находился на втором этаже центрального корпуса. Если войти в комнату попадаешь в секретариат, которым заправляла 22 летняя невестка главного бухгалтера Лилечка. А за крепкой деревянной дверью располагался сам Левон. Огромное, панорамное окно с видом на Японское море открывалось как раз напротив его рабочего стола. Зеленые ковры с толстым ворсом расстелены по полу, как островки.
Рядом с кабинетом Мацумуро по правую руку был офис главного бухгалтера Ляли Викторовны. Старая еврейская женщина с хитрыми ржавыми глазками-пуговками, с землистого цвета кожи рук и с вызывающе громким смехом. На работе она появлялась не часта. Она давно уже вышла на пенсию и все свободное время проводила во Владивостоке прилетая на острова только для дел особой важности. Ее Кирилл Семенович привез из Владивостока заведовать финансовыми делами. По левую руку от кабинета директора находился центр управления полетами.
Выходя из трех комнат, в самом центре возвышалась площадка протяженностью в три метра. Она ограждалась металлическим низким забором, который позволял видеть человека выступающего с этой трибуны. У края стоял микрофон для мотивирующих речей на общих собраниях, для публичной порки и для вызова сотрудников в кабинет.
Если смотреть с первого этажа на возвышенность, которая предназначалась для выступлений Левона Кирилловича, то вид с нее был примерно, как на выступлении Гитлера на X съезде НСДАП в Нюрнберге. Устрашающе. Речь Мацумуро была не самым захватывающим и приятным зрелищем. Помимо того, что директор не владел ораторскими способностями и словарный запас был его не велик, он еще и обладал рядом дефектов речи. Левон Кириллович имел очень быстрый разговорный темп, что не всегда позволяло уследить за ходом его мысли. Иногда, когда речь набирала скорость разгона, как на магистрали, то в щелки между двумя передними зубами попадал воздух и получался свист. Но свистел он только когда нервничал. А так как в кармане у Левона Кирилловича всегда было успокоительное, то с нервами ему удавалось справляться.
Все 730 дней минус выходные, пока самолет находился на сборке мы с Трыновым знали, чем себя занять. Чистить канистры, сварить бак, пробить засоры в шлангах, проконтролировать давление в цистернах с авиакеросином Т- 8B. Но конечно день, когда мы заправляли ТУ-180, был для нас особенным днем. Каждый запуск мы делили, кто-то брал на себя работу заправщика, а кто-то контролировал заправку из кабины. Интереснее конечно было находится внутри самолета, но если ты брал на себя обязанность заправлять, то плюс к твоей зарплате капало финансовое вознаграждение. Считалось, что это опасная работа. После запуска ТУ-180 почти полгода находился на базе. Военные продолжали его совершенствовать, поэтому эти полгода мы работали с утра до ночи в напряженном графике.
Последний месяц мы готовились к запуску нового бомбардировщика. В 2013 году, когда на Донбассе начались военные действия «Скалу» обязали выпускать по два самолета в два года. То есть параллельно шла подготовка двух «Орланов». В 2015 были выпущены два ТУ-180, следующая партия вышла в 2017 и на этой неделе мы запускали первый ТУ-180 2019 года. Из-за того, что объем работы увеличился, а рабочей силы не прибавилось производители просто не успевали к срокам произвести два самолета. Запуск второго бомбардировщика отложили на несколько месяцев.
За каждый выпущенный самолет все сотрудники завода получали премию в размере двух заработных плат, поэтому запуска каждого бомбардировщика все ждали с особым трепетом.
– В пятницу мимо почты шел. – Замялся Трынов, прокатывая очередную канистру к стене. – С Жанной все хорошо?
– Живее всех живых. – Не хотел о ней вслух. Утреннего представления вполне хватило.
– Не, у вас с ней хорошо?
– Да все нормально. Простудилась. Меня по ходу заразила.
Шмыгнул носом, чтобы быть честным.
– Я просто.
– Что-то случилось?
«Его что-то тревожит» – подумал я.
– Да, ладно. Нормально все.
«Она была не одна» – подумал я.
На столбе зазвонил дежурный телефон. Обычно он звонил при авариях, а аварии на производстве случались крайне редко или для личной встречи с руководителем. В этот раз так и было, звонила Лилечка.
– Илья, тебя Левон Кириллович вызывает.
– Иду.
Понятия не имел, что хотел от меня директор завода, но просто так он не желал видеть людей. Он вообще к людям относился с осторожностью. Так получилось, что у нас с ним сложились «свои» отношения и ненависти к себе я не чувствовал, хотя скорее всего она была. Я сел на мопед и через двадцать минут оказался в центральном, четвертом. Поднялся на второй этаж, прошел к Лилечке, тут же постучал в тяжелую деревянную дверь.
– Злой? – спросил я шепотом секретаршу.
– Не знаю. – Дернула она плечами.
– Хотя, что я, это его привычное состояние.
– Тссс. Тут везде, – показала она по сторонам на камеры и прослушки. – Левон Кириллович, к вам Томчук, как и просили. – Сказала она по громкой телефонной связи.
– Пусть проходит! – рявкнул директор.
Я снял обувь у входа в кабинет и в носках прошел по ворсистым коврам к столу за которым сидел начальник. В комнате было тихо, только шелест бумаги, которую медленно, как будто специально действуя на нервы, рвал Левон. Этот звук рвал барабанные перепонки изнутри на части.
– Вызывали?
– Вызывал.
Жестом показал, чтобы сел. Сел. Он медленно, нехотя поднял и без того узкие, еще и заплывшие от бессонницы глаза.
– Ты мне скажи, Томчук, вот какую вещь. Мы же с тобой ровесники, да?
– Ну, типа того, плюс-минус.
– Вот я девятнадцать лет пытаюсь делать, что-то для этой страны, для этого народа. Хотя вы и не мой народ.
Он встал и пошел в сторону окна. А за ним чайки из стороны в сторону летали не по доброй воле, а по воле ветра. Японское, разливалось до волнорезов.
– А что ты сделал для этой страны?
Задумался.
– Ну, я помогаю вашему заводу беспрерывно функционировать. Например.
Он встал у окна, я обернулся.
– Знаешь, сколько никчемных людей работает в «Скале»?
– В процентном соотношении или вас интересует точное количество?
– Хм. – Ответ его явно удовлетворил. – Я о том, что ты умный мужик, а до сих пор моешь канистры.
– Это не главная моя задача на этом заводе. Я еще контролирую давление в датчиках, заливаю топливо в самолеты. Работы много, я не жалуюсь.
Соврал. Работы было не много. Я ее ненавидел.
– Нравится?
– Ну, это же работа.
– Правильно, Томчук! Главное исполнять свой долг и тогда может жизнь во всей стране наладится. А то видишь, что на материке происходит, все жалуются, только и жалуются, а если бы работали, а не бездельничали, то времени на это безобразие не было. Все рвутся в правители, а в головах пусто у них, Томчук.
Он резко обернулся.
– Закрой глаза! – Дал команду.
«Опасность» – подумал я, но команду исполнил.
– Какого цвета ковры на полу?
– Зеленые, с коричневыми вставками.
– Что стоит на моем столе?
– Справа ежедневник, подставка под документы, лампа коричневая. Слева перьевая ручка на подставке, телефон.
– Что на центральной стене?
– Президент и Кирилл Семенович.
– Угу.
Левон Кириллович прошел к своему столу и сел обратно в кресло.
– Что на мне надето?
Задумался. Если обстановку не меняющуюся годами я мог вспомнить по памяти. Это запомнить было не сложно, то чтобы вспомнить во что одет Мацумуро надо было поднапрячься. Точно помнил, что на нем был серый костюм, черная рубашка, брюки подшиты неровно, плохой крой. Галстук бордового цвета, ноги босые. Я вспомнил, как он был одет, но ответил:
– В новом, наверное. Не помню. Не разглядывал.
Мацумуро рассмеялся в голос и меня чуть отпустило.
– Справился.
– Открою?
– Открывай.
С открытыми, он выглядел приятнее, чем его голос в темноте.
– Кто крысит на заводе?
Внутри сжалось, на пару тройку секунд, впал в кому без движений сидел, не издавая звуков, не дыша, казалось. Главное уметь держать лицо – так нас учили в Академии. Быть убежденным в своих словах.
– Завелись крысы? Только же летом травили!
– Идиот, Томчук! – Ударил он по столу кулаком. – В «Фактуре» появилась статья, ты ее уже, скорее всего видел.
– Ну, читал.
– Там Топольницкий в очередной раз пишет бред. Пишет, что Кирилл Семенович пытается продать вторую часть завода. Томчук, у моего отца нет красной кнопки и нет даже такой возможности ей завладеть.
– У Кирилла Семеновича проблемы?
– Нет у него никаких проблем! – резко сорвался на крик Левон и снова глотнул воздух. Нервничал. – Я уважаю журналиста Топольницкого, но только когда эта тварь не лезет в жизнь моей семьи без моего ведома. А про Корею читал?
– О том, что детали снова поступают из Кореи? Видел. Но зачем читать то, что заведомо неправда. Я же уверен, что все наши самолеты строят из деталей, которые разработаны на территории страны. Я знаю, кто их строит. Знаю как. И даже знаю в лицо тех, кто заправляет эти самолеты.
Он снова встал. Не сиделось. Подошел к окну и уставился в море.
– Мне нужна твоя помощь. – Просвистел он сквозь щель в зубах.
– Если нужна – помогу.
– Мне нужно, чтобы ты держал на контроле Трынова.
– Зачем? – вот здесь я удивился, и это отразилось на мимике лица. Хорошо, что Левон стоял спиной.
– Вопросы тут задаю я. Мне нужна вся информация о нем: что делает на работе, как проводит свободное время, на что тратит деньги.
Эту информацию я знал и без слежки за товарищем. Достаточно было один раз поговорить с его женой и проследить за его медленными передвижениями по заводу.
– Он сливает информацию!
– В «Фактуру»? – усомнился я в холодном разуме директора.
– Везде! Сливают информацию везде! И в «Фактуру» тоже! – кричал он и топал ногами уже. – Я требую ответ! Ты готов?
– Да, готов я, готов.
Стоило бы мне один раз отказать Мацумуро, то я тут же вылетел с работы. Этого произойти не должно было. За три года я научился вещам, которыми бы никогда не смог заниматься по собственному желанию, я выстроил отношения с коллективом и руководством, я в принципе не плохо зарабатывал по местным меркам – полторы тысячи долларов в месяц. И вот так одним отказом все перечеркнуть я не мог. Не имел полномочий.
– Я в долгу не останусь, Томчук. Я же на твоей стороне. Я помню все что ты для меня сделал. – он смотрел, казалось бы в меня, читал меня изнутри, как будто сейсмическое волнение прошло по всему телу.
– Я понял. Я помогу.
Медленно встал, чтобы не вызвать повторный всплеск гнева. Задом неспешно двигался к выходу.
– Ты уважал своего отца, Томчук?
– Уважал.
– Вот и я уважаю. И никто не сможет меня сломить.
– Согласен. Вам есть чем гордиться. Ну, я пойду?
– Иди.
Вышел и плотнее запер дверь, чтобы не вернуться. Чтобы не вернул. В теории я понимал, что задумал Мацумуро, но пока до конца не мог сложить мозаику из людей. Он пытался вычислить того, кто сливает информацию из «Скалы» «Составу 17», но не мог понять, кто из работников может оказаться шпионом. Такой шпион мог находиться в каждом корпусе. В каждом из корпусов мог находится завербованный лазутчик, который доносил информацию о жизни правящей семьи не только в независимую «Фактуру», но и во внутреннюю полицию и там уж подробности были гораздо интереснее, чем в СМИ.
Ненависть к острову раздувалась во мне постепенно, как воздушный шар, который надувают до состояния «лопнуть». И вот, последний глоток воздуха и ошметки латекса прилипают к стенкам моего внутреннего начала. Того начала, которое заставляло меня малодушничать, врать, играть в игры без правил, жить по чужим правилам. Конечно, я знал, кто сливает информацию.
У Трынова была система, как расставить канистры так, чтобы потом удобнее было заправлять бомбардировщики. Первыми шли синие по 216 литров, они расставлялись у стены, дальше красные по 100 литров, потом по 50 желтые и по 20 белые выстраивались у точки, где останавливался самолет. Габаритные канистры передвигали гидравлическими подъемниками, а вот от 50 литров уже катали вручную. Сегодня заканчивали расставлять 20-литражные, и по большому счету в нашем цехе до запуска самолета все было готово.
– Что опять хотел? – спросил по приезду в цех Трынов.
– Мне кажется, у него крыша поехала.
– Он же наглухо отбитый.
– Не в отца. – Подчеркнул я.
– Мацумуро мог быть нормальным мужиком, если бы не стал чиновником.
– Чиновник убил человека. Хорошее название для книги.
Андрей повернул боком последнюю двадцатилитровую канистру и рывками стал подкатывать к моей, на которую я уселся сверху.
– Книги? – ему стало смешно.
– Когда-нибудь Мацумуро выйдет на пенсию и напишет книгу о том, как он стал президентом.
– Из него мог бы выйти хороший президент, если бы он перестал думать, что он царь.
– А я бы за него проголосовал. – Признался я и был честен в своем выборе.
Подстраиваться – вот главное качество любого островитянина. Умеешь приспосабливаться под условия жизни, погоду и политический строй – ты непотопляемый. Идешь против системы – лучшее, что может с тобой случится, это ты вернешься на материк. Я был точно таким же приспособленцем, как и большинство жителей на этих островах.
В 16.35 мы с Трыновым и лаборанты складывали обязанности в шкафчики для переодевания и ехали к выходу. Подъем на землю был также правильно логически вытроен, как и все передвижение на заводе. Первым уезжал центральный четвертый цех, потом уезжали мы, как самые дальне расположенные, потом уезжали токари и инженеры. Время работы каждого корпуса было разным. Последние инженеры, начинали работать с 9 и завершали день в 18.00. Так все успевали спуститься в «Скалу» без пробок и также без пробок подняться.
После 17 часов наступало время личной свободы. Обычно на выходе мы собирались толпой, человек по 12 и шли в сторону города и уже дальше разбредались по домам. Толпами ходили осознанно, потому что можно было встретить медведя или лису. Бывало, что на одиночек звери нападали, группы не трогали.
После серпантина я свернул на Азовскую и пошел в сторону причала. Море синхронизировалось с ветром и как будто продолжало с ним ругаться. Они не могли что-то поделить уже пару дней, скандал затягивался. Дождь прекратился еще днем, и к вечеру подсушил асфальт и песок. В теплые дни на пирсах сидели рыбаки и на удочку ловили фугу или камбалу к ужину, сегодня пирс был пустой. Смеркалось и в центре города зажигались яркие фонари. Со стороны Вэна плавно по морю скользил луч маяка. Сегодня только он подавал признаки жизни. Осень была комой в которую впадал остров до весны.
Я сел на сухую часть пирса, до которой не долетали волны. Зажмурил глаза, как будто весь день держался и под конец сдался. Не выдержал. Ослаб. Под закрытыми веками скапливались слезы. Стоило их открыть, и они бы потекли по щекам, и может быть, на губы. Отчаяние на вкус соленое.
Мне 35 лет, а я ребенок, который боится признаться себе в страхах перед жизнью. Я ничего не добился, не сделал важных открытий, и смысла в этом существовании по сути-то и нет. Вопросы кружились чайками в голове: Зачем мне нужен был этот остров? Зачем эта работа? Эти люди? Эта жизнь? Мне бы взять и в Японское с разбегу не задерживая дыхания, но на берегу, что-то удерживало. Крепко прибивало ко дну якорем.
Снова забрызгало с неба. Я встал, отряхнул пыль с джинсов и пошел в сторону центра. Единственная к кому мне всегда хотелось прийти – была она. Всего один человек на всем белом свете делал мою жизнь не такой бессмысленной. Одна женщина во всем мире. Во всем.
ВЛАДИМИР ТОПОЛЬНИЦКИЙ
– Володенька, ты когда уже паспорт свой мне дашь? Сколько можно! – негодовала и делала это ужасающе медленно старинная бухгалтерша тетя Маша. – Я же тебе уже говорила, что без документа не имею права выписывать на тебя деньги. А вы же молодые что, только за деньги и работаете. Вот скажи тебе, что не будет получки, ты и писать откажешься. А не будешь писать- не будет газетенки вашей, а без газетенки я не получу зарплату.
– Да, принесу, теть Маш, забыл.
– И что мне тебя, как писать?
– Володей Топольницким – лучшим на свете журналистом всех времен и народов.
– Сколько же в тебе гордыни, Володенька. Высоко взлетишь, да больно падать будет. Вас вон по очереди ко мне самых лучших приходит. А все лучшими быть не могут.
– Тетя Машенька, дорогая, держи конфетку, – вытащил я из кармана карамельку. Карамельки помогают завести разговор с детьми и женщинами, ну вот иногда еще и задобрить. – Дай подписать и пойду я, а то этот злиться начнет.
– За что тебе тут вообще платят? На работе появляешься по выходным, все время опаздываешь. Как можно опоздать, когда у тебя все по расписанию? Безобразие какое-то. – Монотонно читала морали. Это были бесконечные морали бухгалтерши.
Теть Маша была человеком одиноким, ограниченным в общении, поэтому наши встречи были для нее отдушиной. Выписывая платежки за публикации, она старалась сделать этот процесс длиннее, чтобы поговорить со мной и другими корреспондентами, обсудить новости или слухи, рассказать, какое время было раньше золотое, а сейчас – ну так себе.
– Мы если приходили в 8 утра, то уходили в 5 вечера. И так каждый день. А попробуй опоздать – выговор. Опоздаешь три раза – увольнение. А у вас все легко: захотел пришел, захотел не пришел. Никакой дисциплины. У меня знаешь, как покойный муж сыновей воспитывал? Будил их каждый день в пять утра и по острову круги наматывать пока они не проснуться, а если проснулись, то и день у них заладится. В 9 вечера уже по норкам разбегались. Сопели, как хорьки. Вот это дисциплина, а не вот эти ваши посиделки с семечками. Раньше журналисты другие были – только правду писали, а теперь Мацумуро – вор, Мацумуро – обманщик. А что вам этот Мацумуро сделал – вы при корейцах не жили!
– Так я же только правду, теть Маш.
– Да, где-то наковыряешь, как шпиён кусками, а потом весь Вэн трубит, что Кирилл Семенович – змеевский сын, а он может посланник, чтобы сделать нашу жизнь на островах лучше.
– Так этот ваш спаситель крышу мне залатать не может, что не дождь, то мне на голову.
– А что ему до твоей крыши? Он что обо всех думать должен? – сердилась она. – У него дел по горло, а еще и ты тут со своей крышей. Не один такой! Подписывай!
Кинула она бумажку на стол.
Тетья Маша была вот уже давно на пенсии. В свои восемьдесят три, чтобы не сидеть без дела согласилась за небольшое вознаграждение сводить дебет-кредит для медиагруппы «Фактура». «Фактура» существовала на островах двадцать четыре года. Сначала, как газетенка в две полосы, в которой пописывали о рыболовстве на островах. С годами полос становилось больше, финансовые вложения со стороны власти случались чаще, темы острее. Потом власть сменилась и финансирование вместе с ним, а уже в начале двухтысячных владелец газеты «Фактура» открыл свой телеканал, позже интернет портал и уже к 2010 году стал полноценной независимой единицей, которая могла содержать сама себя. Все на островах знали, что на Куру по Южной улице в древнейшем, слегка покосившемся вбок городском здании, есть офис. В этом закрытом офисе иногда появляются люди – внештатные корреспонденты, которые работают на бывшего советника главы Правительства Вэнского архипелага Ивана Юрьевича Прохорова.
– Топольницкий, где ты застрял?! – раздался рев из соседней комнаты.
Ревел бессменный шеф-редактор медиагруппы Камал Зискин. Это он из жалкой двухполоски создал целую медиа империю, которая, как медуза запускала свои щупальца на вражеские территории, тем самым, текстами заслужив доверие людей на острове.
Здание поджигали, выкрадывали документацию, с оружием врывались в офис. Четыре раза редакция начинала все с нуля. Четыре раза Зискин попадал в больницу с инсультом. И только, когда на остров пришел стабильный интернет с выходом на Большую Землю, а владелец компании Прохоров уехал на материк, сняв с себя все политические обязанности – редакция обрела новый вид оружия – «сеть». «Фактура» – так назвали интернет портал, телеграмм и ютюб каналы. Главной целью «Фактуры» была правда. Все чего не замечали люди, замечали журналисты и раскачивали эту тихо покачивающуюся лодку на легких волнах. «Только правда и ничего, кроме правды» – частенько пользовался убеждающей цитатой Зискин в своих рекламных роликах, а сам доставал эту правду за счет того, что распускал длинные липкие нити своих щупалец, чтобы обезвредить, обездвижить и запутать. Люди ушли в интернет и вся его печатная деятельность сократилась вдвое. Он снова вернулся от альманаха к двухполоске.
Лозунги – «Откройте глаза!», «Мы часть России!», «Молчать, значит смириться» стали визитной карточкой «Фактуры». СМИ призывала бороться со всем бесправием, которое творилось на острове. Писало о чиновниках и местном самоуправлении, о бизнесе и ограничениях законодательства, о собственно написанном законодательстве. Все призывы начинались с фраз – «Долой монархию и авторитаризм!».
Несмотря на то, что люди на островах раскачивались в лодке не охотно, скорее, даже не раскачивались, а пытались сами остановить эту волну недовольства властью, все равно статей «Фактуры» ждали с нетерпением. Потом на кухне обсуждали происходящее, но решать коллективно санкционированными митингами проблему не шли. Все проблемы оставались за дверью каждой квартиры.
Завоевав молодежную аудиторию Зискин предложил отказаться от еженедельных публикаций и новостей, а перейти в свободный график. Так, считал он, людей читающих «Фактуру» станет еще больше. Ведь каждый выход подкастов и статей станет сенсацией.
– Я что всегда орать должен? – Рев переходил в рык.
– Да что же это такое! Тёть Маш, рассчитай уже.
– Это тебе, сынок, наказание за несоблюдение рабочего режима.
Зискин был невыносимым. Мне всегда казалось, что таким он стал не сразу. Ну, скорее всего было так: жил себе хороший корреспондент Камал, потом ему дали в руки власть, сказали, что он самый лучший, а самый лучший среди кого не сказали. И понеслось. Власть сконцентрировалась в одних руках, и Камал понял, что отпустить это не может, ведь никто же не справится лучше, чем он. Поэтому и руководил бессменно, поэтому и грыз нервно на планерках края стакана. «Стакан» – так называли его в кулуарах внештатники. Конечно же он знал об этом нелепом прозвище, но относился к нему смиренно. А вот за грамматические ошибки в текстах готов был вести на эшафот лично.
– Володя! – Ревел он.
Успокоился, когда увидел, как в кабинете появляются закрученные кверху усы. Сначала всегда входили мои усы, потом уже я. Так было безопаснее, так я мог в случае чего увернуться, если бы в дверь полетел предмет.
– Ты мне что повторение – мать учение хочешь устроить! Какие детали из Кореи? Он что дебил по твоему, чтобы снова на этом пойматься?
– Камалка, – так ласково он позволял называть его только мне. Но это не делало его мягче, скорее давало еще одну причину для бешенства. – Все же просто – он давно промышляет корейскими деталями, а наши заводы стоят. Нет, конечно, Левончик не дурак и второй раз не попадется, но это было обоюдное решение всей семьи. Экономия на деталях дает возможность Кириллу Семеновичу оплачивать долги. Вот, отсканил тебе.
Положил я перед ним документ, который добыл в «Скале».
– Внешний долг еще не погашен?
– Нет конечно. Мацумуро дел наворотил таких, что еще пару президентских сроков расхлебывать. Смотри, часть он заказывает в Корее, часть в Рязани. Почему так? Потому что, кому-то попало по голове на прошлом собрании аппарата президента. Логично?
– Усы закрутились. – Уголок губ Зискина дернулся.
– Но есть еще одна маленькая деталь.
– Корейская?
– Нет, она российского производства. Любовница Мацумуро старшего Елизавета Гольдман – бизнес-леди из центральной части страны. Поговаривают, что между этой пышногрудой отчаянной кооперативщицей и главой нашего правительства «чивава».
– Спит что ль с ней?
– Но это всего лишь слухи, а мы слухам не верим. А верим лишь документам – вот еще один подтверждающий то, что дама желает выкупить вторую часть завода. Переговоры в процессе переговоров.
– Не плохо.
– Кофе надо? – Без стука в дверь вошла тетя Маша.
– Когда мне что-то надо будет я вас позову, и нечего врываться в мой кабинет! – крикнул басом Зискин, не успев набрать воздуха в легкие. Чуть не подавился собственной злостью.
Зискин был слаб перед одним единственным человеком – перед Прохоровым. Казалось, что Иван Юрьевич тогда, в начале двухтысячных годов завладел душой и телом этого несчастного журналиста. Он и спиной и грудью прикрывал тыл и держал оборону, когда на редакцию шли с оружием. Несмотря на все сложности ведения независимых изданий Зискин имел за это не плохие бонусы. Мало того, что квартира Зискина на островах была его личной собственностью, а не собственностью государства, так еще у него во владении была трехкомнатная квартира на материке. Никто не знал в каком из городов большой страны, но она точно была и он мог в любой момент бросить «Фактуру» и уехать жить на Большую Землю. Это была договоренность с Прохоровым. Помимо свободы личной, он имел свободу писательскую. В стране его книги были известны под псевдонимом Игнат Алферов. Конечно же ходили слухи в СМИ, которые он сам про себя и распускал, что на самом деле никакого Алферова не существует, а все эти фантастические тексты о либеральных островах (а писал он в своих книгах исключительно о личной свободе человека) пишет целая группа литературных рабов. Его это особенно забавляло – быть не найденным.
Зискин мог почти все. Одно из правил с Прохоровым было таким – увольнять Зискин не может никого из подобранных корреспондентов. Все журналисты проходили обязательное собеседование с Иваном Юрьевичем. Камал мог бросаться предметами в стену, орать, испуская огонь из себя, рвать тексты с самыми горячими темами, но уволить не мог.
Это развязывало руки по локоть.
Долго я не мог понять в чем беда и внутреннее волнение этого человека. И только спустя года три понял, что это всего лишь на всего страх. Страх потерять власть, работу, вес в обществе все это конечно тяжелой бетонной плитой давило на голову Зискина. Имея возможность бежать с острова, он где-то подхватил Стокгольмский синдром и вот уже двадцать лет не мог от него излечиться. Хотя, скорее всего, это тоже был страх – тебе говорят: «беги», а в ответ: «ну, как же вы без меня?». Но без него было бы легче. Точно. Никто бы из корреспондентов даже не расстроился.
Порой мне казалось, что я такой же, как и он неуравновешенный гений и на его звонки в пять утра с криками «опять все просрали», бежал писать очередную статью. Статье ничего не стоило бы подождать до утра, но нет, я считал, как и Зискин, чем быстрее – тем лучше. Не всегда качественнее, но зато сделано заранее.
– Встречался с Прохоровым в пятницу. Все ждут федерального собрания. В январе будет.
– Ну.
– В январе они вступают в гонку.
– Мацумуро и Прохоров? – Намеренно упустил третьего кандидата.
– Смолин еще. Иван Юрьевич не думает, что вступят в игру все трое, скорее всего остаться должен будет один.
– А остальные?
– А остальные самоликвидируются.
– Так может на «камень-ножницы-бумага»?
– Топольницкий, ты должен почувствовать вкус власти, чтобы написать о ней.
– Вчера на Вэне был, там ребята хипстеры с материка крутую пончиковую замутили. С малиной вкусные очень. Долго выбирал – малина или ежевика. Не прогадал. Я так давно не ел малину.
– Ты что несешь, Вова?
– Бабушка моя жила в Подмосковье, малину домой носила из леса. Лес такой большой был, сосновый и березы были. Вырубили на фиг. Дома построили.
– Володя, ты идиот. Ты можешь серьезно относиться к тому куда тебе надо попасть. Мацумуро в руках, а где Смолин? Мне нужна информация о Смолине.
– Предлагаешь завербовать меня в «Состав 17»? – рассмеялся я в лицо. – Это нереально.
– Нет такого слова. Есть слово – не хочу. Помнишь был Слава Яровой был?
– Ты его уволил.
– Не я его уволил, но не суть. А ты знаешь, что он теперь имеет отношение к «Составу»?
– Каким боком?
– Понятия не имею, каким боком он куда пристроился, но я видел их со Смолиным в Южно-Сахалинске.
– Любопытно.
– Любопытно за белочками весной наблюдать, а твое дело стать частью системы! Понял?
– Так, вот, когда весь лес вырубили, я так расстроился. Вроде мужик взрослый, высшее образование получал, а малины не хватало. Бывает же так.
– Я тебя уволю, Володя.
– Не уволишь, Камалка.
Зискин был спокоен. Но это спокойствие означало, что в любой момент его может прорвать на крик. Непредсказуемость – второе имя нервозных людей.
– Смолин опаснее Мацумуро, но Мацумуро в приоритете у президента.
– Хочешь, я напишу, что Мацумуро халтурщик и делаем самолеты с браком и что хочет разнести эту землю к чертям?
– Смолин?
– А Смолин с ним заодно.
– Ну, бред же, Володь. Все знают, что эти трое хотят взойти на трон и каждый работает сам на себя. Что там с любовницей Мацумуро?
– Ей лет 35 и скорее всего она делала подтяжку. Они встречались на прошлой неделе в «Скале», чтобы обсудить передачу завода этой прекрасной даме. Но дама не промах и запросила акции не только Мацумуро, но и правительства.
– А наследник куда?
– А наследник против. Наследник не желает отдавать свою часть.
– Как он ее нашел?
– Они с Кирилл Семеновичем познакомились во Владивостоке на экономическом форуме. Сама барышня из строительных кругов, имеет несколько жилых комплексов. Комплексов нет. Если бы ты видел ее сиськи.
– Наработала на завод?
– Но это еще не все. У гражданки Гольдман есть сеть ювелирных магазинов «Турмалин» по всей стране. До 2016 года магазины принадлежали господину Лазареву.
– Лазарев, который Лазарев?
– Который руководит департаментом инфраструктур. Так вот в 2016 году Лазарев заступает на государственную службу и переписывает все на Гольдман.
– Вот ведьма.
– Я тебе все прописал. – Ткнул ручкой в текст, который лежал перед ним на столе.
– Мы не можем об этом писать. Есть правила, которые нарушать нельзя. – вдруг осекся Камал.
– Ну «почикай» там, как ты любишь. Слов красивых добавь или не добавь. Вот тебе статья – делай с ней, что душе твоей угодно. Можешь даже заголовок другой придумать. Ты шеф, тебе можно.
– Уходи.
Зискин задумался и опустил глаза в текст. И пока было не поздно, и он не стал взял в руку ручку, надо было быстрее уходить. Уходить с работы я умел быстрее, чем приходить. Поправил усы и вылетел пулей из кабинета. Уже на выходе, на ходу замотал горло широким шарфом, поправил подогнутые джинсы на щиколотках и пошел навстречу ураганному ветру.
Я очень любил привлекать к себе внимание. Иногда хотелось кричать, что все самые крутые статьи «Фактуры» – мои. Но не мог. Никто не должен был знать, что я журналист. Вообще, все кто работали в «Фактуре» на удаленке не раскрывали своих лиц. Я не был знаком ни с одним из четырех корреспондентов числившихся в издании. Иногда казалось, что их не существует, но в таком случае могло не существовать и меня.
В «Фактуре» не было штатных сотрудников. В 2008 году в офис ворвались и расстреляли пятерых журналистов. Зискина не тронули. С того момента Камал отказался держать в редакции людей. Только засекреченные внештатники. Предположительно еще один корр жил на архипелаге, остальные обитали на материке. Нас не знали в лицо, но узнавали по стилистическому подчерку в текстах. Ну и иногда по голосу сотрудники «Состава 17».
Пошел вдоль Южной и свернул на Тихую, чтобы вернуться к последнему отправлению катера на Утуру. Оставалось двадцать минут, я успевал. Прошел вдоль разноцветных домиков в два этажа свернул на Балтийскую, казалось с той стороны не будет так задувать ветер под джинсы. Западная часть острова всегда как будто продувалась не так сильно.
Я запрыгнул в катер, отдал рулевому всю мелочь из карманов и сел в хвосте, чтобы не привлекать внимание. Море волновалось и ругалось с ветром. Штормило. Салон был теплый и разогретый, поэтому сразу клонило в сон.
– Завтра дождь обещают. – В катере нас было двое: я и капитан. Играл джаз, что удивительно для местных водил. Хороший музыкальный вкус был далеко не у всех. Крис Ботти щекотал, где-то под легкими. Хотелось вдохнуть глубоко его музыку в себя.
– Ну, скорее всего. – Разговаривать не хотелось. Но очень хотелось подпеть ветру, как будто встать на его сторону, чтобы этот скандал между морем и ветром прекратился уже дождем.
В 19.00 катер тронулся с места. Водный транспорт отправлялся всегда по расписанию. Никто никого не ждал. Опоздал – остался на острове. Дальше сам. В последние рейсы людей всегда было мало. Сегодня я был один.
Я закрыл глаза и стал слушать звуки.
Когда мне было тринадцать лет, я стал печатать свои статьи в школьной газете. Мы издавали настоящую печатную. Классный руководитель Михаил Александрович Довнар был человеком строгим, но увлеченным. Он водил нас в театры, на выставки, в свободное от учебы время собирал мальчишек в поход. Девчонок брали редко – жалели.
Однажды мы пошли в поход в леса под Калугой. Долго ехали на электричке с музыкантами, потом на автобусе с бабульками и их тесемками, затем, три километра шли пешком. Так Михаил Александрович проверял нас на прочность. Кто-то уже в электричке начинал ныть, съедая все запасы еды на день, кто-то на втором километре в лесу выбрасывал содержимое рюкзаков. Казалось бы, не важного, но потом все потребности возвращались и приходилось возвращаться обратно на километр, чтобы забирать выброшенное. А мне все это нравилось. В школе у меня был приятель Дэн и мы с ним специально набирали побольше еды, банок с тушенкой и сгущенкой, чтобы тяжелее тащить. Перед отъездом мерялись рюкзаками у кого тяжелее и ставили условие – кто снимет первый, тот проиграл. Трофеев особо не было, ну жвачка или фантики какие-то, а вот азарт был лучшей добычей в этой игре. Я ни разу не проиграл.
Мы тогда дошли до локации уже полумертвые и Довнар строго, по-военному дал команду:
– Палатки! Костер! Еда!
Мы на последнем издыхании выполняли приказ, спать на земле не хотелось. Михаил Александрович слабость не терпел и воспитывал эту нелюбовь в нас. Четыре дня похода мы занимались очень важными, как говорил он, вещами – ходили в деревню в пяти километрах от нашей стоянки и помогали пенсионерам вскапывать землю, убирать коровники, строить и прибивать доски в сараях. По возвращению имели целый свободный час, который тратили на ледяную речку, в нее ныряли с головой. Довнар в воду не заходил, но всегда интересовался.
– Холодно?
Правду ему, конечно же, никто не говорил. После закаливания, по -другому это было назвать нельзя, мы разжигали костер и готовили ужин. По вечерам Михаил Александрович доставал толстую книгу Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны» и мы по очереди читали ее вслух. Перед тем, как провалиться в сон представляли себя Максимами Исаевыми завербованными в штандартенфюреры СС. Мы все тогда мечтали быть разведчиками.
По возвращению из похода я написал очерк на целый газетный разворот. Это была моя самая большая статья. Только по приезду мы с ребятами поняли сколько пользы принесли этой деревне, а деревня принесла пользу нам. Мы учились работать.
Мой очерк вдохновил мальчишек и мы пришли к Довнару с предложением создать школьную газету. Михаил Александрович пошел к директору, который с неохотой, но договорился с типографией, мы с одноклассниками нашли верстальщика и получили свободу в общении с читателями. Я тогда, наверное, впервые понял, как СМИ может влить на общественное мнение и на взгляды людей. А еще – журналистика, хоть и наша маленькая, но все же она была конкурентной, и каждый из 11 мальчишек нашего класса бился за главную полосу острыми репортажами и очерками.
Писали обо всем – о новых открытиях в мире и школе, об учителях и учениках, о конфликтах и их решениях. Мы призывали быть честными и добрыми. Потом, когда полос стало не две, а четыре ввели рубрику «объявления» – там ребята могли отдавать старые рюкзаки и книги и обменивать это все на диски с «Depeche Mode» и «Наутилиус Пампилиус».
Уже, когда подрос, отец рассказал, что хранил все наши газеты, а мои статьи обводил карандашом и носил на работу читать друзьям. Он гордился мной.
– Складно как выходит у тебя.
Папа настаивал на том, чтобы я писал. И я писал. Это было не в тягость, в удовольствие.
А потом Михаила Александровича сбила машина. Он ехал на велосипеде, на дачу и на влажную обочину занесло Вольву. Насмерть оба.
Нам, конечно, потом не хватало его поддержки, но дело начатое с учителем мы не бросили. Нам дали другого педагога Нину Борисовну и вот тут началась война за свободу слова. Борисовна требовала писать «на заказ» – про отремонтированный подоконник, про нововведения в школьном образовании, про новые занавески в актовом зале. При этом обещала, что будет выдвигать нас на городские профессиональные писательские конкурсы. Я ушел первый. Если еще какое-то время я держался и писал, думал, ну вот-вот все изменится, то потом понял, что не будет ни конкурсов, ни старых интересных всей школе тем и публикаций. Мне было плохо от того, что я пишу то, о чем писать мне неприятно. Это был не я. Как можно заставить человека есть свеклу, если он не любит свеклу? Казалось мне. С возрастом понял – можно заставить человека делать все что угодно и есть все что угодно без удовольствия. Хотя свекла полезная. Но в первую очередь я писал для себя и знал, что если тексты нравятся мне, то они понравятся и моему читателю. Я получал невероятное удовольствие от того, что строил предложения не по законам русского языка, но строил их так красиво, что педагоги не могли к ним придраться. Придумывал свои аббревиатуры и неологизмы, которые мгновенно разлетались по школе цитатами. И если тогда, в нашей газете я был самым крутым, то с приходом Борисовны я стал никем. Поэтому ушел.
Продолжал писать какое-то время в стол, иногда выбрасывал тексты в интернет, но все это было не то, не было отдачи. Отцу нравилось. Он был моим единственным читателем. Но в тот момент я был пуст от невозможности раскрываться перед самим собой в словах.
Когда переехал на остров, то какое-то время писал заказные статейки для интернета, чтобы позабавить архипелаг. Прохоров читал все мои тексты и лично назначил встречу в офисе «Фактуры». Через сорок минут интереснейшей беседы я стал светочем слова Володей Топольницким. Как выглядит Володя на острове никто не знал. Нет лица- нет проблемы, считал Иван Юрьевич.
Через два года сотрудничества с «Фактурой» все стало меняться. Вместо веселых сенсационных очерков я стал писать разгромные расследовательские репортажи. Главным персонажем всех моих публикаций стал глава правительства Вэнского архипелага Кирилл Семенович Мацумуро. Сейчас мне уже казалось, что за три года еженедельных, реже ежемесячных публикаций я знал о нем все. Родословную, налоговую историю, все политические промахи и победы, его друзей и любовниц. Знал, что он ест на завтрак и где отдыхает в отпуске. Думаю, если бы Кирилл Семенович узнал меня в лицо, то тут же скормил крабам. Каждый раз, публикуя статью мне становилось искренне жаль главу. Но как же я радовался, когда получал фидбэки от его помощников и пресс-службы, которые оправдывались в островных СМИ.
Катер ударился дном о берег. Прибыли. Я открыл глаза, и сон унесло ветром в море. Уже было около восьми вечера. За окном остров, как большая черепаха выступала из воды освещая фонарями набережную и наш путь по воде. Остров застыл. Столько уже всего было связано с этим клочком земли. Сколько было планов, когда я сюда приехал и сколько разочарований осталось позади. Мне не нравилась моя работа и все что я делаю, это я мог сказать точно. Но остров мне был дорог, что ли. Долго не мог понять, почему японцы так агрессивно мерзко отзываются о Вэнском архипелаге, почему так рьяно отказываются от земли. А потом узнал правду. Надеюсь, что хотя бы эта история не была журналисткой уткой.
На архипелаге ходила легенда, что началось все задолго до Великой Отечественной войны, когда пленных японцев ссылали на острова. Тогда 124 император Японии Сева Хирохито был еще мальчишкой, но ему уже пророчили трон. И чтобы познакомиться с представителями других стран его отправили в дипломатическую поездку по Европе. Было лето, жарко и делегация так устала переезжать с места на место, что Сева проявил милосердие к придворным и попросил остановку. Остановились они где-то между Бельгией и Францией, дальше планировали переплыть Ла-Манш и оказаться в конечной точке – Англии. Остановившись в новом отеле, который только-только достроили. Пока все пошли ужинать Сева принялся изучать окрестности и природу, которая не была похожа на японскую. Было тихо, тепло и жужжали комары. Сева сидел у воды провожал закат, когда услышал шорохи. Он обернулся, в его сторону шла рыжая девчонка лет шестнадцати в длинном зеленом сарафане подвернутым так, что оголялись колени. Густые волосы были собраны в пучок на затылке. Девчонка тащила тяжелую сумку. Хирохито жестом предложил помочь и донес неподъемный для девочки груз до ее двора. Уже прощаясь, она вынесла ему три желтых яблока и записку. Обратный путь до отеля Сева ел самые вкусные яблоки на свете, так ему казалось, и улыбался. Она ему понравилась. Вот эта европейская девчонка с голубыми глазищами, белой кожей покрытой с ног до головы веснушками запала в его сердце. Про записку он благополучно забыл и вспомнил лишь по возвращению в Токио. Та рыжая написала: «За болью в сердце придет большая власть. У тебя великое будущее, раскосый мальчик». «Хокку?» – подумал мальчик. Но, позже понял, что имела ввиду бельгийка. Через два месяца Сева становится регентом Японии вместо болеющего отца.
Год спустя Хирохито возвращается в европейскую деревню и находит ту самую рыжую девчонку. Она выросла и стала на год прекраснее. Длинные струящиеся до пояса соломенно-рыжие волосы, грязные руки от смолы и тот же звонкий смех, что и в прошлом году. Сева рассказал, кто он и почему вернулся. Весь год он думал о словах в записке и почему она так написала. Лисэйль, так звали девчонку, сказала правду – что чувствую, то и говорю.
– А сейчас что чувствуешь? – спросил Сева.
– Что яблоки в нашем саду перестанут цвести весной.
А потом поведала, что напав на остров, который по духу принадлежит ему, а по земле другому народу – проиграет.
Два года шли переговоры с советской властью за северную часть Сахалина, и 15 мая 1925 года Япония вывела войска с Северного Сахалина.
Лисэйль рассказала, что ждет его самая большая любовь и придет она к нему с цветами камелии. Хирохито женился в январе, за окном цвели камелии.
В 1926 году Хирохито вывез Лисэйль из Де-Панне и привез в Токио. Поселил при дворе и устроил ей безбедную красивую жизнь. Девушка стала личным советником будущего императора, и только он мог обращаться к ней с вопросами. Сева называл свою бельгийскую советницу Аматэрасу в человеческом обличии, что означало богиня солнца, которой поклонялась его семья. В 1926 году, как и предсказывала Лисэйль Хирохито унаследовал императорский трон.
И жизнь была налажена и устроена, пока не грянула вторая мировая война. Император с особой яростью бросился в пекло и развязав войну между азиатскими странами стал готовить бойцов к тому, что Япония будет нападать на Америку. Но что-то его остановило.
– Вижу горе. Будет много крови и народ не простит эту кровь. – Предсказала Лисэйль.
Как пишут официальные источники, в этот день Хирохито сказал кабинету министров, что в руки ему попалось стихотворение, которое написал его дед, и он все понял. Он понял, что проблемы надо решать мирным путем. Но было уже поздно. Это сказал не его отец, так решила Лисэйль, но удар по Пёрл-Харбору развязал войну. Первые полгода японские войска побеждали во всех битвах. Хирохито стал сомневаться в словах своего советникаи на полгода он забыл о ней увлеченный битвами. А она все полгода пролежала с тяжелой болезнью, не выходя из дома.
– Мне плохо, – говорила она, – разреши мне покинуть страну.
Но император запретил выпускать ее за границы двора и обещал лично отрезать голову тому, кто посмеет ослушаться. Вторая мировая война подходила к концу, поражение за поражением терпел Хирохито, а Лисэйль требовала, чтобы император сдался. Союзница-Германия пала 9 мая, а Советский Союз отказывался продлевать срок о нейтралитете и случилась вторая волна. Император решил биться до последнего.
После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Хирохито решает спрятать семью и отправляет в Хоккайдо свою жену принцессу Нагако, шестерых детей, часть прислуги и Лисэйль. Лисэйль сбегает из убежища и на лодке с рыбаками добирается до Вэна, зная точно, что там безопаснее, чем на японской земле. Так она надеется переждать окончание войны. Хирохито узнает о побеге, и, не боясь смерти от рук советского народа, приезжает на Вэн, чтобы убить предателя. Очевидцы, которые после продолжали жить на островах рассказывали, что он отрезал женщине голову, схватил за рыжую копну и подняв ее на вытянутой руке к небу, стал кричать – «Majo», что означает – «ведьма».
Было ли так или по-другому никто уже доподлинно сказать не может, но с того дня японцы прокляли архипелаг и больше не требовали вернуть Вэнские острова. У них считают, что Курилы – это место силы, а Вэнский архипелаг – рана на теле земли, которая никогда не заживет.
Когда я узнал эту историю, то тут же написал рассказ и принес в «Фактуру» с названием «Император, который верил». Зискин поднес бумагу с моим текстом к сигарете в зубах и с улыбкой поджег.
– Никто и никогда не будет об этом писать! – спокойно сказал он. – Это боль японского народа. Ты сделаешь больно почетным гражданам этих островов. Эти острова принадлежат им.
Камал с отвращением относился к тем, кто смел плохо или никак говорить про острова. Про острова можно только хорошо. Иногда мне казалось, единственное, что позволяет его крови приливать в сердце – это нахождение на островах. Уехал- умер. Этакий бессмертный островитянин. Всех неверных считал моллюсками спизулами. Мол, уехал – предал. Позднее я узнал, что существует целая книга про эту мистическую легенду автор Игнат Алферов.
Самое долгое, что было в любом пути – это пришвартовать катер к берегу, даже тридацть километров от Вэна и Куру казались мгновением в сравнении с тем, что происходило при парковке у берега. Острова находились друг от друга на примерно одинаковых расстояниях в тридцать километров. На Куру все ездили за едой. Фрукты и овощи прибывшие с материка на Сахалин, после, направлялись на Курилы и Куру. Именно по причине долгих поставок и бесконечных перевозок стоили фрукты и овощи безумно дорого. Дорого даже в понимании местных жителей, зарплаты которых вдвое превышали зарплаты жителей с материка. Долго я не мог к этому привыкнуть, и пытаясь экономить на всем, отказывал себе в витаминах, в мясе, в злаках. Я закупался сухой лапшой и пробовал так жить неделями. Через два месяца такого рациона, месяц из которого я провел на обезболивающих, понял, что пока я экономлю на еде, на мне экономит мое здоровье. Заработал хронический гастрит. С тех пор на еду денег не жалел.
На островах я расстался со своим иммунитетом. Здоровье болталось, где-то между ОРВИ, ОРЗ и очередными неизученными вирусами. Порой, опускаясь на самое дно бездны меланхолии, внутри себя я садился в самый темный уголок и задавал в никуда вопрос – «А дальше только смерть?». Но потом организм брал последние запасы здоровья, где-то в осадке всех жидкостей во мне, и выводил за руку из бездны. В последний раз, когда я уже не верил в воскрешение – в меня поверила магия. Это сейчас я скажу, что, скорее всего в меня поверил страх еще раз посетить эту квартиру, но тогда казалось, что мистика не бред собачий.
Звали ее Тамарушка, а она звала себя шаманкой. Жила женщина на севере Куру, ближе к лодочной станции путь с которой вел в Корсаков. Теть Маша сказала, что лучше врача не сыскать на всем белом свете. На краю света точно. Конечно, она была вовсе не врачом, а знахаркой и ее методы лечения больше забавляли, чем интриговали, но жить без иммунитета я уже не мог и понимал, что использовать надо все методы, чтобы как-то существовать на этих островах.
Тамарушка встретила меня на пороге своей двушки в новостройке на третьем этаже. В стареньком, но чистом халате с узорами в синий цветочек, с убранными назад до единой волосинки гладкими черными волосами. Ни единого седого волоса на голове ее не было. Сначала она угостила травяным чаем, рассказала свою историю – что выросла на Сахалине, в городе Оха, что предки ее были айны. Айны – древнейшие поселенцы японских островов. Рассказала, что айнов уже не существует, вымерли. Что осталась она одна такая и еще двое в Охе доживают. Остальные полукровки. На самом деле Тамарушку звали Чувка-унтара. Но в советское время из-за родственных связей с айнами – ссылали в ГУЛАГ, поэтому своё айнское она давно сменила на русское и смирилась с тем, что вернутся в Японию к родному народу, ей уже не удастся.
После чаепития завела в комнату со всех сторон заставленную иконами и статуэтками духов и богов. Иконы были православные, католические, буддистские, лежали четки карты, свечи, игральные кости. Казалось, что верит Чувка-унтара во всех богов одновременно.
– Веришь в кого?
Спросила она резко, я даже не успел среагировать.
– Я? Верю?
– Бог какой в сердце?
– Нет бога в сердце, но крестили в православной.
– От этого все болезни, что не веришь.
Она внимательно посмотрела на меня с ног до головы. Достала икону Божьей матери и снова спросила, – знаешь кто это?
– Святая дева Мария, матерь Божья.
– Тогда она будет.
Дала икону в руки и заставила просить у нее здоровье всеми словами, которые приходят на ум, взамен молитвы. Молитв я не знал.
– В глаза смотри! – Дала команду и начала что-то быстро нашептывать.
А дальше шепот переходил в голос, потом на повышенные тона, а потом вовсе на крик. Она пела. Толи на чукотском, толи на языке морских котиков. Становилось жутко. Хотелось жмуриться, но глаза отводить по велению Тамарушки нельзя было.
Процедура очищения казалась невыносимо долгой, но на самом деле проходила она не больше 10 минут. И мало того, что все это было затянуто, процедура очищения была еще невыносимо неприятной. Во-первых, передо мной стояла женщина в почтенном возрасте, в халате, который все время раскрывался на груди, и ей приходилось его одергивать. Ее раскосые глаза смотрели в меня, а я смотрел на ее редкую седую бороду. Она пела и била в бубен, маленький, ручной. Успокаивало то, что била в инструмент она не громче, чем пела. В ушах эхом трижды по три отдавалось: БУХ-бух-бух, БУХ – бух-бух, БУХ-бух – бух. Чёртов бубен предков до сих пор барабанит в ушах. Во-вторых, в комнате воняло страшно – толи сухой полынью, толи отсыревшим сеном. На третьей минуте волшебства закружилась голова, на пятой затошнило, что казалось, вот-вот и я оставлю часть своего иммунитета на ее ковре, но Тамарушка, как будто знала, что все свое я унесу с собой. На седьмой минуте перед глазами поплыло. Всё тело завибрировало от голоса, как от легкого землетрясения. В финале своего номера она отпоила меня простой водой в которой затушила горящую траву и велела три дня спать.
По-другому бы и не вышло. Как только я добрался до кровати, тут же отключился. Иногда просыпался, чтобы умыться, выпить воды, сходить в туалет. Всего этого не хотелось, но как на автомате вставал и делал. И снова ложился спать. Три дня в страшном бреду, то колотило от холода, то бросало в жар. Все время тошнило. Есть не мог совсем.
Не знаю, куда может привести вера или вера в то, что вера может быть, но эффект после шаманского обряда случился. Уже четыре года я не болел. Иногда дергал носом на морозе или мучился от похмелья, на этом болезни закончились.
– Пей молоко! – на прощанье сказала Тамарушка.
Когда на Куру построили ферму и стали разводить коров, я покупал жирное молоко и пил его по несколько кружек в день. Наверное, что-то в этом было.
Если на Куру можно было купить все питательное и вкусное, то на Вэне, остров находившийся в 12 километрах от Хоккайдо, была промышленная база. Там можно было, как купить ненужную и не пригодную для острова японскую машину, так и закупиться обоями. Местный городок-стройка. Найти можно было все: от золотой булавки до Смита-Вессона 1915 года. Я себе такой и прихватил по дешевке. Перекупщик сказал, что сам Царь Николай стрелял из него. Что вряд ли. Но с пистолетом было, как и молоком – главное верить.
И пока на Куру жили вкусно, на Вэне удобно, на Утуру – хорошо, что жили. Завод, почтовое отделение, куда приходили посылки с Алиэкспресс, иначе люди одеваться тут не могли, потому что одежда стоила, как в Московском ГУМе. Письма на почту приходили редко. Отжила себя и профессия почтальон и эпистолярный жанр. На Утуру, так точно. В этом же помещении было банковское отделение и отделение специального внутреннего подразделения № 6, по-другому полиции. Еще был ночной клуб «Краб». Все. Больше в этом островном городке ничего не было.
Хотелось выпить. Спрыгнул с катера и тут же поспешил в «Сиреневый туман», в магазинчике можно было до закрытия перехватить темного нефильтрованного. В сторону дома пошел по темным переулкам вдоль набережной, где фонари уже не горели – фонари в городе отключали в осенне-зимний период раньше, чем летом. Отключали в целях экономии. Свет горел только в центре. И если весной и летом можно было встретить диких зверей на окарине, то осенью только сонные редкие чайки топтались у берегов, вздрагивая от моих шагов. По волнорезам била вода и слышно было, как она скатывается по камням обратно в море. Для людей, что живут у моря такие звуки неприметны. Ты не слышишь шорохов убегающих с песчаного пляжа волн или шепот камней на берегу. Все обычно. Как сигналы машин в пробках и гудение заводов в больших городах. Но в каждом звуке есть своя загадка, своя прелесть, как от перебирания чёток в руке.
За пять лет на острове привыкаешь, что со всех сторон вода и убежать даже при желании не можешь. Вот, сейчас, в 8 часов вечера мне хочется убежать то всего, что окружает, но не могу – последний катер поставили на стоянку.
Я слушал море. Иногда оно общалось со мной на своём, морском, громком, иногда шепотом утешала. Просило остаться. Просило задержаться еще ненадолго в этом месте, где всегда мокро и холодно, где в квартирах пахнет сыростью, а иногда за шкафом можно обнаружить целый мир образовавшийся от скопившейся плесени. Найти нового жильца в своей квартире с щупальцами сороконожки. Убить его тапком, и как будто, так и должно было случиться, после, пойти пить свой кофе.
Я остановился у края набережной, спустился к камням. Ветер задувал под подвернутые джинсы и за шиворот шарфа натянутого до глаз.
– Ты грустишь? – спросил я у японского, и ответ его был сильный удар о камни. Брызги полетели в лицо.
Но я хотел слышать не голос моря, а ее голос. Голос той женщины по которой я всегда скучал. Счастье которой, мне намного дороже своего собственного. Мне хотелось прийти к ней в квартиру и услышать ее еле слышное «Так рада, что пришел».
Ее тихое, почти беззвучное, к этим словам надо прислушиваться. Ее мягкое ежедневное и твёрдое в гневе. Она смешно ругалась. Она не создана для того, чтобы разрушать, она из тех женщин, которые создают вокруг себя мир. Когда она говорит, то говорит с запахом японской розовой космеи. У нее до сих пор японский привкус звука. Такой резкий, но в тот же момент мягкий. Голос гейш – наверное, именно так они разговаривают. Белая-белая кожа полукровки, которая не принадлежала ни одной из своих смешанных кровей.
Мы познакомились в «Крабе». Я пришел выпить, она искала себя. Но любой поиск себя всегда приводит к увлекательным приключениям. Она хитро, из-под чёлки смотрела в мою сторону, и казалось, сейчас нападет с катаной и возьмет меня в плен, но не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы спасти. Я отвел ее в сторону, за угол «Краба» и прижал к стене. Рукой проскользнул по гладкой ноге вверх, под платье, почувствовал линию трусиков и получил по лицу. Сильно. Несмотря на всю внешнюю хрупкость била она наотмашь, удар был самурайским.
– С ума сошла! – отстранился от нее.
– Когда кому-то лезешь в трусы сначала убедись, что это безопасно.
Она тогда ушла. Хотелось догнать и схватить ее дерзкую за волосы, но сжав всю злость в голове, выплюнул ее на асфальт.
Я запомнил самурайский удар, который горел на щеке и голубые глаза, почти прозрачные, вовсе не японские глаза. Искал ее два дня. Нашел в больнице. Она работала медсестрой. Чтобы не получить еще раз по лицу записался на анализ крови. Так еще никто не выливал из меня кровь. Так много крови из моей вены никогда не выходило.
– Чего пришёл? – спросила она, вонзив иголку в меня.
– К тебе.
– Ммм. На что кровь сдаем?
– На качество.
– Смешанное.
– По цвету видите?
– По глазам.
– Глаза у вас красивые. Голубые. Не японка ведь.
– Русская.
Остановилась она только тогда, когда увидела, что цвет лица моего становится схож с ее.
– Ну, все. Там нашатырь. Там вода. Свободен, – отпустила тогда.
Это она потом расскажет за крепким кофе и ваткой с нашатырем, что после советско-японской войны пленным японцам разрешили покинуть острова, но ее дедушка остался. Женился на русской артистке, сосланной из Севастополя на Утуру. Глаза у нее от бабушки. Дедушка и бабушка оставили после себя сына, который тоже женился на русской, и кровь смешалась дважды. И вот настал ее черёд искать русского, чтобы окрепнуть кровью, но для того, чтобы смешать нашу кровь я должен был устранить одну важную вещь. Свою жену.
В этот вечер так не хотелось домой. Хотелось расставить все на свои места, быть честным перед собой и ей, чтобы начать новую, другую жизнь. Но я не мог. Я не тот за кого себя выдаю. Я другой. Я слабее, чем кажется. Слабее, чем я себе придумал. В голове шептал ее голос, который давал мне силы продолжать жить дальше на этом острове.
Алкоголь легонько ударил по голове, как тренер в боевом самбо на разминке. Смелось появлялась только в минуты свободные от мыслей. «Всё! Сейчас приду и все для себя решу» – думал я.
Но жены дома не было. На подоконнике осталась после нее полная пепельница окурков и сексуальная скумбрия в духовке. С детства не переносил табачный дым, поэтому выкинул вместе с пепельницей окурки и сел за стол. Есть не хотелось совсем. Решать нужно было не с ней. Она была ни при чем.
Гонорар сложил в шкатулку в своей комнате, скинул одежду на пол. Если бы я имел возможность быть смелым и решительным, чтобы вот так, разом острым лезвием холодного оружия обрубить все отношения, чтобы кинуть в чемодан трусы и носки и уйти к женщине, которая дороже свободы. Но так я сделать не мог.
Со мной она будет счастлива, но в опасности. Воскресенье заканчивалось в полночь. Утром надо было на работу. Начинался дождь.
АНДРЕЙ БЕРУФ
В субботу утром уехать на Вэн – проблема. В катера забиваются люди, как шпроты в жестяную банку: женщины всегда сидят, на их коленях дети, мужчины стоят. Вместо положенных пятнадцати разрешенных человек в одном катере может ехать по двадцать, а иногда и по двадцать пять пассажиров. Отважные капитаны, не боясь, везут всех этих людей в своих ненадежных катерах на соседний остров. Лишь благоразумные и не жадные высаживают лишних. Только в этом году был принят указ в правительстве, что с Утуру на Вэн и обратно по субботам работают 7 катеров. И все равно, люди занимают очередь за час до первого отправления.
Когда только попал на остров, смотрел на эти очереди и думал, что Ной опять затеял очередной круиз. По субботам все едут на Вэн. И если все ехали на Вэн за важными бытовыми вещами, я ехал отмечаться в штаб. Работа у меня такая – отмечаться.
Я заскочил в третий катер, опережая женщин и детей и сел подальше в хвосте. До глаз натянул спортивную шапку, обмотался шерстяным шарфом и сразу же уставился в окно, чтобы не встречаться с кем-то глазами и вдруг случайно не уступить им свое место.
– Да, ладно! Ремонт затеяли? – услышал я знакомый бас.
На катер зашел Трынов, а следом его жена и сын. Привстал, пожал руку.
– Хочу потолок заштукатурить, во время дождя льет, как из лейки. Пятна желтые по всем углам.
Рядом на свободные места подсела Варя – жена Андрея и их сын сел к ней на колени. Трынов остался стоять.
– Я стоя не повезу! – крикнул капитан судна.
– Шеф, я бочком, я не тяжелый.
– Я стоя не повезу! – крикнул он еще раз.
– Нас же не двадцать, всего семнадцать!
– Я никого лишнего не повезу, выходите! – не унимался капитан. – Идите на следующий.
Все присутствующие понимали – для того, чтобы Трынов уехал на одном из следующих катеров ему нужно было также расталкивать людей, в наглую садиться на корточки в надежде, что кто-то из других капитанов повезет лишнего человека. И если делать это, то прямо сейчас. Варя из-за физических качеств бежать расталкивая людей не могла, она смогла бы катиться кубарем. Ее пышное тело скорее перекатывалось, чем ходило. Но это ее ничуть не портило, она была как пончик в малиной – приятной.
– Пойдем!
Разозлился Трынов и потянул жену за собой, следом пошел и их сын.
– Хочешь, пацана возьму с собой? На острове заберете. – Предложил я.
Сначала сказал, потом подумал, но было уже поздно. Что делать с ребенком один на один я не понимал. Спасало одно – Лешка был глухой.
– Выручишь очень! – Трынов пожал руку мне, и жестом объяснил сыну, что тот остается.
Слышать Лешка перестал в трехлетнем возрасте. На острова напал вирус, который был в целом не страшен и островитяне пережили его легко, а у Лешки начались осложнения и пропал слух. Общался с миром он исключительно жестами и глазами.