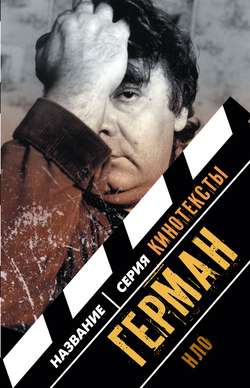Читать книгу Герман: Интервью. Эссе. Сценарий - Антон Долин - Страница 1
Эффект Германа
(вместо предисловия)
ОглавлениеЗа книгу о Германе, и тем более книгу интервью с Германом, браться было страшно. Сложный характер классика вошел в легенды, разговаривать с ним наравне невозможно – хотя бы в силу возраста… Помогло то, на чем построен каждый германовский фильм: воспоминание. Одно из первых по-настоящему сильных впечатлений из детства – от «Моего друга Ивана Лапшина». Тогда я понятия не имел, что это за кино: его показывали по телевидению и, вероятно, не в первый раз. Родители смотрели как приклеенные, я читал какую-то книгу, не обращая внимания на экран. Потом в какой-то момент мне сказали: «Смотри». И я увидел, как смутно знакомый щеголеватый человек, которого я знал по «Обыкновенному чуду», идет к другому, невыразительному, а тот называет его «дяденькой», и уже ясно, что вот-вот ударит в живот ножом. Ножа толком не видно, и кровь черно-белая, но невыносимо страшно – потому что ясно: это конец. Какова смерть? Ответ чаще приходит из кино, чем из жизни. Ответ «Лапшина» – веский, убедительный. Забыть его трудно – или вовсе невозможно. Сразу ясно: то, что чуть позже тот же «дяденька» на экране опять живой, – случайность, условность. Главное уже произошло.
Есть и фамильная история. Сплав фантастического гротеска и документальной реальности в картине «Хрусталев, машину!» позволил многим обвинить его в «невнятности». Странным образом не только автор картины, но и автор этих строк видят в этой картине не столько фантазию, сколько семейную хронику. Мой родной прадед, ученый и медик Александр Долин, работавший с академиком Павловым и бывший в Гражданскую пулеметчиком Котовского, в 1940-х был начмедом в крупном госпитале в Ленинграде. Согласно семейной легенде, во время «дела врачей» он уцелел чудом: ушел из дома на несколько дней, не сказав куда, и пришедшие его арестовывать спецслужбисты вернулись ни с чем. А потом умер Сталин.
Узнавание себя в фильме, как в зеркале, – эффект Германа.
* * *
Еще до начала интервью Герман предлагает заголовок для будущей книжки: «Шепот из подвала». Проблема в том, что на «подпольного человека» – ни в достоевском понимании, ни в каком-либо еще – Алексей Юрьевич похож меньше всего. Под его рассказ в голове возникает другое название, из другой эпохи: «Жизнь и мнения Алексея Германа, джентльмена» – как и стерновский Тристрам, он добирается до собственного рождения едва ли к середине многочасовой беседы. И то неохотно: ведь так многое еще не сказано о времени, о родителях, о событиях, при которых он не присутствовал, и людях, которых не знал.
Первый парадокс Германа – в том, что он может показаться человеком и художником, зацикленным на себе, лишь со стороны, и очень невнимательному наблюдателю. Себя он исследует с таким же тщанием, с той же въедливой мелочностью, что и эпоху: в его монографических сеансах психоанализа (авто)биограф – чаще врач, чем пациент. Время, как и разговор, дробится на мельчайшие частицы, Герман носится от одной крупицы к другой, пытаясь собрать их в единое, неделимое целое. А сам он, пресловутое «Я» художника, которое принято писать исключительно заглавной буквой, в этом времени, пожалуй, вовсе растворяется.
Книг, в которых режиссеры рассказывают о себе и своем кино, бесчисленное множество. Однако все они – вероятно, за исключением бергмановской «Laterna Magica» (но это все-таки монологическая проза, а не диалог: автор обращается к вечности, а не интервьюеру) – строго подчинены одному правилу. Биография в них – соус к основному блюду, а в центре внимания кино. Не обязательно секреты мастерства; это могут быть и смешные случаи со съемочной площадки: презренный жанр, якобы предпочитаемый журналистами, в реальности рожден самими киношниками. Никто не любит рассказывать о личном. Каждый предпочтет рассуждать о вечном, даже если эти размышления закамуфлированы под ненавязчивый треп. Герман – опровержение этого закона. Он может позволить себе заявить, что кино ему безразлично, а вот вспомнить случайную фразу, услышанную на улице, передать словами цвет чьего-то заношенного пальто, вспомнить лай соседской собаки – о, это совсем другое дело.
Перебить его невозможно. Встрепенувшись, он угрожающе или подавленно спрашивает: «Что, неинтересно?» – и недоверчиво слушает заверения в обратном. Кстати, было интересно. Каждая боковая тропинка, заставлявшая забыть о генеральной линии рассказа, открывала что-то неслыханное, за любым поворотом лабиринта поджидал сюрприз. Но невозможно и переломить режиссерскую волю человека, рассказывающего о том, что важно ему, и категорически безразличного к выстроенному тобой сценарию разговора. Он признает только свои сценарии – даже если в титрах значится кто-то другой.
Герман очень похож на свои фильмы. Не найти лучшего воплощения германовской эстетики и этики, формального метода и философии, чем личность автора. Та же пристальность – дотошная до несуразности. Тот же парадоксальный юмор. То же сочетание высокого с низким, банального с необычайным. Тот же настойчивый, истерически-упорный поиск места, которое может – и должен – занимать в Большой Истории маленький человек. Идеализм. Фатализм. Проза факта. Поэзия подробности.
Рассказ Германа о себе – конечно, еще и роман. Владение словом (бесспорное, хоть и неочевидное в книге, записанной с голоса) – дело десятое. Куда существеннее умение увидеть человека в контексте, почувствовать и описать этот контекст, вписать героя в рамку… но так, чтобы рамка его не заслонила, не сделала слишком незначительным штрихом на монументальном фоне. Этот человек – Герман, но Герман условный, прошедший фильтры авторского сознания, вписанный в бесконечный сюжет. И, в точности как в классической русской прозе, богатство «второго плана», подчас загораживающего «первый», никак и никогда не заглушит одинокий голос человека. Это в кино Герман – неисправимый авангардист. В литературе он – адепт классической школы, пишущий и мыслящий кристально ясно, не допускающий лукавых двусмысленностей. Тот жанр, в котором он ведет рассказ о себе, – не кокетливый модернистский «Портрет художника в юности», а вечно актуальный «роман воспитания».
К кинематографу и литературе нельзя не прибавить живопись. Далекая средневековая планета из «Хроники арканарской резни» – отражение СССР и нынешней России; для Германа этот мир навеки погружен в кромешную тьму Босха. Мутанты и уроды бесконечно копошатся в Аду и не надеются пробраться на другой край Сада земных наслаждений. Румата – странная фигура из другого мира, обреченная на одиночество, как святые на босховских картинах, скорбно и недоуменно взирающие на окружающий ужас. Однако фильм по Стругацким все-таки ближе к макабрическому покою полотен Брейгеля Старшего, чем к кошмарным фантазмам брабантского прародителя сюрреализма. Брейгелевский фетишизм в отношении детали, неожиданный переход от грубости к нежности, от метафоры – к натурализму, и грязноватый северный снег вечной средневековой зимы – все это отразилось в «Хронике арканарской резни».
Летом 2003-го я побывал на «Ленфильме» на съемках картины. В тот день не было Ярмольника. Камера отрабатывала считанные движения – дублер героя полз по балке под потолком, потом спрыгивал оттуда и бежал несколько шагов к воротам. Так продолжалось целый день (возможно, процесс начался даже не накануне и завершился еще через несколько суток). Смотря на монитор, разглядывая остатки фрески на тщательной декорации черно-белого замка, я казался себе случайным гостем археологической экспедиции, раскапывающей средневековый шедевр, внезапно обнаруженный под вековыми слоями праха и пепла. Будто каждое движение дублера под прицелом камеры – ритуал, в результате которого количество перейдет в качество, и фильм родится.
Каждый фильм Германа притворяется хроникой, как и рассказанная им самим история жизни. Однако приглядись – и из-за хроникальной фактографии покажется картина мастера северного Возрождения, будь то Босх, Брейгель или вовсе неизвестный Мастер Какого-то Алтаря.
* * *
Имя Светланы Кармалиты появляется на страницах этой книги, вероятно, недостаточно часто – но именно потому, что с первой встречи Германа с ней и до сих пор почти каждое «я» легко конвертируется в «мы». Герман – коллективная творческая единица: пишем «один», в уме «два». Кармалита – не муза, она полноценный соавтор. Сценарист, редактор, наипервейший из ассистентов на каждом этапе производства фильма. Не только жена и подруга, соратница и защитница, не только товарищ в беде и радости, но неотъемлемый элемент творческого процесса. Тот элемент (возможно, единственный), без которого нынешнего феномена под названием «Герман» попросту бы не существовало. И для самого Германа она – та интимная частица жизни, в которую посторонним допуск закрыт. Их совместная работа, их творческий симбиоз – слишком личное, слишком важное.
Беседы с Германом происходили один на один, и все равно заслуга Светланы в появлении книги интервью с ним – неоценимая, непереводимая на язык слов. Она – ее первый читатель.
Незаменимый консультант по киноведческой части – Ирина Рубанова, автор самых точных и умных текстов о кинематографе Германа. Огромное ей спасибо.
Специальная благодарность Людмиле Каро, верному другу из Петербурга.
Интервью были записаны и расшифрованы в период с весны по осень 2010 года. Также в книгу включены фрагменты интервью Антона Долина с Алексеем Германом, публиковавшихся в изданиях «Газета», «Труд» и «The New Times».
Фотографии предоставлены на безвозмездной основе Сергеем Аксеновым и Геннадием Авраменко, редакцией журнала «Искусство кино», Музеем кино, а также Светланой Кармалитой и Алексеем Германом, открывшими для нас семейный архив. Мы признательны им за это.