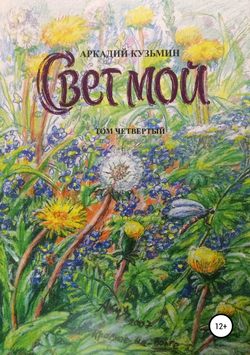Читать книгу Свет мой. Том 4 - Аркадий Алексеевич Кузьмин - Страница 1
ОглавлениеТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
До отхода севастопольского поезда оставалось четверть часа. Был уже июль; длинный день – еще светло. Только здешнее лето выдалось холодным и дождливым – как раз вновь заморосило: оттого вдруг стемнело и уж по-стеклянному заблестели омытые цементные платформы, – по ним радостно спешил к вагонам уезжающий народ с детьми, с дорожными чемоданами и с сумками. Люба и Антон Кашины только что устроились в купе полупустого мягкого вагона и, пользуясь случаем, что в нем пока одни, тотчас переоделись по-дорожному, как в дверь нетерпеливо, даже резко постучали и громкий женский голос спросил: – «Можно войти»? Дверь дернули, снова; она, лязгнув по металлической планке, откатилась. И перед молодой парой предстали с вещами густо– и черноволосая, лишь с прядью белой седины, сухопарая женщина с каким-то тяжелым замкнутым, даже замученным лицом, хоть и загорелым нездешним желтоватым загаром, заметным при электрическом свете, и такой же смугловатый и черно– и густоволосый юноша. Он волок за собой два пузатых чемодана.
– Разрешите? – Раздосадованная отчего-то женщина, входя в купе, отрывисто поздоровалась и, видно, привычно громко попросила Антона: – Пожалуйста, друг, помогите ж сыну! Ему тяжело…
Вошедшая сама тяжело, с трудом дышала; она запыхалась, точно после отчаянного бега для ее немолодых уж лет. Тем не менее она тут же, разбираясь со своим багажом, стала упрекать своего спутника, как бы намеренно жалуясь на него:
– Столько я тебе твердила, Коля: ну, давай, давай возьмем носильщика, чем надрываться нам самим… С чемоданами ты нанянчился в Москве… А теперь и здесь, в Ленинграде…
Эта женщина, должно быть, точно знала, как где вести себя; и привыкла и умела вести себя независимо-властно, где бы то ни было. Это чувствовалось сразу. О том говорили не только резкая складка ее верхней губы, пожелтевшей от куренья, и ее матово-черные гипнотизирующие глаза, будто затянутые слегка дымом, но свидетельствовало также и то, как она держалась в вагоне – по-домашнему обыденно, будто пересев сюда с корабля, и в то же время с должным достоинством.
А голос у нее, хрипловатый, что у большинства курильщиц, был не слишком строгий. И понятно: она доброжелательно журила родного сына, подобно всем родителям, которые своим детям отдают полжизни. Журила его открыто, без стеснения перед посторонними, будто нарочно – с таким расчетом, чтобы все вокруг услышали ее – и так узнали, какой он непослушный, своенравный: все делает наоборот, по-своему.
Между тем юноша, которому Антон помог уложить чемоданы, сел на диван и покуда молчал; возможно, потому как засмущался незнакомых людей. Он лишь внимал матери с хорошей, не устоявшейся еще улыбкой на пухлых губах и с живым поблескиванием сочных темных глаз. Словно в них, в их густоте, поблескивали ясные, незагасимые звездочки.
Одета она была тепло и, вероятно, по достатку, но все же не по-летнему: на ней был плотный серый шерстяной костюм и простые теплые чулки; он был одет почти модно и так же хорошо.
– Ох, смотри, сыноченьку!.. – не унималась попутчица. – Уж одно твое упрямство нас не доведет до добра!
Вступившись за него, Антон сказал, что она напрасно так волнуется и что это для него, если он здоров, полезно: ему в дальнейшей жизни пригодится.
Как она почти воскликнула в полнейшем замешательстве, с каким-то суеверным ужасом:
– Вы что, всерьез так думаете? Да?
– Безусловно, как же иначе? – ответил Антон: – Он уже большой и сильный… Пускай привыкает к трудностям, чаще плечи, что ли, подставляет – закаляется… Зато легче одолеет он потом все житейские невзгоды, неурядицы, в какие попасть может, ведь от них никто пока не застрахован.
Однако незнакомка, знать, совсем оторопела от слов таких: в растерянности она уселась на сиденье напротив Антона, возле окна, и уставилась на него, колеблясь в чем-то долгую минуту. С одержимостью искала, должно быть, верный знак к какому-то моральному разрешению для самой себя сомнений и пугалась в то же время, того, чтобы найденное ею разрешение всех ее сомнений – пусть даже только мысленное – впоследствии не отразилось бы пагубно на благополучии ее сына. Глубокие тени легли на ее озабоченное жестковатое, как стебель татарника, лицо.
– Но такая ноша для него сейчас посильна? – хрипловато уточнила она после. – Шутка ль – потаскать на весу эти тяжести пудовые…
– Ну, до пуда, помилуйте, еще не тянет…
– Нет?
– Определенно. Да и что тут поделаешь: приходится иногда собственноручно тащить что-нибудь. Стала напряженней, интенсивней сама жизнь.
– Я вас понимаю. Да, есть все-таки что-то противоестественное в том, как мы живем; мы замкнулись в городах, загнали себя в туннели (в железобетон) – бежим впопыхах по ним, обгоняя друг друга, на работу, с работы. С тем мнимым комфортом, отгорожением себя от природы погубили себя начисто: стали изнеженны, невыносливы, дряблы, болезни источили нас. Пройдешь ли с километр, поднимаешься ли на третий этаж – уже задыхаешься. Изнервничались, доводим друг друга; наслаждаемся, что мы такие крикливые, мстительные – попробуйте нас взять живьем! И свои дурные привычки чаще передаем в наследство.
– Ну, наверное. – Антон не спорил.
– Значит, вы всерьез считаете, что ему-то еще может пригодиться закалка?
– Да, практически… Как, впрочем, всем молодым.
– Признаться, я сама точно так же думала, но никак не думала, что уже пробил час и для него. Боюсь: не рано ли?
И она уже как будто успокоилась отчасти и обрадовалась даже, таким образом обсуждая с Антоном, по-видимому, трудноразрешимый для себя семейный вопрос и находя ничто иное, как спасительно-насущную поддержку в этом стихийно-доверительном разговоре. И, хотя она не отдышалась еще, она вновь встревожено, всем сердцем, устремилась к Коле, который, сидя расслабленно, в углу купе, привалился затылком к желтоватому простенку.
– Что, сыночек, устал? Или нездоровится тебе, родной?
Он, выпрямившись снова, отрицательно мотнул головой; причем славно улыбнулся ей, – успокаивал ее заботливо. Славный все-таки, неиспорченный, видно, ничем и никакой уличной компанией, он вел себя застенчиво-скромно и человечно и отзывался на обращение беспокойной матери к нему лишь невинным полудетским выражением спокойных любопытствующих черных глаз с поблескиваньем или своей мальчишеской, не устоявшейся еще улыбкой.
– Да нет, не избалован он у меня, вы не думайте, – как-то виновато заверила она далее Кашиных, словно бы страшась, что ее материнское остережение, очевидное для окружающих, истолкуется неверно. – Вот его заботы, голова его чем занята: до открытий, путешествий всяких – сам не свой. Все-то хочется ему узнать, изведать. И, наверное, так будет до тех пор, пока стариковство подойдет к нему. Обмывая ему, еще пятимесячному, лицо, говорила я, бывало: «Летим, спешим. Руки трясутся. Куда? Куда спешим? Все успеешь. Не только вырасти, но и намучиться… Все успеешь. Не торопись. Это жизнью доказано…» А везу я его издалека (мы сибирские, из…, – она закашлялась и произнесла непонятно, но Антону послышалось: – из Благовещенска), везу, чтобы показать ему весь свет; мало ли что станется там, в будущем, и какая у него впереди жизнь сложится.
Она вздохнула, погрустнела, точно осознавая, что выполняла теперь чрезвычайно скучную обязанность, вместо того, чтобы радоваться от того, что они, мать и сын, вместе ехали куда-то отдыхать. Бесконечно угнетало ее что-то.
II
Воцарилось неловкое молчание.
В вагоне по-прежнему было малолюдно, тихо; мало кто сновал взад-вперед и толпился, как бывает при отъезде, в узком коридоре. Сквозь открытую дверь купе была видна в расположенное напротив окно – что на телевизионном экране – часть мокро-блестящей платформы, оживленной неуправляемым людским водоворотом. Можно было разглядеть, выйдя в коридор: на ней, обтекаемой всеми, стоял и плакал, нисколько не таясь от суетливой публики, какой-то худощавый гражданин с непокрытой белой головой, застарелым шрамом на лице, – плакал, опираясь слабой сухой рукой о плечо прекрасной телесной девушки, немолчно застывшей перед ним в прелестном модном одеянии. Та, видимо, стыдилась его неловких слез. А он сдержать себя не мог.
– О, уже и дождик перестал?! – всплеснулся с места голос Любы. – Вроде бы светлеет снова.
– Что вы, перестал!.. – восстала впечатлительно, взглянув из купе на улицу, попутчица; она и неба-то не видела отсюда – видеть не могла, а о нем уже судила по земле, отягощенная, должно быть, стойкими земными впечатлениями. Тускло-желтоватый свет от коридорной лампочки косо осветил на миг ее усталое лицо, мерцавшие глаза. – Какая же может быть погода – небо все расковыряли. Обложило все… – И затем, забывшись, со свойственной ей резкостью и проявлением испуга, справилась у Кашиных, который час и когда же в точности отходит поезд; подводя свои наручные часы, с удовлетворением сказала, что как все счастливо обошлось для них. Так, по-глупому они чуть-чуть не прозевали поезд свой, – он едва не ушел из-под самого носа. Каково! Но это – наказание ей господнее…
– Что, опаздывали? – Люба по-девчоночьи, как любила сидеть, подобрала ноги под себя. – Ну, всякое случается, когда собираешься особенно в дорогу. В театр и то иногда…
– То-то и оно, голубушка, что нет: мы сюда заранее поспели. Мне не до театра уж… Собственные представления идут полным ходом. Разворачиваются. – И едущая на мгновение вдруг поморщилась, вероятно, от боли; и глаза прикрыла, и прижала к груди огрубелую руку.
– По ошибке малость проторчали на шестой платформе, рядом. – Коля с живостью блеснул из угла веселыми глазами.
– Отчего ж не разузнали поточнее?
– До чего обидно вышло… Я узнала на перроне, у одной начальственной железнодорожницы, и она же лично указала, где нам ждать посадку. А потом недоуменье взяло нас: полчаса мы прождали… Заново у нее переспросила, не ошиблась ли она случайно? Но она лишь рявкнула на меня. Повернулась ко мне спиной и спокойненько удалилась. Уж такой безразличный и грубый народ…
– А все валили почему-то мимо нас. – Коля также хотел рассказать об их необычном приключении, он зарумянился слегка. – Шли к другой платформе…
– Да, своим глазам не верится, – бросилась к случайному прохожему… Тогда-то и узнали толком, где и что… Ну, и подхватились, и без памяти неслись сюда… Потому изрядно запыхались.
– И что, то дежурная была? – сочувственно допытывалась опять Люба.
– А! Кто их разберет… – говорила раздраженно женщина. – Нацепила на рукав лоскуток красного сатина – только и всего! Весь спрос с нее… Нет, я говорю: довериться никому нельзя ни в чем. Даже в самом простом, незначительном. Поэтому я виню себя одну… Надо все самой устраивать и доделывать. Хотя бы для порядка изучить поездные расписания, а не полагаться на первого же встречного. Да я ведь нездорова: только что в больнице провалялась почти два месяца. И не долечилась – выписалась. Некогда лечиться мне – разлеживаться.
– Чем же вы болели столько времени? – спросил Антон.
– Порок сердца у меня, сынок, – сказала пассажирка словоохотливо и как-то жалостно. – После ревматизма получила осложнение. Митральный порок. Недостаточность клапана. Я сначала порок схватила (во время войны), а потом, в пятьдесят втором году, еще ревматизм подцепила – и вот все теперь: беспрестанно мучаюсь; подносились мои годы начисто, хоть из больниц не вылезай.
– Но с таким здоровьем… Вы должны поостеречься и волнения излишнего – зря не беспокоиться, не утомлять себя.
– Я все, сынок, должна – по-должному никак не получается.
– Мы понимаем…
– Только вы всего ужасного еще не можете, не можете понять: оба вы такие молодые… Это, как я догадалась, жена ваша? – и собеседница, едва Антон утвердительно кивнул, предложила всем прежде познакомиться и представилась, назвавшись Ниной Федоровной; а едва он также назвал Любу и себя, немедленно повела форменный допрос: долго ли они живут вместе, отдельно ли от родителей, есть ли дети. – Пока нет? Живете вместе год? Господи, какие вы счастливые! – с такой неподдельной завистью вырвалось у ней, что и Люба, вспыхнув, чуть ли воскликнула:
– А в чем, по-вашему, счастливые, Нина Федоровна? Да мы еще молодожены. У нас – двухгодичный стаж…
Нина Федоровна оттого, возможно, потеплела и смягчилась: она впервые улыбнулась.
– О, вы, Любочка, еще не знаете, не представляете себе, что значит быть свободной от такой обузы?! От бессонных ночей и бессильных слез? Ну, тогда вы точно самые счастливые на свете… В отпуск едете? Куда же?
Люба сказала, что едут в Крым. Но в точности пока не знают: где там обоснуются, где приглянется побольше. Поближе к морскому пляжу и мало-мальски сносной еды.
– Вы что же, дикие?
– Точно, точно: дикие! – откровенно усмехнулся Антон и добавил: – бежим в отпуск туда, где потеплей.
– О, я на себе испытала сполна ваш «гостеприимный» климат: мигом приковал он меня к постели, – вспыхнула Нина Федоровна. – Иной час порадуешься: ведро! Однако, глядь, мгновенно облачина заползет куда-то, небеса закроются – и по-новому польет дождик нескончаемый, будь он неладен трижды…
– Эта всевечная сырость, да, пробирает до костей-бр-р-р! – посетовала Люба тоже. – И разгуливают потому у нас частые простуды, кашли, гриппы, характерны астмы. Хотя мы, коренные ленинградцы, вроде бы не замечаем уже этого – попривыкли.
III
– А мы вот едем ко второму сыну и невестке, – с особенной значительностью сообщила Нина Федоровна, гипнотизируя странным долгим взглядом. – Тоже в Крым, в Керчь, там они своей семьей живут. – И, осклабившись, прибавила скороспешно, как бы зарекаясь или клянясь в чем-то: – Только мы не будем, не будем у них останавливаться. Туда попоздней скатаем на недельку – их проведаем лишь; у нас с Колей пропасть дел в Севастополе, потому как он родился в нем, а города так никогда и не видывал – судьба ему не позволила. Бог даст, мы теперь рассмотрим его хорошенько.
Несомненно, она не договаривала нечто существенное, занимавшее сейчас ее: на что-то такое она постоянно натыкалась в разговоре – и умышленно сворачивала в сторону или замолкала вовсе. Причем ее будто знобило: она зябко свела плечи. Что-то ее угнетало.
Резким движением, как она все делала, она протянула к столику руку и вытащила из черной лакированной сумочки, лежавшей на нем, коробок со спичками. Однако, словно испугавшись того, что она хотела сделать или что сделала совсем-совсем не то, что хотела, она и резко засунула его обратно в сумочку. Защелкнула ее и отставила от себя подальше. Коля, теперь следя за ней настороженно, с неудовольствием, чуть насупился, что барчук; но как только вагон толкнуло, от толчка он качнулся вперед лицом и, высунувшись за дверь, стал деликатно разглядывать все, поплывшее там, за окнами, на светлевшей улице.
Слышно заперестукивали вагонные колеса – все быстрей и веселей.
Электровоз, все увеличивая скорость, рывком на ходу наддал еще; дверь купе, задвигаясь, с характерным лязганьем выкатилась из простенка. Коля снова ее отодвинул. В ту минуту зарево заката пробилось сквозь неплотную, распадающуюся завесу сырых облаков и пробрызнуло в затрясшийся вагон. Оно, как будто тоже дрожа, красновато отсветилось на измученном лице Нины Федоровны, и она прижмурилась на миг. Потом вновь потянулась к отставленной сумочке, расстегнула ее судорожно (повторилось и Колино неусыпное слежение, главным образом, за манипуляцией ее рук). Но и тут же бросила в сердцах, поскольку в купе зашла, ворча сама с собой, сухая проводница.
Пока та присев на краешек дивана, проверяла один за другим проездные билеты и медленно, аккуратно их складывала и рассовывала по пронумерованным карманчикам измусоленной брезентовой сумки с отделениями, раскинутой у нее на коленях, Нина Федоровна сидела еще неспокойнее: зябко ежась, с нетерпением дожидалась ее ухода.
IV
– А вы?! Разве не будете курить?! Отчего же вы не курите?! – Нина Федоровна, без преувеличения, даже задохнулась от удивления. И, пожалуй, с излишней нетерпеливостью либо жадностью, что ей было уже трудно, невозможно скрыть, схватила опять сумочку и извлекла из нее начатую пачку папирос, спички. Нервным движением быстро, словно опасаясь, что у нее отберут это все, сунула папироску в рот; стала нервно чиркать спички о коробок – одну (сломала), другую…
И только Антон запоздало сказал ей, что, к сожалению, не сможет составить ей компанию, что он – некурящий, как она призналась откровенно, с каким-то облегчением:
– А я-то, чудачка, все смотрю на Вас и мучаюсь: «Да когда же он закурит, чтобы мне с ним заодно подымить?!» – Жадно затянулась зажженной папироской, глотнула, словно пробуя на вкус, табачный дым, и, выпуская его изо рта, продолжала: – одной-то мне, женщине пятидесятилетней, вроде бы и стыдно начинать вперед мужчины. Да и ждать мне также невтерпеж: нервы расшатались… С самого утра я взвинчена… Ну, позвольте, тогда я выйду в коридор почадить.
Она привстала, но так закашлялась от крепкого табака, что ее перекосило всю и она идти не могла.
– Боже! Да курите, пожалуйста, здесь. Вы садитесь! – воспротивились Кашины ее намерению выйти. – И она в купе осталась. Присела на диван, прокашливаясь:
– Я не могу. Я наизнанку выворачиваюсь. У меня такой кашель… Душит меня всю… – И затем спросила, возобновляя как бы прерванный разговор:
– И вы, сынок, никогда и не курили?
– Нет, раза два баловался в одиннадцатилетнем возрасте. С братом. Прятались в подвал, чтобы домашние не слышали запах отцовской махорки. Но нас отец разоблачил. Любя нас, всыпал нам ремнем. Он был у нас чрезвычайно строг и справедлив.
– Ну, это же совсем-совсем не то, – с запальчивостью возразила Нина Федоровна, отчего все дружно рассмеялись до слез, хотя она, кашляя, так и не поняла, что вызвало такой шумный подъем веселья. В том числе и у Коли.
– Почему же, Нина Федоровна?
– Потому, сынок, что настоящий-то вкус к табаку прививается позднее – в зрелом возрасте, – разъяснила она, настроенная на весьма серьезный лад.
– Да, баловство курильщика у меня тогда прошло в момент. А вот младший брат, напротив, увлекся с тех пор, несмотря на кардинальные отцовские меры.
– Верю: бывают исключения. – Нина Федоровна вглотнула сквозь слезу густой табачный дым, на сей раз справилась с кашлем, и ее гипнотизирующие глаза подернулись словно туманом. И заметнее проблескивали – уже блеском опьяненной.
– Все исключительно зависит от самого себя.
– Знаю: люди живут для себя. Но у вас, видать, сердце хорошее, – объяснила собеседница не то с жалостью, не то с грустью. – А я и бросала… И все напрасно: возвращалась к прежнему – к куреву. Меня, должно, бог наказал за что-то. Вот последний раз это было в день Первого мая. Накануне вернулась из больницы, ослабленная, издерганная – жуть. У всех был праздник, радость, а у меня такое горе, что впору б только повеситься… – И она как-то неловко взмахнула рукой, точно хотела побожиться-перекреститься. И Коля, словно позволяя ей свободней высказаться без него, молчаливо встал и вышел в коридор. – Все праздничные, разодетые шли мимо моих окон, с демонстрации, песни пели, плясали, а я неприкаянная, злая сидела дома. Пришел мой брат двоюродный, мой бывший опекун добровольный, тогдашний друг незаменимый (я была его питомицей когда-то, в юности). А я до этого курила, но перестала: врач наложил запрет, и я не курила уж месяца два. И теперь одна сидела за пустым столом, зубами трескотала, да совершенно не от холода. «Что с тобой, сестра? Что с тобой?» – подступился ко мне этот брат, уже ставший давно черствым и глухим. И тут я неожиданно решилась заново: «Папиросы есть у тебя?» – Он похлопал себя по карманам пиджака и брюк растерянно: «Нет с собой. Оказия: забыл!» Я как закричу в его ненавистное бабье лицо: «Да что вы, сговорились?! Не даете мне хоть этой гадостью отравиться!» – Вскочила. Разревелась. И упала на кровать. Он проворно-таки понесся куда-то и мигом принес две пачки папирос: «На, сестра, кури!» И я, задымив, отошла немножко. А чуть погодя пришел домой муж, застал меня с чадившей папироской. И выхватил ее у меня, швырнул на пол и растоптал: «Чтоб я больше не видел отраву у тебя! Ты себя губишь окончательно…» А какое там!
– Вон монпансье взамен.
– Ах, сынок, Вы шутите: не та замена, нет; во всяком случае, она – не для меня. Это ж конфеты, значит, сладкое. А мне-то надо горькое. И чтобы оно меня хватило вот досюда. – С каким-то отчаянием и решимостью она махнула рукой выше груди, как отрезала. И снова затянулась папироской.
– Но, выходит, что отвыкнуть все же можно; сами говорите: не курили сколько-то.
– Да, понятно, можно все: но, должно быть, не при моих теперешних бедах, – подчеркнула она. – Когда я по-серьезному бросала курить, то отвыкала постепенно: вначале не курила перед завтраком, натощак; зато пила крепкий кофе, чем не меньше возбуждала слышно шалящее сердце. И уж появилось ощущение, что недоставало мне чего-то. И ходила неуверенно-нетвердо – точно ступала по чему-то мягкому и зыбкому, наподобие ворсистого ковра. И висел перед глазами отуманивающий дым или какая-то тягучая сизая пелена. По-видимому, мой расшатанный донельзя организм уже настолько привык к табачному яду – и уже активно вырабатывал свое защитительное противоядие. Так и не смогла я себя пересилить – окончательно не курить, как ни боролась с собой, и как ни ополчались на меня мои домочадцы – контролеры неподкупные. Без куренья недолго обходилась. Самое большее – три месяца. И то: я днем дымлю почему-то меньше.
– А ночью разве больше? – изумилась Люба.
– Одолела меня скверная привычка – порождение бессонницы. Сплю я все хуже и хуже. Это старчество в мою дверь стучится. Проснусь я, сразу вспомню про свои горючие беды – и разочек всласть затянусь папироской, пожую ее. Закашляюсь. А как закашляюсь, так, значит, сон мой окончательно уже свернулся. А свернулся сон – значит, нужно по-настоящему курить: нужно досыта наглотаться никотина. Чтобы, значит, как-нибудь опять заснуть. Чтобы все забыть и забыться на мгновение. Значит, потихоньку, тайком курю – и безудержно кашляю. Так невольно бужу своих стражей… Только вы не бойтесь: ночью постараюсь вам не досаждать.
– Разве я об этом беспокоюсь, Нина Федоровна?
– Я к слову, доченька, сказала… Потому, как духу во мне не сбереглось ни капельки. Привыкла что-то держать во рту. И вот вволю накурюсь, а оставшуюся махорку кину под плиту. А потом, когда меня снова припрет, лазаю под плитой, на корточках, и собираю свои окурки давние. Вы не стесняйтесь, скажите мне… Если что – я выйду… покурить…
– Кстати, вы не видели недавний фильм «Женщины Востока»? – спросил Антон.
– Видели. У вас, к несчастью…
– Ведь как неизлечимо мучаются курильщики опиума.
– Там другое все, – отрезала Нина Федоровна и оглянулась, чтобы, очевидно, убедиться в отсутствии сына. – Меня же в том фильме убийственно поразило сожительство жены с пятью мужчинами, братьями, согласно каким-то восточным вековым традициям. Есть, известно, женщины с бурным нравом – меняют, или коллекционируют, мужчин чисто из-за спортивного интереса (мода людская на все распространяется); есть испорченные и мужчины – за мамошками волочатся направо и налево. Относительно тут все объяснимо. Ну, а это, – одной жить одновременно с пятерыми молодцами в одном доме, да еще под приглядом вскормившей их матери – это меня сразило наповал. Несчастная мать и сама сознает, что этот отживший обычай противен чести и морали здоровой семьи: она вскоре правильный совет дала сыновьям, вступилась за их честь, отвела от них позор. Но каково-то ей пришлось! Ведь каким неблагодарно-тяжким трудом достается нам, матерям, то, чтобы сделать детей настоящими хорошими людьми, правильными и честными. – Она помедлила. – Одну поговорку я запомнила: «Лето дается всем, а счастье – некоторым». Болезнь ничего не спрашивает. И недавно мой лечащий врач (я хотела вызнать у него, как мое сердце? То затрясет меня всю, то отпустит), сказал мне со снисходительной улыбкой: «Это у вас, сударыня, уже возрастное, застарелое». А я, как мать, познавшая и испытавшая немалое, сама превосходно знаю, что это такое – воспитать детей достойными, полноценными людьми…
Она была в душе занята чем-то сокровенно-мучительным. Разговор у нее все время вращался – что заведенный – вокруг ее сложных материнских чувств и долга.
V
– У меня их трое, сынков, – таинственно-взволнованно затем объявила Нина Федоровна. Хотя двое из них уже отбились от рук моих (собственные семьи завели), это ровным счетом ничего не значит для меня. Поверьте мне.
Посмотрю я на теперешних парней-подростков: в шестнадцать-семнадцать лет они еще сущие дети – бегают по переулкам либо с такими же малолетками-девчонками, либо начинают путаться с девицами за двадцать лет, что опаснее любой заразы. И, представьте, уже семнадцатилетние, будто завзятые сердцееды, заправски уговаривают девушек. Нет, такого прежде не было: мы по-хорошему стыдились в эти годы своих чувств. Чистой мерой все мерили. Ну, глядишь, так безрассудно и свихаются сыночки. И плывут себе по быстрому течению… И уж выплыть куда-нибудь не могут: недостает у них ни сил, ни опыта, ни воли, а главное, нет ясно осознанной охоты или желания.
А материнское сердце ноет, ноет. Ведь оно – за все в ответе: как они? Что с ними? Захочется хотя б одним глазком взглянуть на них, чтобы лично самой удостовериться, задалась ли у них жизнь. Ведь растишь их безумно тяжело. Сумела ль им вложить разумное, отрадное? В одночасье соберешься в дальнюю-предальнюю дорожку и помчишься куда-то сломя голову, со стучащей в груди надеждой. – Ее истрескавшиеся губы задрожали мелко. – Но ежели теперь я такую даль прокатаю зря…
– У молодежи нынешней полярности больше, но и больше честности, правдивости и откровенности, – доказывал мне один отец очень способного ребенка, – сказал Антон. – Может, он и прав.
– Как бы равнодушная честность их не погубила, вот чего боюсь. – Морщины набежали на лоб Нины Федоровны. – У меня их было четверо, но девочка умерла в семь лет. – И после продолжала. – Губительно то, что теперь у молодежи нету того настроения, чтобы мастерить для дома, у дома. Все чаще нужно смотаться куда-нибудь. Смотришь – и друзей насоберет по пьянке. Фланируют бесцельно по панели. Басурманничают. Учатся через пень-колоду. Что ж взрастится из них?
– Вот этой зимой, – сказала Люба, я в туфельках в сугроб залезла: навстречу мне шагали табуном подростки – восемь-девять человек, весь тротуар загородили. Идут еще пересмеиваются надо мной. Довольные своим парадом. Я полные туфельки снегу набрала, но промолчала. Не то бы в лицо получила наверняка. Я вспоминаю золотую компанию брата. Случалось, что они, друзья, и выпивали на радостях, и пели дивные студенческие песни на улицах, но чтобы их сторонились с опаской прохожие, как сторонятся сейчас юнцов, – никогда. Они и сейчас такие же восхитительные, компанейские. А ведь братино поколение росло после военного, которое вообще золотое: его никто не тыкал, чтобы приучить к труду, к занятиям, – условия сами заставляли. Приходилось собственным умом доходить до всего.
– Удивляюсь только, дети, как мы живы остались – столько пережили. Мясорубка какая была – всех крошили.
– Человек – самое живучее создание, – сказал Антон.
– Нашему поколению досталось.
– Да.
– Молодости нашей.
– Да.
– Поэтому, наверное, закалились наши сердца.
В купе вернулся Коля, и Нина Федоровна допросила его со строгостью:
– Ты, что, окна там открыл? – И зябко свела плечи: – Отчего то я замерзла вся, сыноченьку.
– Нет, вроде они закрыты, – протянул он в нерешительности и тихонько сел в уголок.
– Не знаю, – заоткровенничала снова Нина Федоровна. – Не знаю про других. Моим-то сыновьям нужна была помощь в выборе профессии. Может, любовь к делу и по наследству передается, не спорю; видимо, все зависит от того, у кого какое призвание и какая пригодность к чему. У соседей сын Сережа еще с сызмальства ладил, что будет моряком и, начиная с того возраста – лет с шести – форсил во всем морском, с отца перешитом. Все сочли, что это несерьезно; как бывает, по-ребячьи. А вырос Сережа – и точно: подался в матросы, когда его призвали на действительную службу. Там, на флоте, он несколько специальностей приобрел. Разве это плохо? А мы-то сыновьям все советовали да внушали, что им лучше избрать. После наших настояний старший поступил в военное училище. В Москве. Средний – тоже. В Благовещенске. Коле же еще десять классов закончить нужно. Я на него ругаюсь отчего? Оттого, что он отчасти тоже нездоров. А у меня все осложняет еще и вторая серьезная болезнь… Обнаружилась… В этот раз в Москве (мы поэтому еще сюда поехали) я всех врачей исходила – показывалась им. И все они, особенно один со званием, моложавый, обходительный и проницательный, меня предупреждал, что гублю себя. Они настаивали на моей немедленной госпитализации для проведения операции. Но, право, не могу сейчас в больницу лечь: весь дом веду. Если лягу, – все нарушится, расстроится.
– Ладно ль будет, Нина Федоровна? Или я ослышалась, что двое ваших сыновей уже женились и живут отдельно?
– Верно: отделились от меня. Ну, и что ж!
– Вот и следует вам теперь подумать о себе – полечиться.
– Это не меняет для меня ничего и не может изменить, – упрямилась Нина Федоровна, поджимая упрямо губы, слегка оттененные заметной полоской усов. – На любви свет держится. Мне слишком жаль того пропавшего пушистого ангорского кота. И то – переживанье. А уж сыновья мои, хоть и женатые, здесь сидят, – ткнула она в свое сердце, – как заноза. У меня все полочки в голове ими заняты. Волею судьбы и волею бога я призвана быть их неотделимой частью.
Запахло свежестиранным постельным бельем: проводница принесла его – на нижние полки, – верхние были застелены, заправлены.
VI
Напоследок она затянулась докуренной папироской. Ловко потушила ее и кинула в прикрепленную к стенке пепельницу, звучно щелкнув крышкой:
– Тот чудный кот пропал у нас зимой, полтора года назад, когда Коля оперировался. Все-таки сдается мне, что это работка Любы, озлобленной на все и всех и психованной соседки, частенько досаждавшей мне, как я попадала в поле ее обостренно-завистливого зрения. Была вся на виду.
– Васька очень верный, умный был. – Вернувшийся уже в купе Коля улыбнулся застенчиво, лишь краешком пухлых губ: – Весь розовый, с белой грудкой. Десять килограмм весу.
– Ого! Ничего себе котище!..
– Коля приволок его откуда-то. – Поспешила дорассказать Нина Федоровна. – Кот приблудный, но на редкость смирный, послушный и сообразительный – неописуемо редчайший кот. Всеобщий любимица, в особенности малышни. Его воспитали же матросы – народ доблестный, хороший. В дом он ни одну животинку не впускал: был его бессменным сторожем. На задние лапки становился. Почти вытанцовывал под баян. Проказничал. Таскал у меня валерьяновку и с блаженством нюхал; он все подряд нюхал – ничего не пропускал, а валерьяновку – особенно нахально.
Тогда я из-за него в пух и прах (себя не узнаю) отчитала соседку Любочку, визгушку, люто ненавидящую и животных. Перекинулись мы с ней лихо. – Нина Федоровна со смущенной усмешкой качнула головой. – Тогда Колю прихватило. Васька наш еще вертелся под ногами, мешал всем. Учуял, что запахло валерьянкой, да на стол, что сумасшедший, вспрыгнул. Ваську вдесятеро рук ловили – изловили, вышвырнули вон. А он, сметливый пройдоха, шмыгнул в приоткрывшуюся дверь, промеж наших ног, и опять ошалело взвился на стол, завертелся среди аптечных пузырьков с настойками. «Ну, ясно, отчего он ошалел», – проронила докторша.
Колю на носилки положили и вот скорей – в машину санитарную. Он в столовой отравился. Причем думали, что у него перитонит; оказалось же – воспаление брюшины, могли быть не менее тяжелые последствия. Повезли его в районный военный госпиталь. Однако этот ни за что не принял. Развернулись и – в окружной, и здесь тотчас взяли, без излишних препирательств, в отделение определили. Да как он, бедный, в одной нижней рубашке лежал пластом на спине на брезентовых носилках, укрытый сверху шубами, да по двадцатипятиградусному морозу таскали его туда-сюда, так он позвоночник-то и застудил. Нужно класть его на операцию, а у него температура подскочила к тридцати девяти градусам, нипочем не понижается: делать операцию нельзя и нельзя не оперировать – все опасно далеко зашло. Все же сделали ее.
Он несколько суток не приходил в сознание. Коля больной, и я немного слегла. Как пойдет, так и пойдет… Бегаешь, как рысь. С темна до темна… Все делаешь своими руками. Сгоряча я еще поднялась с постели, кое-как ковыляла, слабая, – мы с моим мужем, Тихоном, каждый день наведывались к сыну, – а потом я совсем ослабла. Чуть подвигаешься – сразу мокрая вся, как гуня. Я занемогла надолго. И экзема отметила Тихона, предрасположенного к ней: все руки у него багровыми струпьями покрылись. На нервной почве. Излечению не поддавались. Забинтованный, как мумия, был. Он диетой и сейчас еще ее выводит.
Вот, слава богу, Коленька выдюжил… Его, спасла выносливость. У него выносливое сердце.
Я не пожалуюсь: в детстве он ничем особенным не хворал; как ни туго и ни худо нам порой приходилось, я все-таки и его уберегла от острых хворостей. Сама недоедала, на одежде экономила, но пуще всего заботилась о том, чтобы дети физически окрепли. На еду им не жалела средств. И он рос каким-то немороженым, всегда грудь нараспашку. Лазал по деревьям, карабкался на крышу, на самую верхотуру. А в футбольных и всяких подвижных играх норовил он со взрослыми тягаться. И это, наверное, помогло ему в критический момент: пособило выкарабкаться. Это-то – в его настойчивости.
Но из-за нее теперь не знаем, как в дальнейшем лучше выбрать ему путь. Он же только семь классов закончил, и ему пятнадцать лет с половиной.
– Неужели? – не поверил Антон. – Что, может, отстал из-за болезни?
– Нет, нисколько; целый год он потерял: сперва не захотел идти в школу.
Было странно услышать это от нее.
– Отказался, что ли? Не послушался?
– Нет, с ним было еще хуже в том ребячьем возрасте… – И она замялась, взглянув на Колю и точно размышляя секунду, сказать или нет. – Он дичился всех подряд, что нередко бывает в случае, если это не детсадовский, а домашний ребенок. Не привык к детской многоголосице, терялся в ней. Я ведь долго была неработающей женой, идеальной домохозяйкой, так что могла себе позволить блажь – воспитать своих ребят испытанным старым образом, в естественных семейных условиях, не причесывая их ершистые характеры. А добилась, что дичливый Колинька в самый расторжественный для нас час подвел меня: смалодушничал – забился под кровать трусливо и не вылезал, несмотря ни на какие уговоры, обещания. Я ему уж говорю поласковей, пообходительней, что вот пойдешь учиться – и тогда шофером станешь (нравились ему шоферы – грезил ими). А он горько, безутешно плачет под кроватью: «Да! А я мальчишкой хочу быть, и все; я мальчишкой буду, вот…» Мне жалко и его, жалко и себя. «Ну, мальчишкой, – сдаюсь, – вылезай; а не то и сама зареву белугой, заодно с тобой, – посоревнуемся, кто голосистее…»
Коля, веселее улыбаясь и краснея, слабо дважды попросил:
– Мам!.. Ну, мам!..
– «Что же ты, герой, будешь неучем?» – внушаем ему, – не слушала его, или просто не слышала его робкого протеста мать. «Нет, я с мамой буду жить», – упрямствует он и ревет несчастно – дрожит весь, что листочек. Спасовали мы, большие дурни. Видно, вовремя не настроили его психологически. В то время было опубликовано постановление – чтобы в школу принимать с восьми лет. А ему семь с половиной было. Рассудили мы: беда не велика – он на следующий год пойдет учиться. А на будущий год ему стало уже восемь годков с половиной.
Еще только-только тогда ввели школьную форму, – торопилась рассказывать Нина Федоровна, – и ее еще не продавали в наших захолустных магазинах. Я за нею специально съездила в Москву – привезла ее ему из ГУМа. И теперь он сам засобирался в школу. Первого сентября он в нее снарядился и, безмерно горделивый, сияющий, пошагал с тугим портфелем; за ним высыпал весь край завороженных девчонок и мальчишек: ведь ни у кого еще не было такой красивой ученической формы! Знаете, с блестящими медными пуговицами и с широким кожаным ремнем с большущей медной бляхой, надраенной тоже до огненного блеска его отцом – кадровым военным. А явившись домой с уроков, он мне повинился неожиданно, что сглупил прошлой осенью: он уже жалел упущенное время.
– Что, самостоятельно, Коля, так решил? – спросила Люба. И тот утвердительно кивнул, пряча глаза.
– Увидел то, что сверстники уже во второй класс пошли, а он – только еще в первый, что по-зряшному учебный год пропустил: только из-за своего упрямства, договорила Нина Федоровна. – Это-то позднее у него начало, и выливается в безвыходность. Может, оформить ему паспорт в Севастополе, как его уроженцу. И он поступит куда-нибудь в ремесленное училище и совместит с учебой в вечерней школе? В дневной-то он десятилетку не успеет кончить: служить в армию возьмут – его годы пройдут. Вот что.
– После службы наверстает, если пожелает.
– Ума не приложу: как быть? Посудили-порядили мы семьей, но ничего толкового не придумали. Не придумать нам.
VII
Нина Федоровна, встав и выпроводив Колю из купе, взялась стелить две постели – наверху и внизу. Но, постелив их наскоро, с заговорщическим видом присела снова:
– Беспокоюсь я о нем оттого, что тревожно в мире, – успеет ли он пожить по-человечески, не так, как нам довелось жить-отживать в войну? Мы такую святость совершили: наземного черта, чудовище укоротили. Не околели – одолели. А политики без царя в голове сызнова раскручивают страсти, атмосферу накаляют. В Китае обстановка ухудшается, все военизируется – видно нам через Амур. Ох, крута горка, да забывчива! Иные дельцы все рассчитывают, что планета в обратную сторону пойдет.
– Ну, не те времена наступили все-таки, – сказал Антон.
– Человеку нужен спокой золотой. Человек вперед глядит. Сколько посеет, столько и пожнет. А сколько будет сеять, сколько жать… Золотое времечко пройдет. И поэтому повально все торопятся жить. Все свадьбы-то превратили в чисто коммерческие сделки. Женщины публично в халаты вырядились, таки, что тело до пояса видно; и на коленях полы распахиваются так, что все в открытую блестит, сверкает. Женщины решили себя показать во всем ослеплении. Ну, а ваш брат тоже хорош, – взглядом Нина Федоровна просверлила Антона. – Девушки приглядываются, как им лучше замуж выйти – это у них кровное, историческое, а молодой человек – чтобы была она красивой и чтобы обязательно имела квартиру. Так, послушаешь повсюду – что сейчас всех занимает: все, кроме нравственной проблемы: она – постольку-поскольку. Из-за этого и дети перессорились с родителями, и родители с детьми. Я наездилась везде, и у вас тоже – в автобусах, в метро, в лифтах, в электричках, насмотрелась всего и смело могу теперь сравнивать. В жизни сегодняшней, пожалуй, то же самое, что в переполненном автобусе в час пик: толкучка… А мой вахлак и без толкучки, – развивала Нина Федоровна свою мысль, – так неудобно развернется, встанет поперек хода, что всем мешает, но будто и невдомек ему: еще недвусмысленно дает тебе понять, что это ты ему мешаешь, застишь свет. И норовит-то пень поднажать, сдвинуть тебя с места сильным мужским плечом. Ну, уступишь такому, подвинешься от греха подальше, – говорила она загадками. – Я страсть не люблю, когда ко мне цепляются ни с того, ни с сего. Все в груди поднимается волной и в голову ударяет…
Она машинально раскрыла на середине затрепанный томик, но, мельком заглянув в него, захлопнула его и отложила прочь. Печально-грустно улыбнулась чему-то.
– Вы отдохнули б, – сказала Люба. – Не переутомляйтесь…
– Да, голубушка, благодарю. – И Нина Федоровна призналась: – Отчего я эти дни досадовала, злилась на себя (и сейчас жалею сильно) – оттого, что еще посмотрели – вместе с Колей – у вас, в Ленинграде. Иностранный фильм «Это было в сочельник». Что, не видели его? Ну, верно, пронюхали, что не стоящий…
– Вероятно, недосуг был…
– А мою-то бдительность невзначай усыпило такое безобидное название. Я влипла по уши. И горела со стыда: я же, мать, воссиживала рядом с Колей в зрительном зале и заодно с ним глазела на фривольные сценки… Получалось, что я самолично это одобряла… Ну, пока он в коридоре, покажу вам снимки моих взрослых сыновей. – Она вынула из сумочки фотографии и протянула их Любе: – Этот, старший, – Леня. А этот, средний, – Саня. К нему-то мы и едем. – Глубоко вздохнув, она от волнения привстала. Опять села. Пришла в себя. – И, значит, вот Тихон, мой благоверный. Как однажды философствовал, я слышала, один забавненький старик: «У меня детей трое – два офицера и один сын…»
На фотоснимках оба брата были в курсантской форме. У первого, с простоватым крупным лицом, с несколько расплывчатыми чертами, был откровенный и приятный взгляд; у второго же – лицо тоньше, интеллигентнее, с затаенной скрытностью, хотя оба они внешне походили на отца. А тот, еще молодцевато-молодой, серьезно глядел с пожелтевшей карточки, заснятый вместе с доверчиво приклоненной к нему темноглазой девушкой в матроске, т.е. Ниной Федоровной, еще в предвоенное время – в гимнастерке без погон, но с петлицами и портупеей через плечо.
– Моя мать – любительница снимков: копит их, бережет, – простодушно сказала Люба, возвращая фотографии их владелице.
– Ей, должно быть, память дорога, – заступилась Нина Федоровна. – Живой ведь человек.
– Да, занятно: она выудит их из шкатулки, засядет и начнет по-новому разглядывать и комментировать их для меня и брата моего. О, какой веселой и задорной я была! А вот я в год замужества: видите, уже заметно сникла… А это – мой первый ухажер, Денис Петрович. Очаровашка, верно?.. А тут мы – послеблокадные немощи… Накаруселились сполна…
– Да и я с мужем намоталась, понаездилась везде, покуда не осели мы, не обжились по-людски, – сказала Нина Федоровна. – И я, хотя изъездила с ним полстраны, не побывала-таки в Ленинграде! А хотелось на город посмотреть. Ну, и побывали здесь, наконец… Меня доконал ваш сырой климат. Все десять ден подряд над городом висела мочливая погода – и я проболела все.
Вдобавок, поведала она, их насилу поместили (тьма туристов понахлынула) в новой гостинице, по соседству с рестораном и продуктовым магазином. Под гостиничным окном с наираннего и до наипозднего часа гулко скрежетали тормоза машин и тарахтели моторы, – привозили продукты и водку, увозили пустую посуду, тару, – звякали бутылки и брякались ящики; во всю ивановскую кто-то перекликался и переругивался с кем-то, приговаривая мать, и трезвонили голоса и гитары подвыпивших. Поэтому она расклеилась так, что трижды к ней вызывали неотложку. Погостить же у своей давнишней знакомой, Аллы, в двухкомнатной квартире… в элеваторе… не посмела – незачем обременять ее!..
– Позвольте… – удивил Антона каламбур. – В элеваторе?..
– Я Вас озадачила? – И Нина Федоровна пояснила. – Я нахожу, что теперешние узкие многоэтажные коробки поразительно напоминают хлебные элеваторы. У моей же Аллы сейчас главенствует свойство умиляться всему. Она-то так запатриотилась городом – безумно восхищается им. А, по-моему, город как город. Москва все-таки роднее нам. Одно мне непонятно: какая ж жизнь возможна в таком климате? Здесь и солнце, ей-богу, какое-то ненастоящее, скользящее…
– Помилуйте! – обиделась Люба за несправедливый отзыв о Ленинграде, прелести которого приезжая не открыла для себя вследствие, быть может, своего болезненного состояния. – Да были ли Вы где? И что видели?
– Ну, шастали мы и в кинотеатры…
– Так при чем же город, Нина Федоровна?
– А я говорю, голубушка: нас погода вынуждала… Были в Эрмитаже и в Русском музее. Устали там. В зоопарке нагляделись на жираф – как они свысока глазели на нас, двуногих. Ну, съездили еще в Петергоф. Мне не очень понравились фонтаны: я ожидала увидеть нечто сказочно единственное, уникальное.
– Ну, Вы скажете еще!..
– Съездили потом на Пискаревское кладбище. С Аллой. Ее родной брат схоронен там. Безымянно.
– Что, и все?
– Да, и кончен, кончен бал, – сказала Нина Федоровна с досадой. – Мы с Колюшкой сегодня утомились зверски. Я посижу еще чуток – и лягу. Благо вагон устроенный, – все полегче. От Москвы же мы били свои кости в жестком. По моей неразумности бабьей… С оголтелой публикой. С полки слезть было нельзя: натолкалось столько пассажиров; набили людей в вагон, как селедок в бочку… – Она, взглянув в вагонный коридор, позвала: – Колинька, иди! Спать пора!
Он послушно воротился в купе. Залез на верхнюю полку.
VIII
Ночью Нина Федоровна спала очень беспокойно либо вовсе не спала. В противоположность Коле, который, едва завалился на постель, так сразу же и уснул и спал, что убитый, без единого движения и в одном и том же положении – на правом боку, и, посапывая по-ребячьи, – она всю ночь во сне – или страдая бессонницей – ворочалась на диване или садилась.
Наутро она, еще лежа в постели, хлюпала носом; пытаясь просморкаться, полушепотливой воркотней себя изводила. Когда Антон спустился с полки и потише – чтоб не потревожить еще спящих – поздоровался с ней, его поразил ее явно нездоровый, разбитый вид: лицо у нее отекло, и синели под глазами отечные мешки. И в глубине души он невольно ужаснулся ее явной опрометчивости – что она, болящая, издерганная вся, отважилась поехать поездом через всю Сибирь. Что ее принудило к тому? Какое, спрашивается, лихо?
– Еще насморк я подхватила, – поделилась она еще более хрипловатым, чем накануне, голосом. – Мне, правда, нехорошо; я, очевидно, вновь заболеваю. Меня забирает что-то – ломает и так и сяк. Вчера худой дяденька в трамвае расчихался подозрительно… И я-то – грех! – даже подумала: «Вот заразу разносит…» Ох, батеньки, дрожь всю меня пробила… Под тонким байковым одеялом…
– Но ведь достаточно тепло, – уверил Антон.
– Да это еще потому, что я везде никудышно сплю; такой неглубокий, летучий сон у меня, – призналась она, просморкавшись. – Потому и в мою голову лезут несуразные мысли: я ли сейчас еду к сыну или мне только кажется это; потому мне хочется всякий раз ущипнуть себя побольней, чтоб удостовериться в том, что я доподлинно еду. – Она обеспокоено глянула наверх: – А Колюшка еще спит? Ну и пускай поспит! Он очень тяжел на подъем. Все – едино наш вагон пустует – и помыться еще успеет. Без хвастовства скажу: я приучила детей к аккуратности. Они следят за своей чистотой, что верно, то верно. – И уже пожаловалась проснувшейся Любе: – Я плохо, доченька, спала: горло прохватило, кажется.
– Чувствуется: у Вас простуженный голос, – лежа, подтвердила Люба. – Вы с хрипотой говорите.
– И что-то ужасное наснилось. Потому я утречком, как проснусь, нарочно смотрю на свет дневной, чтоб ужасное, что может быть, забыть начисто: ведь как на белый свет посмотришь, так тотчас и позабудешь все невыносимое, тревожное. По-татарски значит: у сна шея тоньше, чем у волоса; как скажешь, так и повернется в действительности; лучше всего забудь все, что тебе нагрезилось. Похоже, век такой неодержимый. Не только для меня – для всех. Но я ни на кого не обижаюсь. Разве только на саму себя. Я безмерно любила и люблю детей. А недруги, злыдни еще укоряют меня. «Ой, матушка, и с одним-то чадом не знаешь, как сладить! Как нормально вырастить дите!» Стало быть, кругом я сама виновата, что народила столько их, ребят. Выходит, я – поперечный человек: поступаю вопреки суждениям.
– Главное-то: если тебе самой совесть велит и ничему не противоречит, то и ладно, – рассудила Люба. – И кому тут какое дело!
– И то: если бы у меня не было их, детей, – какой бы смысл для меня имела жизнь? – Как исповедовалась Нина Федоровна. – Да, раньше мы много рожали, на аборты не поддавались. Уж не знаю, легче бы мне было, если бы у меня были дочери. Ведь и сыновья, как должное, требуют и берут от нас, матерей, все: для них постирай, погладь, белье приготовь, костюм зашей, вкусно их накорми, нужное купи им, подари и, будь добра, денег еще дай на концерты, на кино, на танцульки да и на девушек и на друзей, – и они нисколечко не задумываются над тем, чтобы чем-нибудь отдарить своих дорогих мам или чтобы хотя бы разок приветливо-ласково спросить: «Ну, как у тебя, мама, дела?» Об этом почему-то всеми детками забывается. А спросите у любого ребенка об его привязанности, – он скорее назовет мать: она в основном возится с ним. Чаще, намного чаще наступает такой момент, когда решающим должно быть и становится наше – материнское – слово, а не отцовское.
– Ну, с моим братом точно так. Даже и до сих пор мама трясется над ним, даже женатым мужчиной, семьянином…
– Не зря же ученые пишут о деградации полов, – вставил Антон.
– Заразительна и губительна безоглядная щедрость к своим отпрыскам. В нашей семье, правда, того не было; но зато она была и есть в других семьях – неприкрытая. Законы-то всюду свои и в то же время одинаковы. – И Нина Федоровна закруглила разговор, услыхав, что зашевелился на полке Николай. – Так что же, что же мне делать?..
Антон сказал ей что-то успокаивающее, и она оттаяла чуть:
– Вы оба очень милы. Благодарю!
С полотенцем и мылом Антон шагнул в коридор, где в свежем пока воздухе уже плавали сгустки табачного, щекотавшего в носу, дыма.
IX
Пассажирский вагон был немецкого производства – лучший: на простенке серела привинченная бирка с оттиснутым названием завода-изготовителя. Значилось на ней: VEB WAGGONBAU AMMENDORF (ГДР). И хотя в вагоне все было предусмотрено для удобства пассажиров: губчатый резиновый коврик под ногами, матрасы из упружистого пенопласта, облицовка желтовато-палевого цвета, хотя все было мастерски притерто, приделано, прилажено, имелись всякие решеточки для вещей, ремни, полочки, крюки, приспособления – все равно и даже у Антона слегка разболелась голова… от сквозняков, от вдыхания паровозной гари и от вагонного качания. Умаивали ограниченное пространство и времяпровождение.
Бренчало радио.
Бестелесная кондуктор, разносила дымящийся чай в стаканах. Сурово, по-командирски, вопросила:
– Вам сколько?
– Пожалуйста, два стакана нам и… – Люба посмотрела выжидательно на Нину Федоровну. И та добавила:
– И мне с сыном… тоже два. – И заволновалась, советуя: – Колинька, не напряжай глаза, прошу.
Коля уже читал, держа в руках, том романа А.Толстого «Петр Первый».
Во время завтрака Нина Федоровна кормила его – они ели припасенные яички, копченую колбасу, сало, апельсины – что малое дитя, чуть ли ни с ложечки, настойчиво потчуя его очищенными и нарезанными дольками и ломтиками еды. Он и не противился ей, не бунтовал, напротив, исполнял с готовностью ее понятное желание получше накормить его.
Окончив трапезу, она привела в порядок столик и свои места. Ловко прибравшись, опять опустилась на сиденье; вынула из сумочки стопку видовых открыток, накупленных в Ленинграде, и рассматривала их, склоняясь к сыну, отмечая вслух те места, где они были, а где не были.
Позже она прилегла на диван (все усиливалась духота) и лежала, неподвижно, как бы остолбенело, находясь в отключке и уставясь взглядом куда-то вверх, и ничего не замечала и не слышала – и ни того, как Коля по-тихому исчез из купе и как Люба временами вполслуха прочитывала для Антона удивлявшие ее отрывки из синенькой книжки (беллетристика) польского писателя Фидлера «Рыбы поют на Укаяли». Свидетельства путешествующего ученого оказались чрезвычайно интересны.
Между тем в вагоне, нагревавшимся под солнцем, нисколько не проветривалось и становилось все душней; выяснилось, что вентиляторы были испорчены и, естественно, потому бездействовали. В открытые же окна надувались пыль, песок и копоть, вылетавшая из паровозной трубы. Из-за этого-то проводница, бранясь, немедленно прикрывала их, – поминутно подметать пол ей не хотелось ни за что.
Было, что в коридоре, качаясь, стояла и Нина Федоровна, покуривая машинально, слабовольно, закашливаясь. Причем всякий раз, когда она бралась за папиросы, Коля взглядывал на нее встревоженно, отчего она беспорядочно, с молящим взглядом, махала руками на него, веля ему отвернуться, но так, точно в большом смущении разгоняла горько въедливый дым перед его молоденьким румяным лицом и точно его самого оберегала от такого же искушения.
Наговорившись там-то, у дальнего окна, с весьма самоуверенной желтолицей молодайкой в полосатом бело-голубом платье, она вернулась в купе повеселевшая. Сообщила:
– Знаете… Я познакомилась с севастопольчанкой, Раей, – и накинулась на нее с расспросами… По замужеству она покамест проживает в Мурманске. У нее муж старлей. И едет она сейчас в Севастополь – на родину – к матери.
Люба, почти безотрывно читавшая свою книжку, поинтересовалась, которая это Рая. Она тоже хотела бы поговорить с ней о Севастополе, – он дивно, говорят, спланирован… А! Та… Ну, брошки у нее прямо-таки голливудские. И она, опустив с дивана ноги, наощупь надела домашние туфли и юркнула вон.
В эту минуту на вагон налетела тень какого-то косогора, усилился дробный перестук колес о рельсы, и Нина Федоровна, вздрогнув, насупилась разом и как-то поджалась. Целиком ушла в себя. И уж никого опять не замечала.
Антон, маленько полистав старые газеты, взятые с собой из дома, тоже вышел: его удручало состояние попутчицы, ее стенанье.
Так томительно шло время.
В полдень неожиданно запахло борщом и жареным мясом: это официантки из вагона-ресторана разносили блюда, заказанные на обед пассажирами. Когда пышная и с виду сонливая блондинка, в белом нечистом халате, держа в пухленьких руках судки с пахнущей пищей, остановилась у купе и предложила обед.
– А луковый суп у вас есть? – спросила с надеждой Нина Федоровна.
– Нет. На первое – солянка, борщ. На второе – бифштекс, тефтели, голубцы. И компот. Выбирайте!
– Ну, дайте две солянки. – И Нина Федоровна поочередно, беря из рук официантки по суповой тарелке, поставила одну на столик. – Принесите еще одни голубцы и бифштекс.
– Хорошо.
– Коля, кушать! – сразу позвала Нина Федоровна. Тот был в коридоре.
Кашины же, проследовав через соседний сзади вагон, заполненный едущими до отказа, с шумной беготней разыгравшихся ребят, попали в неуютно безлюдный ресторанный, в котором только двое посетителей уединились за крайним столиком – с увлеченной беседой – моложавый мужчина в белоснежной рубашке и будто зачарованная чем-то дама с короткой стрижкой. Но тем не менее официантка, прямо-таки расписная матрешка, явно мурыжила для порядка Кашиных – не поторопилась, чтобы подойти к ним, севшим за столик, и взять заказ, а судачила о чем-то сокровенном с другой. И потом поданное ею жигулевское пиво в бутылке было теплым, прокисшим – оно обильно пенилось; и безвкусны, что вареная трава, были борщ и также бифштекс.
Пока матрешка и медлила подать счет, поезд заметно сбавил скорость и притормозил – въехал на станцию Брянск, знаменитую в войну адом рельсовых атак партизан против немецких оккупантов. И нужно стало протискиваться вон из вагона сквозь толпу напористо полезших в ресторан путейцев в измазанных мазутом и маслом спецовках, сующих измятые рубли (за папиросы, за сигареты и за пиво) официанткам, которые покрикивали на них привычно.
После этой остановки в вагоне, пополнившимся новыми пассажирами, стало шумней. Плакал чей-то ребенок. А некий местный пассажир, толокшийся близ купе, говорливо рассказывал что-то всем. Он знал все и самолично испробовал многое. И выкладывал свои обыкновенные познания, но, очевидно, воодушевлявшие его на публике.
X
– Все-таки не понимаю, как можно мужчине быть таким болтливым – беспредельно! – неодобрительно проговорила Нина Федоровна, измученно сидевшая на диване. – Нет, все же мои дети непохожи, нет: они воспитаны, не бестолковы, обладают тактом.
– Какой же глупый, господи! – чертыхнулась и Люба, лежавшая с книжкой.
– Вот именно, доченька: глупый и трещит, а умный-то молчит. – Будто с огорчительностью подтвердила Нина Федоровна. – Но бывают в жизни случаи, когда ум не принимается в расчет; бывает, что и умный человек да несуразное, глупости делает. Стихийно, слепо. Словно неожиданная буря на природе. Слышите: он, кажется, и о ней рассказывает… Что, она пронеслась по этой местности недавно?
– Действительно: намедни, что ль, – подтвердил Антон. – Видно все на той стороне. Ураган пронесся полосой, снес крыши, повалил деревья, разбросал кирпичи…
И Нина Федоровна суетливо огляделась с недоумением.
– Там, в коридоре, и Коля, – Антон открыл купейную дверь. – Не волнуйтесь. Он разглядывает то, что наделал ураган.
– А-а! – лишь успокоительно издала она звук. И опять задумалась, сидя тихо, будто пытаясь осмыслить что-то из того, что она не понимала умом своим, но что не хотела, верно, разрешить самым что ни есть благожеланным образом. Затем, отдуваясь и выглянув из купе, недовольно проворчала: – Что ты, Колюшка, закрываешь окно! Оставь чуть-чуть! Ведь страшная жара…
– Я наоборот открыл, мама, – сказал сын.
– Ну, извини меня, сыноченьку.
Но тут же появилась бранчливая проводница и, распекая всех за пораскрытые окна, – ведь снова набьется пыль в вагон, и ей нужно будет подметать коридор, – вызывающе задернула оконные рамы. Что раздражило Нину Федоровну, сказавшую ей вслед:
– Это та категория злюк, которым говоришь: «Стрижено», а они в глаза тебе гнут: «Нет, брито»! Таким бы служакам только мундир с погонами дать и для них разбить все общество на начальников и подчиненных.
– Оно, вроде бы, и было так в начальные послевоенные годы, – подоспел тут как тут поближе к купе неустанный говорун, – когда присваивались наподобие военных звания почти везде – на железных дорогах, у геологов, у финансистов (и звучало-то еще как: «генерал – директор тяги», или «младший советник»), и вводилась особая форма со всеми знаками отличия. Это же откуда переняли – от Петра Первого, царя, который свой толковый табель о рангах издал на пользу…
– Хватит! Хватит Вам трещать! – остановила его, морщась, Нина Федоровна. – Как можно?! У меня голова раскалывается…
В этом дальнем рейсе утомительно-медленно текли свободные часы, хотя и при быстром все-таки безостановочном почти движении поезда. Кто чем занимался и с кем знакомился, сближался. Однако ничто, ничто не могло развлечь и каким-то образом заинтересовать Нину Федоровну. Казалось, она не то, что тяготилась теперь шумливого вагонного общения и сторонилась всего и всех, а целиком уж впала, что называется, в тихую сосредоточенность, свойственную, вероятно, ей.
Ввечеру поезд, прибыв в Харьков, зашел на третий или на четвертый станционный путь. Соседний же справа (с той стороны межпутного перрончика) только что занял встречный пассажирский, везущий отдохнувших пассажиров, и те, высыпав из душных вагонов, как горох из стручка, шоколадно загоревшие, в легких и пестрых костюмах, шустро зашныряли по заасфальтированному междупутью, от ларька к ларьку, – в поисках съестного. Оттого вмиг возникли продуктовые очереди. Из-за этого-то Нина Федоровна, вышедшая из вагона поразмяться, и немало расстроилась: она хотела купить без толчеи что-нибудь из еды для себя и Николая. И теперь было заспешила для того в новый вокзал, а также заодно для того, чтобы осмотреть вокзальные помещения.
Только Люба отговорила ее – здесь коварно устройство дверей: они автоматически закрываются за две минуты до отправления поезда. Так что для непосвященных есть опасность ни за что ни про что очутиться на вокзале все равно, что в ловушке непредвиденной. И Нина Федоровна, заопасавшись, повернула назад.
– Нынче, в июне, точно так опростоволосился мой провидящий отец. – Люба не сдержала смешок. – Они с мамой возвращались из Кисловодска после лечения. Он вылез налегке (и без денег) из вагона, прилип к книжному киоску, а вот вскочить обратно не успел… От поезда отстали пятеро мужчин. Их отправили лишь назавтра на каком-то попутном поезде за казенный счет… И до чего же жалок был отец, добравшийся-таки домой, под крылышко нашей мамы!
– Да-да, как трудно, оказывается, быть смешным и как легко им все-таки быть – вот какой отсюда напрашивается вывод, – заметила Нина Федоровна, обеспокоенным взглядом выискивая в толпе сына, отлучившегося куда-то от нее. – Печально! Но, видно, наш удел такой.
И надо было видеть с какой гордостью и вместе с тем с необъяснимой тревогой она, увидав Николая, наблюдала за тем, как он, покупая у лотка мороженое и полуобернувшись, затаенно-ласково отвечал что-то приветливой светлой девушке, стоявшей позади него. Однако она, мать, только позволила себе деликатно подтрунить над ним по этому поводу, когда он подошел уже к ней, матери, и, вручив ей стаканчик мороженого, сказал, что девушка эта участливо одолжила ему недостающую мелочь.
– Ну, мам! Не говори так… – слабо защищался он, покраснев.
С тем он на час-другой как-то потерялся из виду.
Бесспорно: Нину Федоровну все неотвязчивей одолевали какие-то великие сомнения, словно она все определенней осознавала свою беспомощность перед чем-то неотвратимым. И когда Люба попыталась ее успокоить тем, что уже скоро приедем в Крым, и все будет замечательно, она проворчала лишь нелюбезно:
– Скоро! Скоро!.. Вам-то, беззаботным, что!..
XI
Потом Антон застал в купе (но прошел вперед и уселся на диван к окну) Раю и молодую широкоскулую особу, которая поднялась в вагон в Харькове и подле которой вертелся ее явно болезненный мальчик лет шести: первая, картинно привалившись спиной к стенке, воссела около Нины Федоровны, в углу, а вторая – напротив, рядом с Любой. И она-то бесстрастно тихо рассказывала какую-то захватывающую историю, вызывающую одно сочувствие, тогда как мальчик ныл-поскуливал, как умеют дети, на одной настроенной ноте – жалобно, противно, надоедливо, хотя мать и одергивала его терпеливо. Оттого в ушах у Антона зазвенело вскоре, и он раскрыл купленный накануне тонкий недочитанный журнал и уткнулся в ту статью со статистическими выкладками, чтение которой отложил «на после». Он даже и увлекся обзором выводов ученых-демографов. Однако он очень скоро убедился в невозможности читать дальше: его все больше отвлекало от чтения монотонностью своего голоса белолицая незнакомка с обычной внешностью, с прямыми пшеничного цвета некрашеными волосами. Но она с каким-то застыло-отупленным выражением на лице несчастно-трагическим голосом – он звучал как-то надтреснуто, словно с полустертой пластинки, – рассказывала о себе все так, как есть, без всякой утайки, по совести.
А один раз она вышла из себя: внезапно дернула за руку своего вертлявого и ноющего сына, усадила его возле себя со словами:
– Сказала: не вертись! Не вертись, Вова! Житья мне с тобой нет!
Отчего мальчишка совсем расхныкался и неистово стал вырываться от нее, как затравленный волчонок:
– Чего ты толкаешься! Ну чего ты толкаешься!
Она, уже оставив без внимания его жалобное хныканье, платком вытерла пот с его бледного лица и вновь его отпустила:
– Уймись! Не бегай! – И как бы в оправдание свое добавила для всех: – Ох, и намучалась я с ним! Уж очень непоседливый ребенок. Чуть простуду схватит, – и тогда одно мученье с ним. Ни минуты покоя не знаешь. А побегает – вспотеет. У него ведь бронхи, и как что – мокрый кашель. А если запустить эту болезнь, вовремя не вылечить ее – это ж очевидный туберкулез… Мне один врач – хороший детский врач – советовал отступить здесь от правила: пусть малыш займется чем-нибудь, вроде б этой самой физкультурой. Чтобы, главное, побольше двигался физически.
– Похожим недугом страдал когда-то Игорек, сын моей подружки, учительствовавшей тоже, как и я, несколько лет в начальных классах, – сказала Нина Федоровна. – Но затем его родители переменили климат – перебрались южней, на Украину. И вот спустя какое-то время в нем даже не нашли и следов прежнего недуга.
– Лишь в этом году мужу отпуск предоставили из-за болезни сына, – рассказывала флегматичная незнакомка. – Отпуск выцарапали с барабанным боем. Муж приедет к нам в Ялту, где мы планируем быть, позже; тогда мы с ним и повезем сына в Евпаторию – на разные процедуры, как ванны и прочее. Нам непременно нужно менять климат, я знаю; никто иной, как врачи, прописали нам перемену климатическую. Но военное начальство мужнино, знамо, и слышать не хочет о его переводе. И потому-то я привязана: вместе с ним уже пять долгих лет – шутка ли! Из-за этого во мне чувство сидит такое, что я как родилась, так всю жизнь уже замужняя. Нерадостное чувство! Иногда, ой, как хочется позабыть все заботы замужние. Ан нет: я уже пыталась, словно глупенькая пташка-свиристелка; попалась, впряглась и уж, хочешь – не хочешь, вези свой груженый воз. Получилось-то у меня очень глупо. Когда только полюбила будущего мужа, тогда все препятствия к любви и жизненные неурядицы я воспринимала, в общем-то, бледно, нереально; порхала на крыльях этой любви, и все мне казалось нипочем. А когда я целиком окунулась в семейную явь, из которой не можешь вынырнуть ни на минуту, когда рядом исходит стенаньем родной сынуля и помочь мне, матери, не может никто-никто, включая и любимого мной человека, – тогда все во мне переменилось резко. От мужа я постепенно отдалилась. Теперь главное для меня – здоровье сына.
Однако для командиров врачебные предписания – вовсе не указ. Повертели справки из поликлиники: «Ну, да это вам какая-то бабка написала – что ты суешь их нам под нос! Ты представь нам настоящие документы! От начальства!..» Поругался муж – горячий. И, знаете, что они сказали ему в отместку? «Держись: мы сделаем так, что ты, Колесников, и фамилию свою забудешь». И выгнали его вон из кабинета.
«Ну, ты хороший ходатай, – сгоряча упрекнула я Максима. – Не можешь постоять за себя, не только за меня и сына?» «Что же мне – стреляться?» – говорит он. «Смалодушничать легче всего, – отвечаю ему. – Так ничего не решается». И сама направилась к его непробиваемому командиру, в его кабинетище. Хотела я поговорить начистоту. А он, представляете, даже и выслушивать меня не стал; не захотел и вникнуть по-разумному в наше отчаянное положение – ни-ни. За дубовым столом заборонился в кресле. Враждебен донельзя, хмур. Весь побагровел от того, что я, чья-то заштатная офицерская жена, фитюлька этакая, прекословила ему. И вот стал он сопеть подкашливать начальственно, сердито. Убивает меня своим тяжелым полковничьим взглядом. Да я-то – не промах! – напрямик заявила ему, что я не из пугливых что я, прежде всего женщина и что он не может скомандовать мне: «Кругом! Шагом марш»! На что я еще отдам ему честь, возьму вот так под козырек. – И она вскинула тут ловко, ребром ладони, свою правую руку ко лбу, будто сама служила в армии. – «Меня зовут Надеждой, – заявила я. – Так запомните: я все равно уеду отсюда, из таежной глуши, но уеду одна с ребенком, если вы все не отпустите мужа». Полковник рычит, что все равно не переведут никуда капитана Колесникова, твержу Вам: дескать, ваш капитан пока не ходит в бурлаках, не такая Советская власть.
Действительно, Максим мой – инженер по образованию. Преотлично он работал бы везде и на гражданке. А это негнущийся от переедания полковник ни разу за пять лет не подал ему, своему подчиненному, руку – не поздоровался чистосердечно… Живя в Харькове до замужества, я видела сама, как заслуженные генералы радушно здоровались с молодыми солдатами. И отец Максима знающе говорил, что более душевных начальников он знал на этой войне Отечественной. Потому, говорил он, и победили-то фашистов, привели их в чувство спаянностью своей. Он-то по сути и внушил Максиму мысль: быть военным, пойти учиться в военное училище.
А этот глухарь и даже сесть мне, молодой женщине, не предложил. Удивительное свинство!
Я отчеканила ему: «Вы партией сюда поставлены, чтобы заботиться об офицерах, знать об их личной жизни. А Вы ни разу не побеседовали с ним, не спросили у него, как ему служится и что у него на душе. А сами, небось, перед генералом дрожите за вверенную Вам честь..»
Только после этого разрешили Максиму взять отпуск летом.
XII
– Надя, скажите, Ваш муж офицерствует, а лично Вы работаете? Чем занимаетесь? – поинтересовался вдруг Антон. – Ведь у Вас же есть профессия, наверное?
– Да ничем, кроме ухода и возни с сыном. – И Надежда сразу заумоляла, выглянув в коридор: – Вова, прошу: не бегай, не носись! – Для сведения: скажу, что живем мы в обычном сибирском лесу. Среди хмурых елок стоят восемь стандартных домиков. Летней порой у нас грязь непролазная, нужно ходить лишь в резиновых сапогах; а про то, что бывает в остальные времена года, про то уж и говорить не приходится. Так что жены офицерские в основном не работают нигде, но это-то еще хуже! Хуже некуда! Морально ты опускаешься. Я – тоже, сколько замужем: по-специальности-то ретушер, для меня такой работы нет. Профукала я квалификацию. Огрубели пальцы.
А! Что себя растравливать.
Я за все время, что служу с мужем, – оговорилась она, – даже не сходила ни разочек в театр.
– Такова, видно, наша общая судьба. – Глубоко вздохнула Нина Федоровна. Расцепила свои руки тонкокожие, с темными набухшими венами, и сделала ими несколько замысловатых движений, словно бы, ощупывая так себя. Уронила опять руки на колени.
– Ну, а денежное жалованье… приличное? – с некоторым вызовом спросила Рая, встряхнув светлыми кудряшками, кокетничая.
– Пару сотен, что недостаточно никак, – вяло отвечала Надежда. – Продукты дороги. Фруктов очень мало. Яблоки пятирублевые. Не шибко разбежишься. Есть малина – в государственных посадках. А я же жила до этого на Украине, здесь родилась – представьте, что значит для меня быть без фруктов! Дома я, бывало, не ела мясо никогда, а тут насильно пришлось – заставила себя; иначе бы сразу ноги протянула – не выжила бы сколько-нибудь. Однако больному-то позарез нужны свежие фрукты. Постоянно. Все хвалят почему-то тамошний город. Да в нем и цветов почему-то не высаживают, – разве можно жить без цветов в большом городе? И то невозможно выбраться туда. В совхозный же клуб нужно идти полчаса, если не больше. В непогоду, – значит, по разливной жиже. В темноте. Да кто ж отважится? Хорошо то, что мы хоть телевизор купили; нет-нет, и приличную комедию посмотрим вместе с мужем, когда они приезжает со службы погостить.
– Нет, помилуйте! – ахнула Люба. – И он даже не живет вместе с вами? Вы живете врозь? Это – что-то ненормальное.
– Да нет же, не живет! – воскликнула Надежда как будто с досадой от непонятливости. Бывает он в неделю-две раз, а то и чаще дома.
Мгновение все молчали неловко.
– Так это ж подвиг настоящий… Наденька!
– После Харькова – конечно! Я сначала ревела сутками, потом перестала: толку мало от текучих слез моих, сколько ни реви, – ровно-замедленно говорила Надежда. – На нелегкой службе служаки стараются, чтобы пробиться выше, тянуться перед начальством, не пререкаются с ним; как что – берут под козырек, и будь здоров, – ловко приложила она снова ладонь ко лбу. Иной ходит в вечных лейтенантиках, ну до капитана еще дослужится, а дальше – ша, родной! В книжках и в кино я, молодая, видела действительность подсахаренной, приглаженной. С отзывчивыми героями… А она такая непричесанная… Жуть! Да вы все и сами знаете…
– Наденька, голубчик, – опять заговорила, будто утешая, Нина Федоровна, – в каждом времени мы по-своему себя распознаем и понимаем. И я не исключение. Но только история дает нам совершенно точное определение. Я кинула в борозду горсть зерна, и какой взошел посев – мне еще доподлинно неизвестно. Потому как, матушка, для того, чтобы большой посев удался на славу, нужно его нам сеять сообща и выхаживать кропотливо-изнурительно, не щадя себя. Слишком дорого мы платим за все оттого, что все еще живем вслепую, безоглядно. Ну, простите, что я в сердцах пророчествую мимоходом… И не к месту, может быть… Говорите дальше, Наденька!
– Да если бы еще тогда, когда я невестилась, приуготовили меня к замужеству без прикрас, к суровому призванию быть спутницей офицера, – зашелестел опять голос Нади, как на пластинке, – я бы, надеюсь, тогда без стольких уж ахов и охов морально приготовилась к тяжелым будням патриотическим. Но я ведь окунулась в этот омут после разнеженной молодости под присмотром ласковой, щадящей, сердобольной матери, вот что. – Она высунулась опять в коридор, подозвала сына к себе, и тот, набегавшись волу, уже послушно прислонился к ее коленям и затих, поблескивая глазами. И она договорила: – Хотя перевод Максиму и не дали покамест, но какое это облегчение для нас, что выхлопотали отпуск для него, представляете: уж вдвоем-то мы повозимся с Вовой. Как только муж подъедет к нам в Ялту, – втроем поедем в Евпаторию; бог даст, устроим там Вову на платные процедуры. Может, и в горы сходим; полезен, лечебен горский воздух, где сосны. В нашем-то военном городке, бывает очень неприятный ветер дует, если он северный, хотя случается и тепло. Сиверко так давит на психику – от него, ветра, становишься совсем больной. Жутко голова разбаливается, наступает усталость, будто не хватает мне кислорода; наверное, ветер настолько изменяет состав воздуха. У нас и другие жалуются на это. – И она замолкла, лаская притихшего у ее колен сына – поглаживая его по золотистой, приклоненной к ней, головенке.
XIII
– Да, – нервически протянула Нина Федоровна. – О, еще долго, голубушка, наши идеи не осуществятся! Доживем ли? Не верится. – Так в продолжении всего повествования Надежды она под влиянием услышанного порывалась не единожды встрять и высказать нечто наиболее существенное, хотя, казалось, и старалась сдерживать себя. Ее теперешнее состояние было угнетенным еще более, чем вчера и сегодня утром; ее терзала одна тоскливая безысходность – такое чувство, скопившееся в ее душе; она искала, видно, утешения в сочувствии других сердец. Надеялась на это. Не зря она, помедлив чуть, тяжело вздохнула и, как-то причмокнув непроизвольно, начала отсюда:
– Вообще, как жизнь!.. Сколько людей, столь ко судеб – у каждой из нас своя. И такая, однако, схожая.
Я тоже вот почти уж тридцать лет как связана супружеским союзом, также с офицером. Ко мне, двадцатисемилетней – в тридцать пятом году – пришло материнство; с тех пор оно главенствует над всем, мной руководит. И сначала, признаюсь вам, и я, еще неискушенная ни в чем и нереальная, как всякая баба, так же строила для себя какие-то сверхоптимистичные проекты личного счастья и благополучия, эти несбыточно-воздушные замки, – у кого из нас, выходящих замуж добровольно или самовольно, не бывает именно так? А потом – я оглянуться не успела – все закрутилось и мои честолюбивые проекты куда-то на задний план отодвинулась, и там совершенно потерялись из виду; а вперед выступило, заслонило собой все, самое насущное и реальное для меня, для моей растущей семьи. Это потребовало сразу моих колоссальных усилий. Мне-то действительно некогда было оглянуться, чтобы рассмотреть жизнь вблизи: а какая ж она наощупь? Жила, что говорится, без выходных. Как примерный, хозяйственный мужик-крестьянин, не отдыхающий от земли, которая его кормит: у него не может быть отдыха в посевные или в уборочные дни, в непогоду, в холод, в жару, во время засухи, сенокошения. И я не могла, естественно, диктовать ей, жизни, какие-то свои допотопные условия. Почти треть века, что я замужняя, пролетело-промелькнуло мимо, точно бегущая назад за окном вагона станция: на ней мы не останавливаемся только потому, что поезд скорый и нам нужно куда-то спешить.
Ужасаясь, я теперь все чаще оглядываюсь.
В ленинградской гостинице с кафельным рестораном один заросший командировочный внушал мне: якобы военные составляют особую касту людей. Можно вполне согласиться с этим утверждением. Мой бывший опекун, двоюродный брат, закончил военную службу в чине подполковника. Как никто другой обеспечил свою старость. Он ежемесячно получает пенсионные (приличные) – они никуда у него не деваются, да еще сто рублей окладных, приработанных. Они с женой бездетны, всем обеспечены; поэтому они не знают, куда свои деньги определить. На работе же у него девчонка из семьи многодетной, дочь погибшего фронтовика и мать-одиночка бьется; поднимаются целые бури, которые он устраивает, чтобы не платить ей лишнюю десятку. Зажирел, видно: отрастил дубовую, непробиваемую шкуру…
Не подумайте превратно: будто я клевещу на него от черной зависти какой или от того, что мой капитан не преуспел подобным образом – ему поменьше отвалили.
Да, мой муж Тихон, как был белой вороной, и здесь проворонил что-то для себя. Живет он так неудобно, неустроенно. У него же норов не такой. Но все же и отличной, обеспеченной жизни за военным я не пожелаю никому. Сама вдосталь испытала ее ухабы и рытвины.
XIV
– Что ж, по-вашему: не следует и замуж за военных выходить? – с недоумением, казалось, вопросила Надежда, придерживая сына у колен и поморгав глазами. – А кому тогда бы пришлось растить родившегося сыночка? Мне одной? Но история в том, что полюбила я курсанта: он стал для меня законным мужем, самым близким человеком. После мамы, конечно. По крайней мере, я его беспамятно любила раньше…
– Как и я своего, – вставила Нина Федоровна.
– … Любила раньше, когда мне мое будущее представлялось особенным, волнующим; тогда и думалось, что вдвоем мы с ним, взявшись за руки, легко прошагаем через все препятствия, лишения. Ведь так любимы мы друг другом! И не может быть никаких сомнений!
– Но пусть даже и существуют военные, да насовсем исключена война, – заубеждала с горячностью Нина Федоровна. – Да если бы все страны не готовились к ней так, не гнали всюду вооружения, то и не стал бы, вероятно, мой муж, Тихон Свободкин, кадровым офицером и не участвовал бы в минувших боях под Москвой и под Минском, а дети наши затем не учились бы в военных училищах. Тогда, возможно, в нашей семье могли бы сложиться иные интересы. И не было бы лично для меня материнской драмы… Что нужно жить – глаза прятать от людей… В одном обществе живем, одними муками болеем…
Что ж, мой муж честный и правдивый, но неисправимый идеалист. Да, многажды столкнулся лбом с жизненными проблемами и был нокаутирован ими: стал безвольным проживальщиком. Жил и живет в каком-то равновесии душевном. То ли от больших познаний чего-то, недоступного моему уму-разуму, то ли от своей неприспособленности ни к чему. Оттого-то и была у меня с ним однообразно-скучная жизнь. Даже с точки зрения развлечений. Мне, возможно, видится все превратно, или это я своей суматошностью сбила его с пути истинного: ведь нам, бабам, нередко кажется, что мужик не так сноровист, ловок, пробоист, поворотлив, – мы хватаемся за все сами. В результате – вечная неспевка в супружестве. Что-то вяло текущее.
Мы с Тихоном почти что однодеревцы. На Волге выросли. Предки и родители у него были синильщиками. Они красили белое полотно. Для этого имели свои штампы, трафареты – и наносили узоры на полотне. Ну и, видимо, некогда деньжата водились у них: они пивали часто. Нет, никак не с нынешних времен мужики в запой пустились. Сейчас водку пьют бутылками, а раньше, его дед рассказывал, пили ящиками. Пойдет он в любой момент к Марфе, ящик водки возьмет; не считает, за сколько. А осенью два воза льна продаст и деньги отдаст ей за все. Так делали все заемщики. Вот почему у моего святого непьющего Тихона печень болит – это у него уж потомственное, наследственное: десяток поколений пили. Вон его дедушка скончался в семьдесят пять лет, а употреблять спиртное не прекращал до самой смерти; пил, несмотря на запрет врачей. Отсюда и врожденная чесотка – она у всей мужниной родни была. И экзема. С годами все сказывается на здоровье. Природой нам ничего не прощается.
Мой Тихон суетлив, а проку абсолютно никакого; ничего же путного, толкового не дождешься от него, – говорила, раскрасневшись, Нина Федоровна и все вглядывалась тревожно в вагонный коридор, и каждый раз понижала голос: – Видно, все-таки оттого, что иногда подавлялись все его хорошие задатки, устремления. А главное, на его жизненном пути не возникло обстоятельств, требующих от него цепкости, практичности, даже кое-какого лада, кое-какой сходчивости с людьми. И он, что называется, размагнитился в душе. Вот только приказывал другим и следил за тем, чтобы все исполнялось по часам и минутам – сон, еда, мытье, зарядка, строевая подготовка, стрельбище, отбой и тому подобное. Не для всех эта муштра приемлема и… полезна.
– Нина Федоровна, это его долг служебный и гражданский, – вмешался Антон. Лучше тогда начисто оставить военную службу, как и всякое любое дело, если оно не по желанию, не отвечает твоим наклонностям.
– Уж то, сынок, само собой предполагается. И полагается всенепременно. А мой благоверный по какой-то последовательной забывчивости своих семейных обязанностей, как женился, мог мне пустую склянку из-под лекарства принести, а само лекарство позабыть. Муж не сумел сохранить ласку, нежность ко мне, суженой своей, делящей с ним тяготы пожизненной службы – приподнять мне дух над обыденщиной и преснотой супружества. Скорей всего, не успел (засосала служба), так как завсегда в разъездах пропадал, или мы оба с малолетними детьми да с сундуками таскались–мотались повсюду, куда гоняла нас служебная судьба, – на повозках, на машинах, по железным дорогам да на кораблях. Колесили из одного конца необъятной России в другой. И тут мне не до оглядок и не до философствований было. На саму-то себя было некогда взглянуть в зеркало. Один раз я уже была под колесами полуторки – подлатали меня; дважды во весь рост, как шла, грохнулась на палубу со своими тяжкими сундуками; не счесть, сколько раз в снегу мерзла, а потом тонула. Словом, везде я побывала, всего насмотрелась и натерпелась. Мой старший сын родился у Белого моря; средний – во Владивостоке; этот, меньший, что едет сейчас со мной – в Севастополе; дочь, что умерла шестилетней, – в Саратове. Только в последние годы мы приякорились прочно. В Благовещенске. Но он, муж, был и остался в жизни будто совершенно ни при чем. И так несладко жилось мне. Ой, маятная жизнь! – воскликнула она горько. И опять испуганно полуобернулась к открытой двери, мимо которой взад-вперед сновали пассажиры: – Да, а где же все-таки мой Коля пропадает, люди дорогие? Вы не скажете?
Рая усмехнулась:
– Он там увлекся славной девушкой из соседнего вагона – забеседовался с ней приятно, не отходит от нее.
Отчего Нина Федоровна посумрачнела и, глядя ей в усмешливые глаза, точно проверяла по ним справедливость вольно и бездумно выпущенных ею слов.
XV
После некоторого раздумья она вновь решительно протянула:
– Опостылело мне все бесконечно. Но поймите: иначе-то не могло и быть. Я не утешаю себя чем-то таким, что я здесь не упустила что-нибудь. И не преувеличиваю. Но слишком поздно анализирую сама с собой прошлое.
Коля спит и видит, чтоб ему поскорей исполнилось двадцать лет; торопится стать взрослым, зажить по-взрослому, самостоятельно. А не ведает он того, что поджидает его тогда, когда он совсем повзрослеет, сколько свалится на него отяготительных забот. Мои годы прошли в каждодневных хлопотах, и я не видела счастья. Я для других жила. Для себя же – пока еще не успела.
И все у нас, вроде бы, шло нормально. Жили мы – по-своему радовались дням. В других семьях больше неладного было. Тихон не приползал домой на бровях ни разу, но он оригинал большой. Только за столом отбарабанится – и мгновенно отвалится прочь. Так и тянет его на боковую. Либо за газетки примется – и хоть околевай, ни за что не сдвинется с места, покуда не вычитает все от строчки до строчки, ровно всемирный комиссар просвещения. Если что (его побеспокоишь, стронешь), – только буркнет провидяще, с достоинством: «Подожди до завтра. Завтра еще будет день. Там увидим». А назавтра, как водится, мы вместе с военной частью снимаемся снова с обжитого места и снова катимся в неизвестном направлении; прыгаем по кочкам или на крутых речных или морских волнах. Нет, точно сказано: век проживешь с человеком, полпуда соли с ним съешь, а человека до конца не узнаешь. Муж в доме не глава, его законодатель; верховодить полностью почему-то должна я: он мне доверяет, он мне уступает. Он ни во что не вмешивается. Ну, сейчас мы с ним и поругаемся из-за чего-нибудь (я наскочу), сейчас и помиримся (он разубедит-разговорит меня); он же и ругаться-то по-настоящему не умеет или просто не хочет (не в его правилах). Та и жили мы странно, непонятно. И я уж нахлебалась горюшка достаточно, по самую макушку – вот! – энергично повела она рукой поверх своей черноволосой головы с резко седеющей прядью, будто набеленной искусно.
Сначала особых разногласий меж нами не проявлялось ни почему такому, собственно и потом их – крупных – не было, за исключением разве что мужниного несогласия со способностью самой матушки-природы создавать. Но тут уж я ни при чем. Сначала мы ждали наследника – сына. Когда же у меня родился (в тридцать пятом году) первый младенец – Леня и только улеглись у нас, родителей, первые счастливые волнения и хлопоты вокруг него – Тихон в минуту благодарной откровенности признался мне, что он еще хотел бы потом заказать мне и дочь. Разумеется, мое согласие было им получено. Ведь считается идеально счастливая семья та, в которой есть мальчик с девочкой. Однако два года спустя я опять родила сынка. Назвали его Саней. И опять, невзирая ни на что, у нас царила радость в связи с прибавлением семейства. Когда все в дому чуть поулеглось, мало-помалу вошло в привычное русло, Тихон уже при каждом удобном случае ладил, что если будет у нас когда-нибудь девчонка, то Ирой или Ольгой назовем. Притом он считал, что простое имя украшает достойного человека. Но дальше, вы знаете, эта война с Германией гудела. Разлучила нас на пять лет. Контуженный и раненый, но целехонький муж не демобилизовался с окончанием войны; но мы-то опять семьей воссоединились с ним, зажили по-новому. В сорок шестом с начала весны (было это в Севастополе) я снова легла в родильный дом. Всерьез говорю врачам: «Ну, давайте, сделайте что-нибудь; мне нужно обязательно родить девочку, а то мой супруг скандал подымет, назад домой не пустит, если опять будет парень; да и парни, известное дело, рождаются к войне». Ну, поглядели они на меня как на очередную неврастеничку. В этот же период, знаете, все роженицы сумасшедшими делаются. В родилке, даже не помнишь, что кричишь; уже кричишь по инерции – когда и не нужно. Умора! Однажды я обхватила за шею доктора и кричала ему, психуя: «Доктор, спасите, спасите меня»! Или лежала на столе и ревела. Подходит ко мне акушерка: «Ты, что, роженица, блажишь!» А я и не помню ничего, блажу ли я. Собственного голоса не слышу. А как не кричать, когда живую часть от тебя отрывают. Ой, вообще, конечно, человек появляется на свет не лучшим образом. Недобро тут роженицы мужиков вспомянут – честят, клянут; а проспятся – и все, уже млеют от материнского счастья: ах, какие глазки у младенца, какие ручки, какие лапушки! Не случайно у врачей, работающих в родильных домах, к сорока годам гипертония становится их профессиональным заболеванием… от нас. Подымается давление. И они зачастую уходят в дородовые отделения или еще куда-нибудь, где поспокойнее. Ну, вот и снова сына, Николая, я родила.
Дочь же долгожданную, темноглазую Оленьку, всю в меня – лишь в еще один заход. Уже сказался мой предельный для этого возраст: эти роды у меня были самые мучительные. И Олечка поначалу была какой-то чахленькой, задумчивой (хотя к тому времени и с питанием у нас значительно улучшилось), но очень практичной и смышленой от рождения. И все мы, слыша ее лепет, весело смеялись тогда. Счастливые! В ней мы души не чаяли. – И Нина Федоровна странно заторопилась как-то, дрогнув хриповатым голосом: – Наша Олечка скоропостижной смертью умерла. На шестом годочке. Я была бессильна, чтоб ее спасти, вытащить из ямы смерти. Рук не смогла ни протянуть ей, ни дотянуть до нее, чтобы ее выхватить. Да, еще недавно у меня, верней, со мной, было четверо детей; а теперь осталась я с одним из них, потому как двое – старших – уже выросли, женились, отдалились от меня. Поженились сыновья, уже сами растят детей, – и словно отрезаны от меня. Наглухо. А я на них же свое здоровье гробила… Все это я увидела теперь как бы со стороны… Я денно и нощно воспитывала их, не считаясь ни с чем. А расплата? Все вышло-то в изъян. Нет у меня основания для радости.
– Ну, так вот, поди ж… – проговорила Люба. – У всех случается…
– Люди говорят, что недород лучше перерода. Уж не знаю как.
XVI
Затем Нина Федоровна дух перевела, дрожащей рукой проворно схватила со столика папироску, спички, но не закурила. Хрипловато, откашливаясь, зарассуждала дальше:
– По-видимому, воспитание детей это тоже искусство. Также здесь все свято, истинно, сложно, загадочно-непостижимо. И поэтому не каждой матери оно дается и подвластно. Нужно все отдать, всю себя во имя этого святого ремесла, чтобы из-под наших материнских рук вышли нравственно полноценные мальчики и девочки, а не какие-нибудь уроды, да чтобы впоследствии нам не стыдиться за своих воспитанников, не стыдиться их поступков. Дети – наше зеркальное отражение. И то именно будет, какое мы заложили в них с самого их младенчества.
Наступившая пауза – пока Нина Федоровна платочком промокала выступившие слезы на глазах – длилась тягостно. «Тук-тук-тук, тук-тук-тук», – весело меж тем выстукивали-разговаривали вагонные колеса. И Надя вновь заполнила паузу – начав, осторожно уточнила: что, возможно, это в большей степени зависит от того, впитывает ли ребенок от старших хорошее или сам по себе дойдет до всего.
«Тук-тук-тук», – резво подвыстукивали колеса.
– Но взрослые позабывают, что ребенком движет и владеет ненасытное, неистребимое любопытство ко всему на свете – нам видится истинное положение вещей иным: уже смещенным от золотой поры собственного детства. – Люба продолжала. – И потому читаются такие наставления: не прыгай, не бегай, посиди! Как-то я наблюдала такую сценку. Примерно четырехлетний мальчуган, сидя в столовой за столом, в отсутствии мамы (та выбивала в буфете талоны на обед) колотил ложкой по металлической кружке. Что ему, видно, очень нравилось – кружка издавала звонкий звук. И вокруг него собрались такие же дети отдыхающих: им тоже интересно это было, что концерт. Так вот молодая мама мальчугана, что фурия, подлетела к нему и залепила ему увесистый подзатыльник, ошарашив его и чуть ли не сбив со стула. Она истошно завопила: «Не смей! Не смей!» Он только пролепетал: «А почему?» Но она еще сильнее взбеленилась – задрожала, заорала на него: «Я говорю: не смей! Брось!» Ложку выбила у него из рук, отшвырнула ее вместе с кружкой. И тогда-то она расплакался от испуга. А та ему не объяснила терпеливо, почему нельзя греметь в столовой. Ведь на улице – пожалуйста! – греми. В какую-нибудь банку жестяную. Итак, часто мать необоснованно орет на ребенка, не может ему объяснить, что к чему; и он перенимает с улицы что-нибудь недозволенное, впитывает все в себя, как губка.
– К сожалению, нынче матерям это сделать просто некогда, – с назиданьем подхватила пришедшая в себя Нина Федоровна. – Нынче отец, как правило, бремя воспитательства почти не разделяет со своей подругой жизни или разделяет мало, недостаточно. Исключения редки. Мы воспитываем порой по жалкому методу дрессировки: «Если будешь хорошо вести себя – дадим конфетку, купим велосипед, проигрыватель». К этому иногда и я прибегала по необходимости. А чтобы улучшить воспитание детей, надо сначала приблизить мать к ребенку, то есть дать ей возможность (хотя бы в самый важный воспитательный период) не работать наравне с мужчиной, а вполовину меньше или вовсе не работать, а затем освободить ее от ребенка хотя бы на три часа в сутки. Ясли, детский садик – эти детские учреждения, очевидно, и выполняют отчасти подобную функцию; однако она-то в то время, в которое свободна от него, ребенка, во всю работает. А за двадцать четыре часа они ой, как устанут друг от друга. Я уж не говорю о том, что еще ужасней, когда в семье несколько ребят: несколько различных детских характеров.
– Но когда мать мне однажды объяснила, что за столом болтать ногами не годится, а также свистеть в комнате, а во дворе можно, то это до меня отчетливо дошло и запомнилось навсегда. – Заявила Люба. – А у нас еще сплошь и рядом: на девочке платье зеленое, носки синие, а ботиночки красные и нелепые громадные банты на голове. Кто же в ответе за все это дремучее художество, как не взрослые?
– И, поверьте, ничего-то странного в том нет – Нина Федоровна и не спорила тут. – У нас преобладает невысокая культура женщины, связанной с наукой деторождения. Все, по-моему, оттуда начинается – от общего бескультурья этого. И такая наука покамест бессильна: она недостаточно научна, что ли. Негласно считается почему-то, что это сугубо личная проблема; поэтому, дескать, пусть она и решается и разрешается лишь в семейных кулуарах, это слишком тонкий, деликатнейший вопрос. А ведь женщине порой, если не часто, и не нужен пока вообще ребенок (первый или второй, или третий); но если она вдруг забеременела, хотя и не хотела покамест, то чаще всего его рожает и воспитывает кое-как, отдаваясь этому не целиком. Среди других забот. А там (она не застрахована) у нее рождаются еще питомцы – и вот у нее уже нет выхода из этого порочного, я считаю, круга. Если есть, – подскажите мне: какой? Велика и победительна еще инерция людских рассуждений по этой части: так ведь испокон велось, это на женском роду написано – терпи! Потому-то – вы приметили? – нынче столько женщин развелось с истинно мужскими характерами (так как многие житейские вопросы они принуждены разрешать единолично, без участия мужчин), а мужчин – с доподлинно женскими характерами. То есть, с приземлено-инфантильными, безвольными. К таким тянут и мои два сына. Вот еще не знаю, как третий… когда с женщиной встретится… Нет, не хочу, не хочу я об этом думать! – Нина Федоровна дернулась как-то и, закашлявшись снова, схватилась за сердце, но спешила договорить: – В одну из последних ночей, в которые я иззябла и крайне измучилась со сном, я невзначай подслушала о чем толковали между собой три молодые женщины. Две спросили у третьей, давно ли она замужем. Она сказала, что шесть лет. «А сколько раз вы делали аборт»? – «Ни разу». – «Ни разу не рожали и не делали аборт»?! – «Ну, не может быть»! То было для ее собеседниц непостижимо. И были-то они не какие-нибудь невежественные, а, казалось бы, глубоко интеллигентные, воспитанные женщины. Почти мадонны современные. С томностью в глазах.
А какая тут премудрость кроется? Да нет никакой. Она кроется ни в чем ином, как в культуре самой брачующейся женщины – всего-навсего в пунктуальном соблюдении ею брачной гигиены. Только нужно воспитать в себе такую привычку. Один опытный старый врач в тридцатые годы мне рекомендовал обычное единственное средство, которым еще пользовались аристократки. О том я с самого начала попробовала поговорить и с невестками. И что же! Они подняли все на смех. И меня. И сами насмеялись… «О, да это ж надо вставать с постели каждый раз, – ужаснулась одна от души, когда я втолковала им секрет рецепта, – лучше пойти в больницу на день-два. Ничего. Как с мужем спать – так терпим. Вытерпим и это. Мы – живучие». «Ты сравнила! – сказала ей другая. – С мужчиной спать – одно удовольствие, а это…»
И склонилось у них дело к развеселым анекдотам.
Люба улыбнулась:
– Ну, зачем же она, культура, нам нужна? Пусть пользуются ею недотроги. Нам она мешает только.
– Оттого и дети бесконтрольно вырастают, – говорила Нина Федоровна. – Вон у соседского десятилетнего мальца спросили, кем он хочет быть. И она прямо сказал: бандитом. А дома его иначе и не зовут, как щенком. Такой малец отвратительный. Он-то запросто может преступником стать. И родители его уже сейчас не чувствуют себя ответственными за его воспитание. Им не до него, они целиком заняты собою: выясняют свои недовыясненные еще взаимоотношения – беспросыпу пьют порознь и вместе и дерутся, дерутся и пьют; оглашают криком всю улицу: «Караул! Спасите! Помогите!». То жена сапогом лупит мужа, то он ее чем-то.
Но я наказана другим. В жизни ни за что не знаешь и не можешь угадать, обо что и где споткнешься.
XVII
Кашляя и ворча, она пожаловалась, что ее всегда что-нибудь да мучает привязчиво, как бес, обессиливает: то несносный кашель, то порок, то еще неизвестно какое лихо. Не одно, так другое выявится. А то разом все накинется-набросится на нее. А за что ей такое наказание? За какие провинности? Ведь у ней лишь беспредельное желание дышать одной жизнью своих детей. На что Надя сказала потушенно, с прежней печатью бесстрастности и неотходчивой застылости в себе:
– Вам бы нужно париться чаще. Что? Вы еще не пробовали? Я так с десяти лет регулярно парюсь. Выгоняю все болезни из себя. Потому-то никогда еще и не болела гриппом и всяческими мелочными болезнями. Вы попытайтесь…
– Нет, порок – это не мелочь; парилкой его не выгонишь, а себя загонишь, – с твердостью возразила ей Нина Федоровна. – Я слишком много провалялась с ним. У меня ведь комбинированный порок. После ревматизма…
– Тогда нужно, видно, выпить иногда, не забывать – с усмешкой безапелляционно вставила быстроглазая Рая, ловившая любое мгновение для того, чтобы, главное, ей произвести отменное впечатление о себе, известно же, что при этом кровеносные сосуды расширяются и увеличивается обмен крови.
Нина Федоровна взглянула на нее с осуждением, недоумевая, должно быть, из-за неуемности ее предложения.
– Лучше всего годится сухое белое вино…
– Нет, я даже шампанское не могу.
– Ну, когда люди даже этого не могут, что же остается им?
– И девушка с быстро бегающими глазами одиноко рассмеялась от того, что она так поостроумничала. Сказала дальше: – Сама-то я – из Севастополя, а вышла замуж за мурманского рыболова, которому еще два года надо отрабатывать после своего распределения. И к Мурманску привыкнуть никак не могу. Уж как родители мои противились – не послушалась их. Дуреха!
– Все бы приемлемо, терпимо; но я терпеть не могу, если жена старше мужа, – неприязненно вспыхнула Нина Федоровна.
Отчего вдруг Рая ощерилась, сказав, что она не видит в этом ничего плохого; у нее самой муж помладше ее – и трагедии нет, очень даже чудесно они живут. Ну, а выпивает он, Володичка иной раз потому, что большие деньги заколачивает; когда они, морячки, приходят с лова в родной порт, местные лимиты на водочные изделия перевыполняются у них здорово. По ее разумению, проблемы мужчины для нее не существует: можно ведь иметь сто мужчин и за сто первого как нельзя удачно выйти. Ей, вероятно, доставляло удовольствие похвастаться примерной простотой и свободой своих взглядов и нравов, избавленных от всяких старозаветных предрассудков. И она, несколько свысока поглядывая на жестковатую в душе Нину Федоровну, сейчас же повторила всем, что Володичка очень-очень нежно любит ее и тоскует по ней, когда в плавании, хоть и младше ее на восемь лет; он верен и предан ей, она это знает. А загвоздочка у нее сейчас с тем – лишаться ли ей двухкомнатной родительской квартиры севастопольской. Ее отец полгода как скончался, а после его смерти мать ни за что не хочет жить одна в Севастополе – порывается к сестре на Украину; так что для того, чтобы ей, Рае, сберечь для себя их квартиру, нужно теперь с Володичкой расстаться и Мурманск оставить. И на что ж бесповоротно ей решиться? С кем же посоветоваться ей?
Однако Нина Федоровна, отрезав снова нелюбезно, что да, терпеть она не может, когда жена старше мужа, не хотела дальше слушать возражений на этот счет, даже перебила Раю.
XVIII
– Уж такой незавидный, видать, у матери удел, – говорила она: – ей больше всех приходится беспокоиться из-за всего; волею судьбы она призвана быть неотъемлемой частью своих детей, а выросшие дети вместо активной помощи громоздят для нее дополнительные нагрузки. Особенно когда непутево вступают в законный брак, причем, вступительную спешку в него еще объясняют невозможностью физиологически ждать дольше. Да, на корабль-то всегда попадешь, а с корабля на берег и не вдруг сойдешь, – нужно помнить. Так я неспроста говорю: исхожу из накопившегося личного материнского опыта. Ведь стараниями своего старшего сына Лени я познакомлена, а точней породнена с той московской семьей, в которой все четыре дочери засватались и обручились с женишками самым обманным образом – так же, как отрепетированно, женили на Лёне, и подзадержавшуюся двадцатисемилетнюю Риту.
При этих словах Нины Федоровны Рая наигранно воздела вверх глаза и демонстративно вздохнула полным вздохом.
– Не скажу, что мой сын ах какой агнец божий: дескать, не спросясь, сунулся в какой-то омут… Ничего подобного. Но свершилось это в Москве примитивнейше просто, все равно что в непроходимых африканских джунглях. Всего-то три года назад… Получается, что девушке лучше устраиваться с замужеством в молодом возрасте, а то ведь чуть перепустила она года – и все, никакой парень уже не позарится. Охотятся лишь мужчины – с точки зрения переспать. Посмотришь на таких тридцатилетних девушек – и вроде все есть в них; они все читают, смотрят, видят, умно говорят, а жизни их не позавиствуешь… Рита на три года старше Лени. А значит хитрей и опытней. Да уж, конечно, похитрей его. Она не могла не видеть, как ее сестрицы мастерски залучали для себя нужных кандидатов в мужья. И она блеснула этим тоже.
И опять же Рая, – она почти уже демонстративно здесь скучала и поэтому зевала, – воздела глаза и пошевелила еще губами, словно бы всем видом своим нам говоря: «Ох, и надоело же все это мне…» Для нее, видимо, не существовало всех тех отдельных глубин, из которых складывалось целое житейское море со своими пока нераспознанными глубинными течениями и хребтами и на которые Нина Федоровна тратила столькие душевные силы. Глубинные течения эти у взрослых ее детей не приходили в естественно уравновешенное, по ее определению, движение, так как где-то что-то было нарушено или отклонилось от нормы, и она придирчиво искала первопричину этих отклонений, чтобы еще попытаться все исправить. Пока не поздно.
Вытерев платком вспотевшее лицо (хотя по вечеру в вагоне уже дышалось легче), Нина Федоровна говорила вновь:
– Случается же так банально потому, что юноши, что воркующие голубки, больно доверчивы и наивны; женихаясь, они все-таки малопрактично смотрят на то, во что их доверчивость вместе с поспешностью обернется в будущем со сближением с женщиной напрочь забывается суровая правда: счастье может дать навек лишь союз двух любящих сердец. Без него-то ничего путевого не выйдет. Во всяком случае, мужчины большие идеалисты, чем мы, женщины, в особенности, если они молоды. И поэтому-то они очень глупо попадаются в руки тем, кто расчетлив, бессердечен и коварен даже, – в женщинах притворства больше, нежели в мужчинах, и поэтому-то и бывает очень трудно обнаружить его сразу. Молоденькие парни рассуждают: «Мне нравится в женщинах плавность, изящество, стать»! – «А мне – пикантность, утонченность». В этом они уязвимы.
Охотясь за девушкой, ее ухажер уже больше ни о чем не способен и не властен думать. И не думает о том, чем это грозит для него.
Неожиданно и Надя рассмеялась тоненько. Чему-то своему. Люба также улыбнулась. Слегка.
– Я уже сказала, что это женщина мужчину выбирает, а не иначе, – вздохнула Нина Федоровна – и это бесспорная истина, как бы ни казалось ему на жениховских радостях, что именно он в конце-концов нашел для себя ее, непревзойденного ангела, какого еще свет не видывал.
Рая фыркнула демонстративно:
– Просто мужчина глупеет от любви, вот и все. Исчерпывающее объяснение…
– Подсознательно или нет, – не удостаивала ее теперь Нина Федоровна внимания, – но так, очевидно, было и с моими благовоспитанными мальчиками. Сначала старший, Леня, погнался за столичной красоткой – и попался, как на блесну. Я знаю хорошо, из чего эта штука изготовлена-выточена: мой Тихон – заядлый рыбальщик. А потом и средний, Саня, клюнул на заезжую. И я их проворонила, одна я проворонила. Шутка ли! Столько трудов положено на них, сколько крови мне стоило их поднять, вырастить; я все свои силы безраздельно убила на них – и теперь ими какие-то вертихвостки командуют, цыкают на них, поворачивают их куда хотят, как манекенов… И разве не обидно мне, матери, за них? Не больно? Где ж на свете справедливость?
– Словом, тут плати, плати и… и не греши? – с тоской проговорила Надя как бы для себя одной. Ну, я пойду, а вот Вова у меня уже весь вареный: хочет спать. – И ушла с ним.
– Я подвихнулась со здоровьем своим, однако сердце у меня морально еще не переболело; хотелось бы мне отдохнуть и воспрянуть чуточку душой, обрести покой душевный. Подвели меня мои желанные. – Нина Федоровна точно всхлипнула. И остановилась.
Все молчали. Поезд мчался.
XIX
Ладонью Нина Федоровна провела рукой по усталому лицу, встрепенулась и, сжимая и разжимая на коленях пальцы, как видно, собралась с духом – вновь заговорила:
– Леня учился в Москве в военном училище. Учился, насколько мне известно было, серьезно, образцово, чем, впрочем, он и в школе-десятилетке обычно выделялся. Школьные педагоги нахвалиться им не могли, его ставили в пример другим; ему вручали грамоты, призы. Три года назад, весной, в день, в который выпускали его офицером, я ему послала большую поздравительную телеграмму. Я все сердце свое вложила, а он… он даже не соизволил мне ответить! О, мать родная, что я передумала тут! Как паниковала! Нигде места себе не находила. И на почту снова сбегала – удостоверилась, послали ли… И уж ни Тихон, ни Коля, ни почтовые работники и ни соседи не могли меня приободрить ничем, – в душе моей легло что-то тяжелое. Чувствовала я себя совсем чужой среди своих, в особенности после невнятного разговора с мужем своим. И было мне чего-то стыдно, нехорошо (хотя с ним, но не чувствую от него поддержки); и все это как-то нескладно, неуютно. Знала я: Тихон душевно не травился; для него как медленно текучий день, спокойствие себе дороже; вот это обойдется как-нибудь само, без моего ненужного вмешательства. Тогда я впервые страшно оборзела на него – напустилась… Ой, сцена была ужасная… А в эти дни еще неиствовал шалый ветер, такой, что бил в окнах стекла, ломая сучья и старые и молодые деревья, покрывшиеся листвой, срывал головные уборы с идущих, свистел. И что же могло случиться с Леней так, вдруг? Ведь прежде ничего подобного с ним не бывало: письма слал он мне аккуратно, часто. И на тебе!.. В раздумье я вспоминала, как когда-то его, крошечного человечка, выкармливала с ложечки и баюкала под колыбельные песенки, качая в удобной деревянной качалке; как он плевался, когда давала ему яички и сливки или сметану; как вязала для него варежки и носочки, показывала, что такое снег: как учила его нянчить меньшого братика Саню, очень беспокойного и капризного в детстве; как доставала для него бумагу и карандаш, чтобы ему порисовать, и как потом учила его слагать первые буквы. От рождения он был предупредительным, нежным и ласковым ко мне и к отцу, и ко всем; был опорой для меня, когда подрос. Я гордилась им дома и на улице, и в школе – перед детворой и взрослыми. Доставлял он мне меньше хлопот, чем кто-либо из детей, уж не говорю о Коле. Но… позвольте: Коля!.. Где же Коля?.. – осеклась Нина Федоровна. Ей сделалось худо. В глазах у нее потемнело. – Что, он, не пойму, не пришел еще откуда-то? – и резко она повернулась лицом к открытой двери. На чье-то движение.
Но там, на проходе, стоял на виду никакой не Коля – чернявый и носатый мужчина средних лет, остроглазый; он уверенным в себе тоном спрашивал, задержав ее, у знакомой, полноватой красивой дамы:
– Ну, как Орошевский, твой родственничек? Все не наглядится на кралю свою? Где он только подцепил ее?
Дама лишь вздохнула и развела руками.
– Ну, сказала же я вам, – обиженно-ершисто произнесла мурманчанка, рисуясь, усаживаясь снова на краю сиденья, после того, как она, приподнявшись по собственной воле, заглянула вглубь коридора: – он все там с той девушкой толкует. Что волнуетесь?! Цел и невредим…
– А что мне волноваться, – отмахнулась от нее Нина Федоровна, но глазами тревожно так и впилась в тех, что разбеседовались на проходе: она заинтересованно их слушала.
– И я с профессором Звягинцевым разговаривал, у него ведь такой же сыночек, экземпляр что надо, – говорил зеленоглазый и пышноволосый мужчина лаконично, языком, понятным этой обаятельной собеседнице. В четвертый раз он вроде женится – и все так, без разбору. Профессор вначале смотрел на проделки сыночка сквозь пальцы, расходовался на его множившиеся свадьбы. А потом все сантименты прочь от себя отмел. Я спросил у него однажды, как сын его живет. «Какой сын?» – удивился он быстро. – «Да этот, неуемный». – «Про него не знаю ничего, не могу сказать; теперь не живем мы вместе с ним». – И твой Орошевский – гусь хорош… Женился-то, надо сказать, блестяще… Да еще и умирает от телячьих восторгов к ней: она, видите ли, ласкова-преласкова к нему…
– Да, уж скажем, тогда, когда ей это нужно… – И дама захохотала. – Мы-то понимаем очень хорошо.
– В марте двадцать шесть ему исполнилось.
– Ого! Не думал я…
– А тут думай не думай, по теории относительности получается: хорошему стерва попадается, а плохому – хорошая. Как закон. Но и сам он – золотце, коли взял себе дурную и не может еще отказаться от нее, несмотря на все ее измены явные.
– Ну, скажу… Ты еще сумела приплести сюда и теорию великого Эйнштейна!
– Она с прежним мужем еще не развелась; того благополучно в тюрьму засадила, этого уже достаточно вымотала и уж грозит выселить из квартиры, ему принадлежащей, – что же еще надо!
XX
Наконец веселые пассажиры отошли прочь, и Нина Федоровна, понемногу успокаиваясь, глухо стала рассказывать дальше:
– Тогда прошло четыре долгих, безумно долгих дня, прежде чем Леня прислал мне краткую телеграмму. В пять слов. Удосужился-таки оказать сыновнее внимание родительнице. Да только в этой телеграмме по-деловому извещал, что такого-то числа выезжает к нам домой. Ну, выезжает, так выезжает; мы стали ждать, приготовляться. С радости от сердца у меня вроде бы отхлынуло, с сердца тяжесть сняло, но теперь уж обеспокоило меня другое – что же скрыл сын от нас? Подсознательно я чувствовала (видно, издали передавалось мне его какое-то переживание и неспокойствие), что что-то то – мнительно-тревожное надвигалось на меня; оттого все чаще и разбаливалась голова, на которую никакие таблетки не воздействовали утишающее. И вот чем ближе был день его приезда домой, тем сильней, отчетливей становилось во мне это чувство и тем ранимей, раздражительней я казалась окружающим и самой себе. Ой! – просияла она, обрадованно всплеснув руками, – его так торжественно встречали все, особенно его бывшие одноклассники и одноклассницы: цветов понанесли полный-полный вокзал. И мне столь приятно было видеть, что Леню моего все уважили, не забыли… Что же может быть для матери дороже? Оттого я в эти первые часы – даже отключилась от осознания предчувствия чего-то омраченного.
А дома у меня – как прежде: все для него, его; только захоти, руку протяни да возьми все то, что ни пожелается, – молнией исполнится. Только вижу: он сам не свой – пасмурный такой, пришибленный – ходит день, второй. Как по клетке. Сумятится. И густой полумрак у него в глазах стоит. Вижу, что-то непонятное случилось с ним, моим ненаглядным Леней; его будто подменили поразительно: сделался увертлив даже от меня, его душеприказчицы. И как столкнется с моим взглядом испытующим, так сразу ж отвернется от меня, по-отцовски хмурясь. Отчего-то у него задергался нерв на лице, подрагивали руки и по-странному еще заклинивался погрубевший, возмужалый голос. Мне уж было не по себе. И почему-то стыдно за него. И в тоже время жалко его. Я боялась разбора с ним.
На третий, кажется, день я не вытерпела больше. Безо всяких там околичностей – напрямик – говорю ему: «Что ж, сынок, давай начистоту выкладывай, что у тебя стряслось; самостоятельно ты не можешь развязать свой язык, а я чую все-таки, что неладное с тобой творится. Ну»! Никого кроме нас в доме не было. Я выбрала такой момент совсем не зря, обдуманно: Тихон со своим спокойным равнодушным спокойствием, – как хотите, – мог только помешать нам, а не помочь.
От того, что я сказала, Леня как-то сжался, смешался весь передо мной, за столом я сидела; я села специально – чтобы лучше опору под собою чувствовать. Был он словно ученик-третьеклассник, врасплох вызванный к доске и не выучивший добросовестно урок: жалко-испуганно взглянул на меня – и потупился. Но с чем-то приехал все-таки, и ведь нужно говорить об этом рано или поздно, – это видно. И с мученьем он выдавил: «Ты, мама, уж прости меня за то, что я не сказал тебе про все, что без твоего согласия вышло…»
Все захолонуло у меня внутри. Не дождусь конца фразы. Господи! Вот оно, предчувствие, тревога материнская… «Да что же? – спрашиваю у него. – Что же? Говори скорей! Не томи меня…» «…Я женился, мама», – долетело до меня… – «Как же так, тишком?!» – «Да, так вышло…» – И руками он развел бессильно. Принялся за пуговицу на пиджаке – крутил. «Да оставь ты ее в покое, – взорвалась, задохнулась я: меня бесила его жалость, его окаянное непротивленчество. Мне мешали слышать себя, здраво рассуждать – его приспущенный голос, его мельтешащиеся крупные руки. И еще допытывалась: «А на ком же»? – с боязнью досказать такое ненавистное для меня слово «женился». И так спрашивала для того, чтобы чем-то заглушить в себе поднявшиеся обиду и страх за сына. «Ты ее не знаешь, мама. Она постарше меня. Я тебе о ней не говорил, не писал». – «У тебя же симпатия была – молодая, душевная, уютная девушка. Не далее как прошлым летом ты ведь раньше из отпуска – от матери – уехал, чтобы только заехать под Саратов, повидать ее. Забыл ее без надобности?!» И в детстве у него была милейшая избранница. Могла б составить ему партию. Случайно встретились они опять недавно – и был он этим очень счастлив. Но она – не намалеванная, не химическая девочка. А им, мальчишкам, нынче подавай вот с такими, – показала она, присвистнув, – ресницами. Сиреневые губы, сиреневый лак. Выбор – как на ярмарке: бери, пробуй…
Ну, мало-помалу я вытянула у него признание, как его, слепого и доверчивого рыцаря, женили. В общем, без него его женили. В прямом, истинном значении. Из-за этого он, значит, вовремя даже не смог прочесть мою поздравительную телеграммку: именно в день присвоения ему лейтенантского звания, как он вышел с выпускного училищного бала, так уж больше и не попал обратно в училище. Как залучили его, чистенького и свеженького, те предусмотрительные сестры, как напоили водкой и женили на своей сестре, так уж больше – ша! И не выпустили его никуда. Они ведь там же, в училище, работали и поэтому отлично знали, кого им получше выбрать и кто потом ни за что не будет брыкаться-отбрыкиваться.
А матушка у них (я и ее повидала) пройдошная – сто очков вперед любому даст. Ядреная, круглая, с гладким лицом. Она не могла не быть сообщницей дочерей.
И ведь, что обидно: он до этого вовсе не гулял ни с какой из этих сестриц. Однако они его затянули к себе, подпоили и спать уложили. Наутро он протрезвел лежащим в постели рядышком с одной из сестриц, и вся квартира это видит… Все как нельзя проще для смекалистых сестриц. Они его и Риту еще в постели и поздравили… А он-то, такой податливый, отзывчивый теленок решил грех свой прикрыть постыдной женитьбой этой. Тут и естественно еще: он курсантом жил пять лет в очень ограниченных рамках, а к тому же мало знал или вовсе не знал женщин, но любил обихоженность, не отказывался от нее (я сама его приучила к ней). Так и стал, наконец, взрослым мужчиной, собственником жены.
Он на сложившееся обстоятельство ссылался, напирал на него.
– При нашем-то женском голоде на мужчин… – игриво сказала Рая, – может, она и влюбилась в него? Бывает у нас. Когда-то я, например, не могла быть равнодушной к одному военному, стройняшке, из-за того, что он носил до блеска наваксенные сапоги.
– Ну, так поговорили с ним по душам… – Нина Федоровна торопилась досказать: – Он все беспокоился, приму ли я нормально Риту, если она приедет к нам, на жительство вместе с ним, – ему назначение сюда дают. С тем-то он и прикатил домой. На разведку. Но все равно теперь для меня его постыдный женительный акт был равноценен смерти чего-то очень-очень дорогого: в пропасть ухнуло безвозвратно все хорошее, святое, чем я жила-дышала столько лет.
XXI
В купе вошел светившийся юным лицом Коля, но, неожиданно увидав, что его место занято, а мать говорила что-то всем – она лишь глянула на него приветливо и взморщила лоб, – он замялся и затем находчиво сказал, что возьмет журнальчик с полки; достал его и, не мешкая, снова вышел.
– Да, да; только далеко не уходи, сыноченьку! – взмолилась Нина Федоровна вслед ему. И продолжала: – У нас Леня погостил одну недельку, как опять в Москву подался. И вскоре уже прибыла с ним и она, его бессовестная совратительница. На постоянное жительство. Ужасно расфранченная и раскрашенная. Ну, точно клоунада.
– Молодец, что хоть не побоялась ехать в такую даль и глушь, – одобрительно сказала Люба. – После-то Москвы…
– А что ж ей оставалось делать? – судила Нина Федоровна. – Торчать в своей Москве – вдали от мужа? И чего же ей бояться? Мы ведь не съедим ее, да и она сама не из пугливых: о, палец в рот ей не клади – откусит руку! Места и климат у нас здоровые, отличные, толчеи такой, какая бывает в столице, нет; Лене, как молодому военному специалисту, неплохую квартирку выделили – так чего ж ей не жить! На всем-то готовеньком… Все условия… Я много хуже когда-то начинала…
Я чем еще недовольна. Раз я пришла к ним, молодоженам. Грязища в комнатах – невиданная. Словно сам Наполеон у них по дому прошел. Все кругом запущено, завалено всем, чем попало. Гусар со шпагой завалится. Я даже растерялась, встала на пороге: «Что это у вас?! Приборка или так всегда»?! А Леня мне уже с какой-то досадой отвечает: «Мама, меня же не отпускают со службы, чтобы постирать белье»! Это ему-то стирать ее же белье! Его-то белье я сама стирала в то время. Никому не доверяла. Даже его раскрепощенной жене.
– Точно также и для моего брата, когда он женился, наша мать целых три года стирала белье, – сказала Люба.
– Конечно, мать есть мать, – повторила с воодушевлением Нина Федоровна. – Не для себя живешь. Но она, Рита, здоровая – лосиха да еще и не работала пока нигде и не могла справиться с делами в своей семье! Не пойму… Надо делать небольшие, но частые постирушки, пока не накопился воз грязного белья! Да какая ж выйдет из нее хозяйка! Видите ли, как поймала муженька, так уж и не может не только постирать платье, но и сварить обед толком!
Как что, так у ней готовы отговорки: я не знаю, не умею, делать не буду, не хочу; я для того замуж выходила, чтобы не работать и пожить в свое удовольствие. Меня надо обхаживать, за мной ухаживать, и муж должен обеспечить меня всем. Да подумаешь, великое дело для него-то, для здорового мужчины, – постирать бельишко или суп для меня сварить! Да такое для него должно быть подлинным счастьем, раз я с ним. О! Какая она мастерица рассуждать да причитать. И живет-то она так, чтобы ей лишь хватило до обеда, и все; о дальнейшем она нисколечки не думает, на завтрашний день не рассчитывает.
– Ой, и я не представляю, – покаялась Люба, – как все-таки как можно жить, например, без водопровода и газа. Я бы не смогла, наверное. Да, в двадцать лет мы, девушки, еще такие вывернутые: прежде всего, мечтаем о том, чтобы он был обязательно метр восемьдесят ростом, а над всем остальным еще не задумываемся.
– Вот! Вот! Как сын мой, пропащий… уже двадцатисемилетний. Он, Леня, по первости еще оправдывался передо мной: «Но она же, женщина, чего-то стоит, мама. И умная, и красивая». Я не заблуждалась вместе с ним: «Что она нарядная – не спорю; что умна, стройна, что обаятельна – нет, не соглашусь с тобой. Она – обыкновенный понедельник. Без малейшего чувства юмора, без чувства меры во всем». И хорошие вещи на ней не выглядят: как-то все аляповато. Вот уж по Сеньке и шапка, – до чего удачно сказано нашими предками. Напялит на себя какие-нибудь орластые брюки и щеголяет в них дома и на улице! Я мысленно себе сказала: «Да это счастье, что женщина юбку носит; несчастье, что она покушается на мужской гардероб». Леня отстаивал ее умственные заскоки, – объяснял все тем, что она еще затукана темпом столичной жизни. «Чем же ее тукали? – разражалась я. – Дай бог, чтобы сейчас так припеваючи, как она, жили бы жены других мужчин. Знать, она ни к чему неспособная, не только к супружеским обязанностям: если бы была хваткой, то и училась бы в институте, цеплялась бы за ученье, за знания. А она после школы никуда не поступила и не стремилась даже поступить, не могла себя заставить налечь на учебники, программы институтские. Она, стало быть, – пустое место».
Сын, безусловно, обиделся на меня. Надулся. И навсегда положил между собой и мной дистанцию: отчуждался.
Правда, нынче многое в жизни не заботит молодых в той степени, в какой заботило нас прежде; изменились к лучшему условия, а вместе с ними – все понятия и представления. Сейчас прямо глаза разбегаются от большого количества хороших вещей и продуктов. А раньше?.. Сахара в магазине не было вовсе. Пойдешь за ним – очередь завьется такая, что не сразу поймешь-разберешь, где и конец ее.
Итак, Рите пеленки надо стирать, а она бросает все и заодно ребеночка своего и несется в парикмахерскую, чтоб наманикюриться. И только они поженились, сейчас же начали шиковать. А с чего? С какого достатка? О, господи! Я не знаю…
– Что, Рита родила уже? Мальчишечку? – с интересом спросила Люба.
– Да, привычное дело. Она вышла из семьи ниже средней, с мещанским укладом, и поэтому все делает для того, чтобы держать Леню мертвой хваткой. Зачем же выпускать его из рук? Так вот, маникюр сделает, а потом из-за него ей и стирать нельзя; тогда она вдруг объявляет: «Надо сегодня в кино слазить. Или: пошла на скачки» (называет так танцы). А как же белье? А пеленки? А уборка помещений? Вон бабка постирает да приберет, не развалится. А Мишенька? Вон бабка с ним посидит, не рассыплется. Чай, она – мать тебе, Ленечка, – она не может не желать добра тебе… Любимые у ней присказки: «тыбы», «выбы». «Ты бы сделал», «вы бы сделали». И только шпыняет Леню; звенит на него, точно пчела назойливая: зынь-зынь-зынь…
Рая рассмеялась и подняла вверх глаза, чтобы, верно, слезы не катились из них, не подмочили подведенные тушью ресницы.
XXII
– Да как же это я по-молодости старалась все понять, суметь! – возмущалась Нина Федоровна, прикладывая платок к разгоряченному лицу. – Бывало, я у всех хозяек подробно вызнавала, как перловую кашу сварить, как тесто замесить, как в голодное время спасти ребят, что в ржаную муку домесить, чтобы хлеба побольше выпечь. Все хотела у старших перенять, постичь. И забот-то у нас было неизмеримо больше, чем у теперешних образованных молодых родителей. Так, в период военного коммунизма пели: «Сарпинковая блуза и колодка на ногах…», – пропела она. – А нынче вон пятнадцатилетние ребята серьезно обсуждают, как и где подешевле купить какую моднецкую куртку. Ну, ладно бы девчата, а то ведь парни вещами заболели… Все стало нехорошо, навыворот. Дома, если ребенок по натертому паркету в грязной обуви пройдет, мигом ему подзатыльников надают; а если он стекло общественное разобьет – ничего, не спросится. Редко кто одернет. В Ленинграде мне запомнился один случай. Ехала в трамвае бабушка с внуком лет пяти; бабушка сидела, внук стоял, хотя трамвай был полупустой. Но один мужчина в конце вагона стоял. Окружающие стали уговаривать малыша, чтобы он сел. Тогда бабушка сказала всем твердо: «Запомните, что если в трамвае хоть один взрослый человек стоит, внук ни за что не сядет». Вот как здорово! Все бы так… Был бы толк…
Мой жених (в тридцатые годы) никакого приданого да роскошных, дорогостоящих подарков мне не дарил, а как пришел сам ко мне с одной подушкой (от своей разлюбезной матушки), – я развернула ее: все ее нутро – наволочка на наволочке – в дырах, – приняла я его, и стали мы с ним вместе с этого жить. С иголки, с нитки. Добро по крупице наживали. Иные современные люди почему-то думают, что чем больше всего ими накуплено, тем лучше для них. Какое заблуждение! В могилу все равно с собой ничего не унесешь. И прежде другое отношение было к деньгам. Тех, кто имел тяготение к мошне, в народе не любили; кто роскошно одевался – тоже. И это тогда было справедливо, по-людски.
Крайности сходятся. Рита еще бракосочеталась, а для будущего ребенка уже заказала целый гарнитур всякой всячины из Москвы. Мебель мы подобрали на месте, все поприделали в ее новой квартирке – только живи и радуйся. Мы, родители, без задержки помогли им во всем и всем. Начала она деньги бездумно сорить направо и налево… Ой! – И вообще у нее богема. Только цунами до нас доходит. И разыгрывают уставших молодые. Она возьмет и в восемь часов вечера завалится спать с младенцем. И изнемогающая вся, умирающая вся. Как-то я приехала к ней – выплывает ко мне, вся сверху-донизу в расписных кружевах. Да, не заладилась у них семейная жизнь. С рождением Мишеньки лишь наступили новые осложнения. Видно, на неправде долго не может держаться; любовь – та же подруга жизни, ее подспорница. А откуда же у них любовь?
Как признали медики, оказалось, что и по-научному им нельзя было жениться: у них резусы не сходятся – положительный и отрицательный. Обычно молодая женщина после родов хорошее, краше становится. А Рита стала какой-то вытянутой, скособоченной и … злой, как сто чертей.
Вот Мишенька убавился в весе на сто пятьдесят граммов – опасаются за его жизнь, врачей тормошат. А в груди у родительницы мало молока – ему не хватает. Опять тревожатся. Постоянно так. Надо ему к груди привыкать, а мама приучила его к соске. Не зная устали, тоже заодно дежуришь у них. На правах беспокойной бабушки.
Двухмесячный, он не может же просморкаться. Сопли у него где-то внутри. Спать не дают ему. Не помогает ни материнское молочко, заливаемое в нос пипеткой, ни прописанные капли – они только расширяют сосуды; дышать ему вроде бы легче становится, но потом все по-прежнему или хуже происходит. Ночью он захлебнулся слюной, закашлялся. Вскочили. Думали, что круп начинается. Утром вызвали детского участкового врача. Она – неприступная – ни одного дельного совета никогда не давала. Нам больше помогала патронажная сестра. Врач заскакивала на две всего минутки, что она могла увидеть? «Нет, я насморка не вижу. Не нахожу. Ребеночек здоров. Только не кутайте». Она ушла в отпуск. Вместо нее пришла по вызову новомодная молодая врач с отполированными лаком ногтями. «У вас ребенок в какой-то прострации». Укол прописала. Противогриппозный. Ампулку в аптеке мы взяли. Назавтра уже третья врач пришла. Чистые легкие обнаружила, обнадежила нас. Укол погодила делать. А ребенку все хуже. Где же опытного детского врача взять? Его нету.
– Но ведь раньше детских врачей вообще не было, – сказала Рая. – Мне мать рассказывала: ее сестра, то есть моя тетя, годовалой выпала из окна, и попросили тогда врача определить, не повредила ли она что, а тот и сказать ничего не может, как у ней позвоночник, пострадал ли, – он, врач, не лечил детей ни разу.
– Ну, раньше люди и пороха еще не изобретали, – вскинулась Нина Федоровна. – Лупили друг друга копьями, пиками, тесаками. Что сравнивать с временами царя Гороха! Мы же передовое общество строим. А все недоделано или часто делается кое-как. В вагонах вон сквозит; новые дома панельные, как решето; в поликлиниках персонал рычит, лучше туда не ходи; в школах учителя устали бороться со школьниками-лентяями и влюбленными. Только и слышишь по радио: на столько-то раньше дней сев закончили, столько-то молока надоили, а все не хватает нам самого необходимого, элементарного. Люди болеют чаще от усталости, либо от физической малоактивности. Нам некогда оглянуться на самих себя. Подобное и с воспитанием детей. Так что же мы за жизнь такую делаем с большим усилием или спустя рукава?
Сначала Мишенька действительно слабенький и тощенький был, когда принесли его из родильного дома. Одни косточки. А спустя два месяца надулся – полненький стал. Кашку с молочком только давай. Семь раз в день нужно кормить. Голосишко уже басовитый. Посидишь, повозишься с ним – о! Он вымотает душу из кого хочешь – захвораешь, лежишь неделю дома.
XXIII
– А тут еще и самих родителей мири; ходи за ними, что за малыми, – рассказывала Нина Федоровна. Поцарапаются они – и Ритуся не кормит Леню неделю кряду. Ну и что! Ведь через неделю будет опять кормить. И у нас с Ритой до сих пор заминка: раз она молчит, так и я молчу. Но она нарочно поступает таким образом, чтобы мне по-матерински отчаиваться и обвинять ее во многих грехах. Леня немало виноват в том, как ненормально все у них идет, – мог бы обозлиться по-хорошему, стукнуть кулаком по столу. У нее ребенок по два часа сидит на горшке – а она про него забывает. А на Леню бубнит без конца, его пилит. Обзывает его унизительно. Почему-то у них является желание что-нибудь доказывать друг другу, когда они оба виноваты в том, что у них случилось все не от большого ума и уважения друг к другу.
Правда, они еще покамест не заводятся круто – до драки – и не бьют посуду, мебель. Но от этого, поверьте мне, всем нам ничуть не легче. Раз среди самой ночи, я глаза открываю – стоит Леня передо мной. Белый весь. «Что с тобою? Что»? Сбежал из дому – дурень… До чего допекла она его! Уж на что покладистый он, и то твердит мне – жалуется слезно: «Я разведусь, все равно разведусь; Рита мне вставляет шприц во все места, куда и вставить невозможно…» Теперь ест его за то, что не в Москве с ним живет. Ну, какая худая баба! И по что она грызет его?
Нет, меня мама еще учила: встала – убери себя, потом убери постель и после начинай жить. Все равно нет ничего хорошего в семье, если сама беспутная.
Да, беременность не всегда обновляет организм матери. Я не похвалюсь – с каждой следующей беременностью все хужела и разваливалась буквально по частям. То диета меня замучила. До тошноты. Что даже жить не хотелось. После уже второй беременности пришлось мне срочно штопать все зубы. «А третья может ликвидировать совсем их у вас», – предостерегла меня врач. А когда долго грудью кормишь ребенка, тогда выпадают волосы и отслаиваются (крошатся) ногти на руках. Та же врач меня предупреждала: «Еще полгода покормите сына грудным молоком, еще больше почувствуете это на себе». Надо же, какие силы материнские берет младенец! Как природа все предопределила в этом отношении – позаботилась о нем, в первую очередь.
Иногда, когда меня, беременную, в очередной раз, мутило, я приговаривала для себя, словно утешаясь этим: «Вот уж воистину – рожать опять будешь в муках запрограммированных». Как, бывало, переволнуюсь, даже посмотрев какой-нибудь фильм, – так тошнило сразу. А то соседка кособоко на меня взглянула, – мне до того не понравился ее взгляд пронизывающий, что я тотчас же повернулась к ней спиной и ушла. Одна моя знакомая мне говорила, что на беременную и смотреть-то дурно нельзя, противопоказано. В мире все обусловлено.
Догмы переиначиваются. Временя меняются, и мы меняемся тоже; то, что мы с презрением отвергали когда-то, мы теперь принимаем почти полностью, не кривя физиономию… Это прежде роженицу окружал хоровод заботливых матушек, бабушек, нянек, тетушек; дом был полон услужливых рук, подставлявшихся с готовностью, и матери, собственно, оставалось сделать для новорожденного только то, что в ее силах. А теперь? Куда поисчезали вдруг эти добрые мамаши, бабуленьки, нянечки, тетушки? Навострили лыжи в кино, на посиделки (на скамеечках). Себя они стали беречь что есть мочи: по докторам бегают, лечатся от ничего; хотят подольше пожить в здравии и спокойствии. И поэтому бесконечная возня с дитем для матери, особенно для запоздалой, с первого же дня превращается в пытку. Хорошо еще, если попадется ей муж толковый, понимающий и будет тоже крутиться, как вол. А если нафуфыренный, надутый по-купечески (ангел на работе, а дома – скот?). Если он не ожидал, например, что родится дочь – оскорблен в своих лучших супружеских чувствах? Если – еще хуже – он в этот момент бежит от жены к ядрене Фене? Какой тут может быть расцвет материнского организма? А ведь так происходит нынче у большинства рожающих женщин. Сплошь принесенные эпохой маститы (некачественное питание, выхлопные газы и прочее), аллергия (штучки чудесницы химии); недосыпание, нехватка детских садов или небрежная, что греха таить, обслуга в них, что ведет к частым заболеваниям детей; отсутствие всякой помощи загоняют, в конце концов, роженицу – и она попадает с малышом в больницу.
Вот уж поистине справедливо: девушка мается, а женщина кается.
Да, сначала она, будущая мать, дрожит за то, чтобы все было хорошо с появляющимся на свет малышом, а потом? А если у него еще сепсис, и на ее глазах делаются уколы в вены, и он кричит? Или если нужно его морить голодом – от поноса? А когда жутко груди набухают молоком – не дотронуться до желез, и невыносимую боль причиняет прикосновение к ней ребенка, или когда, наоборот, иссякает молоко (понервничала, то, се), когда у ребенка нет стула, когда у него насморк, который ничем не вылечишь месяцами, и врачи говорят бог знает что утешительное, когда он срыгивает и рвет его, когда он вялый или, напротив, буйный, незасыпающий по двое суток? В это время думаешь: год бы жизни отдала за неделю его сна… Уж ходить сама не можешь – особенно, если рядом нет хотя бы вторых женских рук. На подхвате… Ведь если малыш беспокойный, почти каждую ночь встаешь бесконечно; а когда рваный сон из ночи в ночь – и не высыпаешься хронически; ходишь, как пьяная. Боишься диатеза, щетинки, насморка, перегреть на солнце, недогреть, недокормить, перекормить… Помню, у Колиньки шли зубы. Коренные. Потом – глазные. Такие клыки пробивались с двух сторон, что у него температура поднялась под сорок, и я думала, что стоматит у него: был очень характерный признак – выпученность глаз, рта; он лежал без движения, и уж начались судороги. И я подумала, что это менингит. Натерпелась страху.
А некоторые мамы кинут свое дитя – в гости уйдут, и ничего. Он весь посинеет в плаче. Молока материнского нет, так напихают кефиром – ребенка рвет; но это ничего, пускай себе. Зато по принципу: его развитие идет естественным путем. Но и некоторые нынешние бабки и тещи только помеха в воспитании ребенка. Ничего-то они не умеют, не знают и делать не хотят; лезут они к малышу с грязными, немытыми руками, обращаются с ним небрежно. Приедут с фанаберией, с капризами: дескать, почему их не встречают с хлебом-солью? Молодая мать с ног валится, лица на ней нет, а их встречай любезно, помой, накорми, угоди. Теща на кухне волосы чешет, сушит, трясет ими; потом они везде в доме летают, липнут. От таких помощников не дождаться помощи век.
Но, как говорится, маленькие детки спать не дают, а от больших сам не уснешь. Мне видится теперь отчетливо, насколько же справедлива была возмущавшая меня гинекологичка, которая говорила про дитя: «От чистоты не воскреснет, от грязи не умрет», – видится под напором новых истин, ударов судьбы. Это и Пушкин в «Золотом петушке» предупреждал об опасности женских чар – они страшнее любого врага, которого можно в открытой битве одолеть.
XXIV
– Да, люди поумнели рационально, – хрипловато говорила Нина Федоровна. – Как что, так бурчат повсюду: «Ой, как сложно дите воспитывать!» Отказаться вовсе от этой божеской привилегии? Да будет ли то человечно? Не обесчеловечит ли это нас вконец? А как же раньше матери воспитывали по семь-восемь и больше детей? И еще работали при этом сами. И чтобы раньше в крестьянских семьях кто-то из детей нагрубил, нахамил родителям или не послушался их – ничуть не бывало. А потом всех испортила власть денег и лозунг цивилизации: все можно, все дозволено. Решили друг перед другом в грязь лицом не ударить, перефорсить во всем один другого – платьем или прической, телевизором или автомашиной, походкой или фигуркой, известностью или скандальностью…
Мне рассказывала одна москвичка, отчего она рассталась с мужем. Он – большой строительный начальник. Получал хорошо; большие премии, кутежи… И что он делал? Бросит на пол окурок – говорит шестилетнему сыну: «Володя, подыми». Она пробовала запретить ему. Бесполезно: и ее изобьет, и сына. Володя поднимает окурок. «Володя, отнеси в унитаз. Опусти». Отнесет туда. «А теперь вытащи оттуда». Да это же форменный садизм! А вы знаете, тяжело обстирывать, обхаживать мужчин, когда их четверо вместе с мужем – прямо скажу, муторно.
Сколько я ни помню тот период, в который мои ребята особенно усиленно росли, физически преображаясь на глазах, – от четырнадцати до восемнадцати лет, – я не помню такого случая, когда бы они были совершенно сыты. Я пугалась их прожорливости всеядной, их ненасытности. На обед для них всегда ставила две полновесные порции; а спустя какой-то час они съесть могли еще ровно столько же, если не больше. Изумляла еще та быстрота, с какой уничтожалось ими все подряд, без разбору; эта их опустошительная прожорливость, приводившая в неподдельный ужас также всех наших знакомых, ставила меня в полнейшее замешательство: они поступали так, словно я их кормлю впроголодь или не кормила по неделям, не учила этикетку. Представьте себе, их отец, крепкий, сильный мужчина, работающий мускулами, – ел в три раза меньше, чем каждый из них! Непостижимо! Девушка обычно в этот ответственный период может подавить в себе желание съесть побольше; но юноша, видно, затрачивает на свой рост колоссально много энергии. В любую минуту, когда бы я ни спросила у сынков, хотят ли они есть, и ни предложила котлету, пирожки ли, яблоки ли или что-нибудь еще съестное, – всегда незамедлительно протягивались к пище руки, и она в мгновение ока, исчезала у них во рту.
А какими они разуделанными, бывало, приходили домой с гулянья! Ужас! В особенности Саня, такой заводной, что бациллами веселья заражал всех малых и старых; вовлекал всех в игру то в лапту, то в городки, то в футбол, то еще в какую-нибудь свалку. На нем горело все. И подшивать, и штопать. И чистить мне было что. Особенно Саня любил игру с мячом в воде. Мог бросать его часами, здорово работая ногами, чтобы держаться на воде. Он дотаскивался домой такой, что ложку не мог держать в руке.
Помня свою бесконечную возню с сынками и надеясь на их взаимные чувства ко мне, я недавно пришла к Лене – просить деньжат для своей поездки этой. А Рита бессовестно и влезла – отказала: «Нет, мы финансов дать не в состоянии». Но я ее оборвала: я с сыном разговор веду и к сыну обращаюсь. Назавтра он полторы сотни взял из кассы взаимопомощи и привез мне.
А теперь, прикатив в Москву, по Ритиной же просьбе навестила ее родителей; еще б не навестить: ведь мысленно я готовилась пропесочить их за Леню. Однако, надо сказать, они приняли меня и Колю отменно, с распростертыми объятьями: одних закусок накупили уйму; что вторая свадьба – так богато для нас стол накрыли. И язык у меня не повернулся посчитаться…
– Ну, видите! – с оживлением воскликнула Ира.
– Да, но все-таки: зачем же они насильно женили Леню? Так искалечить им обоим жизнь. Не только обоим, но и третьему, Мишеньке (если только больше никого у них не будет). Непоправимо… Какой же сын вырастет, если они заняты собой – все торгуются?
Я видела детей, которые в два с половиной года ходят с соской во рту. Поэтому и много их, необихоженных, ясельных, или, как говорят теперь в медицинских учреждениях, организованных, недомашних. Такие дети сразу бросаются в глаза. В том числе и агрессивностью своей.
Ничто, ничто не понуждает нас иметь детей. Тем более, уж если для молодоженов такой непреодолимой сложностью становится в наш век деторождение и это производится со столькими оговорками, с такой неспособностью и даже злобой, – для чего ж, помилуйте, их иметь, а для этого зачем жениться столь неискренним, негуманным образом? Ведь как просто и понятно это. Ну, если с неохотой рожаешь ребенка и даешь ему неполноценное, извращенное воспитание, если растишь его как бы между прочими своими взрослыми забавами, – это все равно, что выпустить из вуза неподготовленного для народного хозяйства специалиста. Тут только непоправимей все. На школу и общественность нельзя надеяться, что выправят.
XXV
Поезд мчался без передышки. Заметно вечерело. Тускло-желтоватый свет от коридорной лампочки косо освещал усталое лицо Нины Федоровны. Она с предосторожностью полуобернулась к выходу и сильней заторопилась:
– На грех не напасешься. Как говорят в Одессе, ты послушай: ты сейчас будешь смеяться. Но мне не до смеху. Еще не оправилась я от того, что позорно влип один парень мой, как вдруг узнаю, что уже попался на такую же удочку и второй – средний сын. С Саней история еще похлеще. Но всего-то я еще не знала поначалу. Беда пришла – не сказавшись. Счастье бежит, а несчастье летит. Ой, какой кошмар и стыд! Бывало, все в семье шло мирно, своим чередом, безо всяких выматывающих скандалов и осложнений. То все были дружны, предупредительны друг к другу. И за обед садились с ладком, даже похудевший, похмуревший Леня частенько наведывался к нам пообедать вместе с сюсюкающей Ритой. А тут началось невообразимое. И глава семьи вроде б стал ни причем. Добропорядочно улизнул в кусты. Разбирайтесь, мол, сами со своими высокими чувствами. И я-то при нем ни вдова, ни замужняя. Он присказывал не раз, что жена отдаст его за мизинец любого сына и потому смотрел на все сквозь пальцы. Сыновья могли сесть на холку мне – и мне это, представьте, нравилось. Пока меня не поразила… их неразборчивость в средствах. – Она оглянулась, дух перевела.
– Поистратились мы на старшего, обезденежели, а деньги позарез нам были нужны. Это обеспокоивало меня, как хозяйку. Однажды, уставляя обеденный стол тарелками с супом, я углядела в свежей газете таблицу погашения и возрадовалась без надежды: «Дай-ка мне – к Тихону, – проверю облигации… Авось нам повезет…» «Да поешь сначала, ты не сумятись; проверишь после, поспокойнее, – только и сказал мне Тихон. – А то ненароком выиграешь сотен пять, – ведь и есть не станешь от радости, позабудешь об еде». Он был по-всегдашнему прав. Я, действительно, все суетилась. Да все бабы суетятся, как наседки, квохчут около гнезда; все стараются успеть куда-то и чего-то не прозевать. Ну, отлучилась я в другую комнату, сличила номера облигаций с табличными: «У-у, наши облигации еще далече, – говорю погромче. – Мне ничего не надо. Вот когда семья на месте – и тогда моя душа спокойна». «Да? Ты думаешь»? – говорит Тихон как-то значительно. Облигации я убрала обратно в комод и вернулась снова к столу. И здесь у меня аж дыхание перехватило: что ж такое: «Сани нет?! Не может быть! Да где же он»! «А Сашка, мать, как видишь, сорвался, что ветер, и унесся куда-то», – с виноватым спокойствием, жуя, сказал от тарелки Тихон. Доложил…
Значит, пока я сличала облигации, он улизнул от стола, даже не притронулся ложкой к супу. До чего ж припекло его!
В жар меня кинуло. И куда ж он понесся, глупый? На свою погибель верную?! Да, похоже, что он к Миле убежал – к ней вырвался от меня; мне уже не до еды – она стынет на столе нетронутой. А Тихон святотатствует: «Да, и Сашенька скоро уплывет от нас». Ой, худо, горько стало мне в это светлое апрельское воскресенье. Я пролежала полдня. Затемпературила. Но меня заставили снова встать на ноги неотложные домашние дела и новые хлопоты.
Да, главенствовала я в семье. И бить детей не давала мужу. А сама их воспитывала строго. И наказывала. Помню, у Сани в 12 лет сигареты обнаружила: «На, кури»! Посмотрела на него, как он закашлялся. Решала: нет, на сигареты рано – буду давать деньги только на школьные завтраки. Играла с сыновьями даже в кошки-мышки-догонялки.
Что же может быть несправедливей жребия моего? Для всех работающих на производстве узаконены рабочие и выходные дни, а для стопроцентной домохозяйки, в какую я превратилась давным-давно, такого разделения дней и часов не существует; все дни напролет – настные или ненастные – я вожу от зари до зари по дому. Кроме этого, тащу сад. Оттого все руки мои в ссадинах и мозолях. – Нина Федоровна повертела руками, растопыривая пальцы. И еще-то я должна по-нужному углядеть за детьми, чтобы они как-нибудь чего-нибудь не натворили.
Спрашивается: а за что тогда мужа любить? За какую доблесть?
В ответ ей только слышно «тук-тук-тук», «тук-тук-тук» перестукивали на стыках рельс вагонные колеса.
XXVI
– Через день, когда мы с Саней чуть примирились из-за позавчерашнего, – дрожал и прерывался ее возбужденно-хрипловатый голос, – я нарочно бужу совесть у Тихона, задеваю его: «Все, теперь я на батьку имею зубок». «Какой зубок»? – искренне недоумевает он. – «Ну, сержусь на тебя. Ты знаешь, из-за чего. Не хочешь мне всерьез помочь…» «Да что ты, мать, на меня»?! – вскинется он натурально. И это-то взорвет меня: «Со своим равнодушием, бессердечностью ты человека можешь довести до нервного припадка. Так нельзя, Тихон…» – «Да какая пчела тебя укусила? Нескончаемо пилишь и пилишь меня за что-то». – «Как «за что-то»! Дело касается Сани. Нужно остановить, спасти его». Я сжигаю все мосты. – «А он от нас спастись нынче хочет, – говорит. – Кому что нравится». И ни одного дельного разговора с Саней не проводит. – «Поговорил бы с ним по-отцовски. Куда ж это годится»! – «Ну, и говорил, да он-то, мать, не очень слушает теперь нас: красотка ему ближе». И вот уляжется спать, закроется с головой одеялом, чтоб меня не видеть и не слышать больше.
И чем дальше, тем откровенней и невыносимей становились наши ссоры, чего прежде, в молодости, с нами не бывало. Все время мы держались молодцами, и все нашему согласию завидовали, а тут нас точно прорвало; мы с ним стали капризней, вспыльчивей, недовольны друг другом и тем, кто как сказал, что подумал и что сделал или не сделал. Я его обвиняю в том, что он поставил крест на ведении домашнего хозяйства, отошел от воспитания детей – все переложил на меня, благо я везу, пузынюсь; он – что я его не понимаю и что из-за этого даже не может дела вести; я ему кричу последнее, решительное (аргументы у меня все исчерпаны, и его суждения, порой логичные, ясные, приводят меня в бешенство) – я ему кричу, что больше жить с ним не могу. Но не могла ж я дать ему выставку: больше не являйся. Он замыкается в себе, натягивается. Ия даже ночью во сне доругивалась с ним, умоляла его одуматься: «Ну, Тихон!.. Ну, честное слово… Ты – как маленький ребенок…» Вот до чего дошло.
– У наших родителей тоже эта пора доругания, – сказала Люба.
– Тогда начну с кастрюлями, с посудой на кухне разговаривать: «Расплодились вы здесь, житья от вас нету! Сейчас я вас одна в другую позапихиваю – вы узнаете у меня!..» Начну их двигать, греметь. А то в шитье, в штопанье уткнусь.
Так и повелось у нас. Тихон ничего не предпринимал, весь ушел в работу, во все дополнительные общественные нагрузки: уходил из дома рано (любит пройтись пешочком), возвращался в позднь. А выходные дни тем более превращались для нас обоих в сплошное дерганье нервов. Или молча садимся с ним за стол, он молча смотрит на меня. Своими правдивыми глазами. «Ешь, пока горячее, чтоб не подогревать»! – скажу ему. – Молчит, смотрит – взглядом своим казнит меня. Брошу в сердцах ложку, уйду, в спальню. Лягу, не поевши. Он также уйдет куда-нибудь из дома. Такая пытка на склоне лет!
Рассказ Нины Федоровны подтверждал правило, что нигде так откровенны не бывают люди, как в дороге или при любой встрече с незнакомыми людьми; в разговоре с чужим человеком собеседник может досконально проанализировать всю свою жизнь, и похожее было теперь.
XXVII
Заглянул в купе Николай и, почувствовав, наверное, что его приход еще несвоевремен, нежелателен, с ревнивым и грустным подозрением поглядел на мать и сказал, колеблясь, что он хотел взять карандаш – достать с полки.
– Разгадывать ребус я буду, мама.
– Ну, возьми. – Она его скорее умоляла. – Только никуда не уходи, сыноченьку.
Антон свой карандаш достал из кармана и протянул Николаю. Тот, взяв его, исчез.
– А всему-то виной был мой ненаглядный Саня, – вздохнув, продолжала Нина Федоровна. – Я думала: что сделать, что? Думаю: сейчас я пойду за ним следом… Прослежу… И предупрежу плохое… Но что – по-существу, шпионить за ним, взрослым? Позор – следить за кем-то, выслеживать кого-то, вскрывать и читать чужие письма… Так весь вечер или день и промучаюсь в незнании…
А соседка Люба, между тем, злорадно бросала взгляды на меня. Уж удружила она мне, что вовек не позабудется. Даже не припомню уже, из-за чего мы с ней когда-то не поладили. Однако впоследствии все обострилось до крайности, в особенности из-за того матросского ангорского пушистого кота – о нем-то я вчера упомянула также, кажется. Кот жил у нас три года, да, года три в общей сложности. И Люба жаждала его заполучить – для своего сынка Володи. Вроде б вместо заводной игрушки.
Ну, мы по добру временно уступили Любе приблудного кота Ваську – чтобы он и у них домовничал тоже, если сможет; да там его не прикармливали, только тискали. – Любино семейство само питалось впроголодь и безалаберно – здесь с легкостью необыкновенной пропивалось все, что можно пропить. А для того, чтобы не выскочил кот вон, его, голодного, запирали в квартире. Ну, и естественно, что Васька – умница – не потерпел такой прием: он напрочь перестал бывать у Любы – избегал ее. Из-за него она вскорости скандал публичный учинила мне. Обозвала меня вруньей, ханжой и похуже; причем, говорила, дергаясь лицом, что я б должна краснеть. А когда я спокойно спросила у нее: «За что»? – она истошно взвизгнула: «Закрой свою варежку»!
Чтобы вам понятней стало, скажу, что Люба эта, издерганная чем-то женщина, могла запросто переговорить или заговорить сразу дюжину человек, комиссию содействия, куда она регулярно писала на нас доносы, что мы хлопаем дверьми, что мы смеемся, что поем песни, что от нашего Васьки, по ее мнению, у ней в супе оказались рыжие волосы; она могла заговорить и товарищеский суд, куда писались на нее заявления. Она научила сынишку Володю не здороваться ни с кем, высовывать при встрече со мной язык и выкрикивать: «баба Нина – дуля! Дуля»! Любочке подстать и муж Виктор, совершенный алкоголик, слесарь, в подспорье питью промышляющий также сбором и сдачей брошенных бутылок. Не раз он вне себя, тронутый, бегал босиком по лестничным площадкам и кричал, что он больной и очень нервный; не трогайте его, не то он зарежет всех к чертовой матери. И все-то сходило и сходит им с рук – под несгибаемым предлогом необходимого проявления к ним, больным и слабым, жалости со стороны здоровых, сильных – нас. Люба попрекала меня всем: тем, что я вырастила трех сыновей, что они столько учились – зазря, по ее понятию, штаны просиживали, что болели, что даже объедали своих родителей, женившись, хотя отделились, что они не только не пьянствовали без просыпу, как ее муж золотой, а даже в рот не брали спиртное, и не дрались.
Как позднее мной узналось, она-то ловко и подстроила ловушку нашему образованному Сане – в отместку за что-то такое, в чем я одна или сразу вся наша семья не угодила ей, психопатке. Наверняка она-то и кота нашего прижучила, что он бесследно исчез: сколько мы ни искали, не могли его найти.
Саня зачастил к своей любезной Милочке, объявившейся в нашем доме, в одном подъезде с нами, после того как их нарочно свела Люба: в конце марта Мила искала по соседям топор, – зачем-то он ей понадобился, а моя недоброжелательница, прекрасно зная лисью породу гостьи и зная еще, что в эту минуту в квартире у нас находился Саня один, умышленно подпустила ее к нам. Свое черное дело она сделала: Мила и Саня познакомились и подружились. И парень мой пропал.
Все-таки признаюсь вам. Наша Олечка ведь заживо сгорела на гумне в деревне, где у бабушки гостила летом. Там погибло трое их, игравших детей. Я, наверное, повинна в том, раз отпустила туда дочку одну. А Люба еще попрекала меня и даже ее трагической смертью. Она и отомстила мне полностью в своей ненависти к нам.
XXVIII
– Мила же быстренько обворожила, околдовала Саню, и непосильно мне было расколдовать его, чтобы он перестал встречаться с ней; оттого я чувствовала себя виноватой в чем-то перед ним, но и тем сильнее противилась его желанию жениться, когда он решился. Как будто предчувствовала все дальнейшее… Но был он до исступленности неумолим. Мои предубеждения были для него все равно, что мертвому припарка… – Нина Федоровна снова смахнула с глаз заблестевшие слезы и уже машинально обернулась на дверь. Отчего-то зябко повела плечами, хотя в вагоне еще не было ощутимой прохлады. Частично я видела Милу-то и ясно видела одно – что ее краса про другие глаза: но воспрепятствовать чему-либо была не то, что бессильна, но никак не вправе и к тому же морально не готова. Несмотря на то, что я наказана ужасно за свою самоуверенность, я убеждена: за молодых решать ничто нельзя, а вот помочь разумностью советов или делом следует – на правах беспокойных родителей. А то ведь часто родители страдают необъективностью в отношении своих детей… Они бог знает, что могут накрутить. Своей любви ради.
Хотя я и была против Саниного выбора, все-таки приготовилась к его свадьбе, которую он настойчиво проталкивал. Пошла по магазинам. Покупать подарки свадебные. «Это вы захотели, – говорю молодоженам, – а это еще от меня», – купила им еще по отрезу на костюмы. И говорю: «Мне для счастья вашего ничего не жалко; все отдам, только вам посчастливилось бы очень. Но скажите, дети, откровенно: вы-то будете друг с другом счастливы»? Саня удрученно промолчал, а Мила как-то так непонятно поежилась, повела плечьми покатыми. Я была поражена.
– Подумаешь, какое счастье – пожениться! – взыграла Рая глазами. – Сейчас я уже мечтаю: а нельзя ли мне выйти из замужества?
– Счастье-то, вы говорите? – быстро откликнулась Нина Федоровна. – Оно большое должно быть. Я оговариваюсь потому, что сама-то не испытала его до конца: меня мои сыночки подвели. Какой же важный винтик у них свернулся, надломился?
– Подумаешь! Не сложилась совместная жизнь – не поздно и развестись. Никто не осудит нынче. – И Рая встала: – Извиняюсь. Не буду вам мешать. Пойду. – И вышла из купе.
Нина Федоровна лишь поморщилась.
– Ну, я, значит, тогда повторно обратилась к сыну: «Учти, сынок, твоя мать все же любопытная. Уж если выяснять что, то выяснять до последнего. Так считаю». Он опять неловко замялся передо мной. «Ну, ладно уж, живите», – сказала я с какой-то прорвавшейся досадой. Ему на подмогу поспешила Мила: «Да, Нина Федоровна, надеюсь, мы будем счастливы, но только я чего побаиваюсь – он может вдруг запить». – «Запить?! С чего же?!» «Ну, может, я и ошибаюсь, – простите меня…» – И она слегка – целомудренно, как умела, потупилась.
Признаться, в ту минуту я пропустила мимо ушей сказанное ею. В голове чуть мелькнуло: мало ль отчего она несет нивесть какую чушь. Глупость! Я ведь досконально знала родного сына, – не в его характере опуститься. Был он очень молод и здоров, горд и непреклонен в своей жажде начать жизнь по-своему – свою. И волен выбирать себе друзей, попутчиков в ней. Это его право. Разумеется, тут он маленечко нахомутал; но из-за гордости, или стыда, не смеет мне исповедоваться. И это по-мужски. Понятно все. Но когда я все же посоветовала ему не быть столь беспечным, а быть предусмотрительным, – он смущенно засмеялся: «Мама, какие же вы консерваторы, право; ведь эпоха совсем не та, мораль другая…» А когда я, все-таки не успокоившись, предложила ему чуть отдалить их свадьбу – под тем мотивом, что если они поскорее женятся, то и скоро может появиться на свет ребеночек, а ему самому для начала, для поддержания своей новой семьи нужно еще покрепче утвердиться в жизни, – он еще уверенней сказал: «Предрассудки, мама! Будто бы и так нельзя…» И этим он больше пристыдил меня.
Какой же хороший, справедливый и толковый сын у нас с отцом! Он, Саня, вырос, наконец! А теперь, спустя два года после того восторжения его сыновней взрослостью и самостоятельностью, нейдет из моей головы то странное ее заявление насчет ее боязни, что он возьмет и запьет. Никак нейдет, – Нина Федоровна, остановившись, поморгала глазами. – Да, соколики, она, как говорят по-деревенски, родила ведь в девках.
– Ну и что ж? Не возбраняется… – сказала Люба.
– Нет, вы не поняли меня. Кабы только это!.. А у ней– то там, в Керчи, куда она умчалась живо, прихватив с собой и Саню, как бесплатное приложение, ведь старинные друзья-приятели, своя компания. Не для него. Ни-ни. И чтобы лишь удержать его возле нее, эта-то компания и подобьет его на выпивку; он после всего случившегося в точности может запить. Вы не думаете?.. Вот чего я страшусь теперь. Мила и одна уже учила его пить, как самолично я наблюдала раньше.
XXIX
– Я вернулась к их свадьбе. Ах свадьба… Тут-то все! – Нина Федоровна ткнула себя в сердце. – Я столько гостей загостила, о! Кругом я должницей была – отгуляла на свадьбах у многих знакомых, да и должна была всех пригласить к себе из простого долга гостеприимства. Живем мы все на виду друг у друга, не то, что у вас, в великих городах: люди по разным тоннелям ходят, бегут, ездят – не видят и не знают один другого. Зазвала я даже и Любу с ее скандальным мужем. Сделать по-другому я не могла. Не в моей натуре. Я не мстительна. Только думку такую вынашивала: пускай, если уж у Лени нескладно получилось с его экстренной, подпольной женитьбой, то Санину нужно отпраздновать вдвойне. Будет что вспомнить ему впоследствии. Этим я, неисправимая фантазерка, тешила себя. Ну, значит, гости отовсюду съехались к нам. И Милина мать – полная – из Украины доехала, сразу закомандовала всем и всеми. Засела за стол с такой важностью – держись! – словно делала нам одолжение какое. Она, знать, простушкой не была. Мой-то Тихон вмиг определил: «Эва, какая боевая, черт»! И уж обходил ее с опаской – бочком, не соприкасаясь с ней. А на переговоры с ней отсылал меня. Он – молодец! Ишь политик!
Меня-то все сватьюшкой, сватьюшкой величали. Даже величал подобным образом Петр Петрович, отслуживший, как и мой Тихон, всю жизнь в армии, офицер-коммунист; он точно, торжествуя отчего-то, благодарил меня за то, что мой сын женился на его племяннице и что так мы породняемся. В глаза он заискивающе засматривал… Как же, выдается замуж засидевшаяся девушка… Аж не по себе мне стало, неприятно… Только церемониться особо с кем-нибудь мне было некогда, потому как я у себя распоряжалась по-хозяйски, все приготовляя.
Признаюсь, вскользь я думала: какое наказание! Все-то эти гости, что прибыли (и издалека), не посчитавшись ни с чем, так обходительны и ласковы со мной, как с матерью жениха, а я-то, кочерыжка старая, все не могу в душе оттаять и помягчать к ним, добрым людям. Как это, должно быть, недобро с моей стороны! Нужно срочно исправляться! А соседушки уже после изложили мне кое-что существенное, что они подметили на самой свадьбе, но что я не видела нисколько.
Худшее шло поперед. Как обычно.
XXX
– А поезд все стоит? – оглянулась нервно Нина Федоровна. – Я волнуюсь еще и за Колю сейчас…
– Да он был все время на виду…
– Но я доскажу… У Милиной родни такая украинская традиция: во время свадебного застолья обходить стол с подносом и разворачивать на показ все подарки – демонстрировать их. А я невзначай, не зная того, сбила ей замысел, только она, родня, приготовилась негласно выступить: я большущий красивый торт вынесла, поставила на праздничный стол, перед невесткой и сыном, и сказала им прилюдно, что желаю им двоим большого счастья. – Она вытерла платочком глаза, качнула головой. – И за это самое Милины родичи возненавидели меня. Словно я преступница, смутьянка. А мне не до этого было. Все я делала, как заведенная. И это-то меня поддерживало. Хотя старшенький мой, Леня, и говорил мне из-за стола: «Мама, ты садись – посиди-ка с нами тоже; хватит тебе распорядителем да прислугой быть»! Но как ни прислужить сынку родному… Да еще в такой-то день… Все естественно для матери…
И потому, наверное, все, кроме накладки с тортом, было славно, хорошо. И стол, за который я переживала сильней всего, получился – удался на славу: всех он поразил, как я видела по глазам собравшихся. И поэтому все были довольны, веселы. Однако в самый-то разгар пиршества мой слух (я услыхала невзначай) неприятно резанула одна фраза, вскользь брошенная невестой; она, Мила, налила себе стаканчик вина, приблизилась с ним к своей матери Галине Витальевне и как-то ненатурально сказала: «Ну, давай, мамочка, выпьем за то, что мы обстряпали это дельце». Она выразилась именно так вульгарно. И та тоже заговорщически ответила ей: «Я давно этого желала, доченька – ждала, когда ты поумнеешь. И вот наконец-то тебе карты в руки…» Мне такое сильно не понравилось. О подслушанном я забывала и с досадой вспоминала между дел. В душе у меня остался какой-то неприятный осадок, точно я нарочно подслушала что-то секретное.
Пришла пора – всех спать уложила, приготовилась помыть грязную посуду. И только взялась за нее – ползет снова пить вся их протрезвляющаяся братия. С предводителем – Галиной Витальевной. Эта братия, забалтываясь, принялась укорять меня за невоспитанность, за корысть; видите ли, я посамовольничала, чествуя молодых: совсем пренебрегла святой традицией. И Галина, сущий командор, уже не лебезила передо мной, даже не называла и по имени-отчеству; а тот же Петр Петрович активнее других еще приструнивал меня: «Какая ж ты, тетушка, право, колючая! Не ожидал… Мы-то хотели, чтобы у ребят все было слажено честь-по-чести». И глазом при этом не моргнул. – «Я всегда взаимновежливая, – ответила я ему. – Не утруждаю себя злом. Я ссорюсь крупно раз в жизни». Выдержала я их наскоки необоснованные. Но после, когда они отлипли от меня, сильнейшая досада взяла меня – я впервые заплакала горючими слезами. Расхлипалась, как девчонка малая, – никак не уймусь. Где-то, где-то успокоилась.
Когда же все, наевшись и напившись, разбрелись по углам, у меня еще состоялся короткий разговор с Саней; он вдруг, как сидел, упал головой на руки, лежащие на столе, и громко, безутешно зарыдал. Он так несчастно, убито плакал, как не плакал никогда еще, ни при каких обстоятельствах. И все твердил бессвязно: «Прости меня, мама, ну, прости… Я такой несчастный… обманутый». И это совсем повергло меня в смятение.
А на следующий день, когда я стряпала завтрак для пробуждающихся гостей, Саня, чужой и ровно побитый, зашел на кухню. Он ходил еще картинно, ровно любуясь все время собой. Он этак отчужденно молвил мне: «Мама, ночью я, пьяный, кажись, наговорил тебе чего-то лишнего: так ты забудь просто. Я протрезвел уже». Я с укоризной поглядела не него: «Вот именно, сынок, ты мне ничего такого и не наговорил, – больно скрытничать стал; если б ты откровенен был со мною, как, бывало, прежде не таился, то много б лучше было для тебя и для меня. Ну, что ж, сынок, ты тут весь – только руки развести…» Он молчал, потупясь. «Все же, дети, знаете прекрасно о моих материнских чувствах к вам – и так гоните их беспричинно». Он еще холоднее нахмурился. И вконец отвернулся от меня. Да какие золотые сыновья были раньше, до женитьбы, мы всегда сообща обсуждали все на семейном совете нашем, а теперь они начисто в себя ушли, как в раковину спрятались. И захлопнули створки. Оттуда их никак уже не выудить. Ничем.
Сейчас я отлично понимаю, отчего люди дерутся, спиваются. Представляю себе… Поэтому и не случайно Милочка призналась мне, что Саня может спиться в Крыму. Парень совестливый. У него же сердце золотое, чувствительное. И она, видимо, заранее пугалась того, что едва он узнает всю правду о ней до конца, – он станет заливать свое горе. Причем, она будто хвасталась передо мной собою: вот попробуйте-ка раскусить меня! И так выдавала себя с головой. Иначе – с чего предполагать худое? С его стороны ни повода и ни намека никакого не было.
XXXI
Уже затемнело в купе. Однако, слушая рассказ Нины Федоровны, торопившейся довысказать свою горькую историю, никто свет не зажигал с всеобщего молчаливого согласия. Она говорила:
– Позднее все жильцы нашего дома подробно обрисовали мне, что за птица моя невестка; все кругом доподлинно знали, какого она полета, только не я, свекровь. Доброжелатели мне сказали, что все три месяца подряд – с января к Миле шастал симферопольский ее знакомый. Он и ночевал у нее перед тем, как Сане познакомиться с ней. От него-то она и прижила ребенка, забеременела. А я и не знала, хотя все кругом смеялись над Саней втихомолку, оттого что она его облапошила запросто. Но я все еще не хотела поверить чему-то плохому, потому что хотела другого – благополучия сыну. И почему-то еще верила, надеялась на лучшее. И Саня мне твердил сметливо, когда я с ним пыталась по душам разговаривать – вызвать его на откровенный разговор: «Все у меня в порядке, мама». Тогда я на все наветы – пересуды решительно ставила крест, покуда сама в чем-то не убедилась досконально; я отвечала доброхотам: «А мы разбираться в сердечных делах сына не хотим. Значит, существует обоюдное согласие у молодых».
Между тем припоминала: Мила до знакомства с Саней хвостом туда-сюда крутила, и тот ее приживальщик, должно быть, потому и бросил ее – не стал к ней ходить. С тем-то – извини уж, подвинься – ничего у ней не сладилось. Он полакомился – и след его простыл. И когда он неожиданно заявлялся к ней, она принимала у себя еще кого-то из мужчин. Бывало, он поднимается к ее квартире, звонит-звонит ей, и она, изменяя свой голос, как артистка (я иногда слышала: это – лестницей выше, а стены очень же тонкие, звукопроводящие) отвечает ему из-за двери, что Милы дома нет. И Саню моего та же участь ожидала и потом постигла.
Быстренько ж она его окрутила, приласкала, приворожила, притянула к себе. Чем? Она же моментально заимела власть над ним, причем заимела совершенно шутя; и продолжая относиться к нему свысока, с иронией. Сказывалось превосходство ее возраста, ее ума, ее изворотливости. Вот он ходит – сам не свой. Скажет только: «Мама, я пойду…» – И мнется. Я скажу сурово: «Ну, иди, иди скорей!..» Стала как колдунья какая: что бы ни подумала о нем, что бы ни сказала ему – все по-моему выходит, как ни кинь. Я крепилась. Только раз взорвалась, прикрикнула на него: «Куда тебя лихорадка на ночь глядя несет?! Думаешь: там тебя ждут? Ну, отправляйся! Не держу»! Я знала: так и есть, навострился опять к ней. А дом, говорю, ведь современный. Стены тонки, что барабанные перепонки, лишь усиливают звук… Итак, я отлично слышала, как она, Милочка разыгрывала свою комедию с Саней. Значит, едва я отпускала его, он как оголтелый несся от нас туда, наверх. Там звонил к ней. Безрезультатно. Я маялась, терзалась – и ничего поделать не могла. Тут я или шитьем займусь. Или посуду переставляю, вторично перетру – чтобы заглушить в себе терзанье.
За короткое время он неузнаваемо изменился к худшему. Начисто забросил любимое плавание и баскетбол. Увлекся Милочкой одной.
Да, видимо, попробовал – понравилось… А парень молодой, горячий, ладный. Итак, Мила поймала его. Увидели мы: она кругом огрызочек. Тем не менее, ему уже не позволяла честность бросить свою невинную девочку.
XXXII
– Потом одна моя приятельница призналась мне: «А знаешь, Ниночка, я во время их свадьбы, обратила внимание на то, что Мила сказала своей матери: «Слышишь, мама, мне теперь можно есть и рыбу в маринаде». Что, разве уж ждется у них ребенок»? – спросила она у меня.
«Какой же ребенок! Я что-то тебя не пойму…» – меня чуть удар не хватил. Рассудок мой помутился от ужасной догадки. Следовательно, Мила была в сговоре с матушкой – сообщницей по злу? Выходит, они из одного теста замешаны? И своей подружке Миля как-то хвасталась, что она подцепила такого отличного парня, каких раз-два в округе. О, боже! – вздохнула Нина Федоровна. – И теперь уже все, кто знал ее неплохо, даже часть ее родственников, говорят, не таясь, что хоть давай подпишемся под тем, что это очень дурной, очень бесчестный, очень развращенный уже человек. Да не зря же свои родные в конце-концов выгнали ее, не стали у себя, или при себе, держать. И она, унизила Саню тем, что окунула его тоже в разврат, сравняла с собой. А он был не очень-то сведущий в любовных науках, как, водится, и все здоровые парни, которые любят гонять мячи. Что ж, и поплатился… А я ведь предупреждала его остерегающе: «Смотри! Запоешь потом Лазаря». Меня-то, матери, он не послушался из гордости. Теперь и этот также стирает ее белье. На что это похоже!
Оттого-то, как я позже поняла, она и потащила Саню в Керчь – умчалась подальше от нас, покуда ее тайна ему не открылась. Ларчик просто открывался.
Это было, когда я в больнице лежала. Мила явилась прямо в палату ко мне. Неприступна, непреклонна. Словно провинилась я в чем-то перед ней. Заявила с ходу мне: «Знаете, мы с Сашей решили переехать вместе в Керчь». – «Что, насовсем»? – «Да, насовсем». – «Отчего же здесь вам не живется»? – «Да так…» – «Когда ж в отъезд»? – «Завтра». Я переполошилась. Саня же только что устроился на работу. Расчет берет?! Я-то сдуру думала, что глупо резать курицу, которая несет яйца. После свадьбы образовались долги. Сами понимаете… Хотела приструнить ее: «Надо же соображать когда-нибудь маленько». Но видела, что это не дойдет до нее: молодежь всегда норовит сказать и сделать что-нибудь обязательно вопреки. И лишь сказала невестке: «Что ж, если вы решили ехать, я приду вас проводить». И быстренько из больницы выписалась.
Нет, вы поймите меня: уж если Сане стало плохо после женитьбы, значит ему всюду будет плохо с женой. Мила по себе должна бы это знать, как практичная женщина. Однако она еще вздумала напоследок упрекать меня за то, что я, якобы вмешалась, повлияла на сына неправильно и что поэтому он переменился – охладел в своей любви к ней. Потому-де она и хочет изолировать его от моего отрицательного влияния. Ну, вы подумайте только!.. Фальшь на фальшь… громоздила…
Выписавшись из больницы недолеченной, я заспешила на подмогу в невесткину квартиру. И застала Милу в фартучке, растрепанную, в мыле всю, – умнее ничего она не могла придумать, как затеять предотъездную стирку накопленного вороха грязного белья. Ну, хозяюшка! Раньше никак не нашла для этого более подходящего времени… А стирала так: бело-не-бело, а в воде побыло, да и ладно. А как что – совет ей подашь или сделаешь замечание, так пробурчит что-нибудь, глаза в землю упрет. И теперь она проворчала: «Ну, начинается». «Нет, продолжается, – поправила я ее. – Всю жизнь это будет продолжаться»! – «Ну, спасибо»! – «Пожалуйста»!. Конечно же я засучила рукава да и взялась за стирку. Хорошо еще, что лето – все белье успело пересохнуть. Гладил же сам благоверный папа – я позвала его.
А Милины родичи – в обычном своем стиле. Они палец о палец не ударили. Даже хуже. Пришла ее приехавшая матушка-хохлушка; пришла, расселась, чтоб мешать. Сидит да еще подсмеивает нас; шпильки в бок подпускает: ишь как хорошо все получается у вас, сам тесть утюжит, хотя бы и мне по дому помогли. С такой все они закваской. Никто из них не обезживотится на работе.
Вижу, Саня мой отводит от меня глаза. Совестится.
«Да деньги-то есть у вас? – справилась я у него. «Нет, мама, мне не нужно больше ничего», – быстро сказал он через силу. А у самого ни копейки не звенело в кармане. Женушка его сбила, с места сорвала; его не рассчитали даже на работе – не успели. Потом расчет ему сделали (после его отъезда) – такой, что он остался должен производству семьдесят рублей, а не то, что что-то получить самому на руки. Говорят мне там, в железной бухгалтерии, что все до Сани уже было в запущенном состоянии и что в этом повинны прежние работники, но поскольку он приемку имущества делал, не проверив ничего, и уехал без разрешения, постольку и вычтем с него все, что причитается, и еще суд заведем на него. Вот во что выливается женино легкомыслие. Я сказала, что не позволю судить сына. Начет я заплачу. А будущее сына портить не позволю.
Наскребла я Сане побольше сотенки: ведь сердце у меня-то не на месте. Пришли мы на вокзал. Стоит он, провинившаяся голова, уткнулся взглядом в землю, в ногтях ковыряет. Худущий – как арестант. И чем он сыт – я сама не знаю. Ты, что окаменел? Молчит. Даю ему деньги: «На, возьми, сыночек». Поморщился. Мотает головой: «Нет, не нужно, мама». Ну, думаю: я не по тому адресу обратилась, Миле говорю: «У вас денег нет – возьмите вот». Она даже и не дослушала меня. Чуть ли не с рукой отхватила у меня протянутые деньги. В кошелек свой сразу их впихнула – и пошла себе вихляющей походочкой.
Мне затем аж дурно сделалось от своего великодушного поступка, я вся раздумалась-разнервничалась: и зачем же именно ей их преподнесла? В честь чего-то? За прелестные ее глазки? Ведь я твердо знала, что Саня ни при чем окажется. А достанется все ей. На этот счет она ухватиста. Известно: хищница!
Потом меня даже винили мои недоброжелатели – ее родичи, не простившие мне свадьбы. Потаковщица ты, говорили они мне.
Вообще-то дура я. Дура по самые уши. Ну, молодость не без глупости, старость не без дурости.
Заплакал Саня, как он убито плакал тогда ночью, но ничего мне не сказал опять. И так уехал. Без отметки в паспорте: даже и с учета не снялся. Не успел.
Мила прекрасно знала, что делала. Рыбак удит – рыбка будет. Боже, что я позже узнала! Ни слуху, ни духу от них долго не было. Я все ждала, терпеливо и нетерпеливо слала ему письма, телеграммы. Что случилось? Безуспешно. Но не прошло и полгода – Саня мой пишет мне, что извини за то, что не писали – руки не доходили и все прочее, и что Мила родила сына. Вот тебе на! В апреле они впервые познакомились, а в октябре она уже родила. Вот когда я, старая, поняла значение многого, что было для меня подозрительно, но не настолько, чтобы не верить людям, не настолько, чтобы я что-нибудь заметила и придала этому какое-либо значение. Подымались иногда в моем мозгу смутные подозрения. Однако только теперь открылись у меня глаза на то, что было подмечено мной раньше, будто вне всякой связи с чем-то очевидным.
XXXIII
– В семье я все же вынужденно верховодила. И сколь умела и сумела по-бабьи отстаивала интересы (глаза страшились, а руки делали) нашего общего гнезда и родных птенцов, вылетавших из него, но еще не научившихся летать по-настоящему. Когда выпорхнул и средний, вся и тонкая, деликатная переписка с ним, непослушным блудным сыном, осуществлялась у нас также через меня. Я искала нужные слова. И когда он, честный, верный Саня, совсем обычно, с невосторженностью, написал мне о рождении у них, вернее, у Милы, сына, я немедля ответила ему, что пусть он серчает на меня, свою мать, но быть бабушкой столь странного внука я не хочу. – Нина Федоровна помолчала в волнении и заговорила уже усталее и тише. – Я не против, писала ему, стать бабушкой – таков непреложный закон жизни; но это дитя, понятно нам, – все-таки не мой внук, коли и не является его сыном.
Вы знаете, я точно б не противилась и тут, если б хотя Саня любил Милу, как любимую жену, и если б хотя она одна его любила бесподобно. А то ведь они оба нелюбимы взаимно. Каково-то!
После такой гневной моей отповеди Саня не писал мне долго – то ли устыдился, то ли очень обиделся на меня. И, представьте, головушку мою уже начали терзать угрызения совести. Ругала я саму себя: выходит, плохо, что я воспитала в детях мужскую порядочность. Совестливость, честность, – то, что, пожалуй, и сгубило их так и что, как теперь выяснилось, уже не так-то и нужно в жизни реальной их спутницам. Да разве не так? Саня не мог по характеру оставить даже нелюбимую женщину лишь потому, что она ждала ребенка! Круг замкнулся, и я не в силах разомкнуть его, сколько бы ни билась; мои представления о добре, о достоинстве противоречат тому, что происходит в самой действительности, с чем сталкиваются молодые люди. В обществе, в сознании людей изменилось само отношение ко многим вещам и понятиям. Жируют проныры, изворотливые и беспечные люди. Ведь мое и их, сынов, несчастье в благовоспитанности, никому ненужной. И я недовольна: оказалась у Монблана неразрешимых проблем. За это же упрекал меня муж: мы сами виноваты, что вырастили их телятами. И для того, чтобы разомкнуть этот круг, нужно, верно, прожить наново другую жизнь. Да, если б они были счастливы! – не знаю, что б я сделала ради этого. Если б нужно было отдать за них сердце, – отдала б его хоть сейчас, нисколько не колеблясь. Все это все равно в одно прекрасное время отметается прочь: когда человек умирает, все его социальные и биологические огрехи уходят в неведомое… Ничего уже не нужно.
По мере того, как Нина Федоровна рассказывала обо всем, что ее мучило, складывалось впечатление, что она не просто жаловалась на кого-то: ее дети выросли воспитанными и порядочными людьми, но совсем непрактичными в жизни, что и огорчало ее в высшей степени. Она почти нигде не работала, изо дня в день возилась с ними, их пестуя; не вовлекала их в рабочую среду, не научила их необходимой жизненной стойкости, противозащите от обмана, и поэтому теперь страдала. Для нее трагедия была – узнать, что дело, на которое она потратила всю жизнь свою, провалилось столь нелепо, глупо, бессмысленно.
Антон спросил у нее:
– И вы всерьез считаете, что смогли бы расстроить их брак, если бы вы знали до свадьбы все то, что узнали позднее?
– О, если б наперед знать все, что кроется за этим, – насколько Миля бесчестна, неблагодарна. – Она помолчала чуть. – Я-то не вникала… И мысли такой не допускала… А Саня секреты свои сердечные таил от меня, не то, что раньше. А если б он мне открылся в своих сомнениях – и его несчастье, я ручаюсь, было б мной предотвращено.
Кто из них кому что должен, – сочтутся сами! Но оставить все так, как получилось, я все-таки не могу. Я должна теперь помочь сынку, если раньше не смогла – растерялась.
И то: хлоп, присылают мне телеграмму оттуда, из Керчи: «Вышли пятьдесят рублей. Подробности письмом». Телеграмма без подписи. Что еще там у них стряслось? Подождать письмо? А тут еще Тихон подогрел меня: «Покуда будешь ждать, там, может уже…» Обида на Саню уже полностью забыта. Жизнь меня не научила ничему. Мигом побежала я на почту, послала им требуемые деньги. А с почты прихожу домой – в почтовом ящике лежит письмо. От Сани. С нетерпением я вскрыла конверт. Он пишет: «Деньги есть, не нуждаемся в них. Не присылай. Работаю на заводе, зарабатываю неплохо». Что за чертовщина! Немедля кинулась опять на почту, чтобы свои деньги вернуть, а деньги мои уже посланы. Разгневалась я опять на Саню, села, написала ему отповедь. Сколько ж можно мать доить? Правда, это все проделки Милы, но он же хозяин в доме! Или – не хозяин?
Помню, перед их отъездом, я заикнулась Сане о том, что смогла бы что-нибудь из вещей купить для него, то какой длинный список составил он. С перечислением в нем даже платков носовых. До чего же они обмазурились в своем стремлении пожить на халяву за счет нас, родителей!
XXXIV
– И что за существо такое человек? – усталая, она блеснула темными глазами. – На себя да в себя – и все. В соприкосновении с миром лопается, как пузырь, его человеческая гуманность, воспитанность, благоразумие. Ненасытное потребительство прет из нас, и ничто-ничто уже не может остановить его разрушительной силы. И свидетель происходящего – ребенок – разве будет в дальнейшем, ставши взрослым, будет хозяином рачительным? Очень сомнительно. Здесь он видит стихию – уроки ограбления и самого себя. Все идет на потребу публики.
– Синус, косинус, секанс, – проговорила Люба, пользуясь передышкой Нины Федоровны, – так мальчишки примерно подразделяли меж собой девчонок нашего класса по их характерам, или качествам, когда обучение в школах ввели совместным. Секанс – это были, по их представлениям мы – самые последние. Оттого как мальчишки разговаривали с учителями, как вели себя в школе, – ужас стоял в глазах девочек. Но за три года совместного обучения и тихони-девочки развинтились донельзя и уже ничуть не ужасались на самих себя.
– Умом рехнуться можно… Мол, жизнь не удалась… Эта молодуха посуду перебила, хочет ночью мужа зарубить, а этот муж хочет изменить, развестись и заиметь жену получше матери родной. И всего-то! Ух! И нечего попить у нас. А я очень хочу пить: во рту у меня все пересохло, – скользнула Нина Федоровна взглядом по столику.
– Вот возьмите! – протянула ей Люба бутылку. Нина Федоровна поблагодарила, налила воды в стакан и отпила ее немного. И продолжала:
– Я самой-то себе говорила и говорю всякий раз: «Ну, не буду мешать никому». А душа-то моя ноет-изнывает, – слышался жалующийся голос. – Нынче я – как в оцепенении – все, что затеваю, делаю, – все валится у меня из рук. Давит грудь одна и та же тяжкая драма, как подумаю о сыновьях, в особенности – о Сане. Сказывают: «Лучше мальчишечкой плохоньким родиться, чем хорошенькой девочкой». И я такого же мнения придерживалась. Но вот я вырастила их, сынков, воспитала, считаю, должным образом, и каково же! Провалили ангелы мои по всем статьям. Первое жизненное препятствие не взяли самостоятельно, по-настоящему. Вертихвостки обвели их шутя. О! До чего же ты, жизнь тяжела, безрадостна! Вся моя душа горит, хоть и трясет меня всю, как от холода. – Она опять зябко передернула плечами. – Может, я излишне опекала их и берегла? Или потому, что в военных училищах готовили из них лишь оруженосцев?
В одну из моих беременностей врач велел мне гулять с ребенком почаще – даже и когда бревна будут падать с неба. Вот. Прогулки только на пользу ему пойдут. Да для чего же, спрашивается, я недосыпала, отказывалась от всего, ходила, что тень, бесконечно таскала коляски, болела, гробила свое здоровье, – чтобы затем пришли выдры на готовенькое, заграбастали сыновей моих и чтобы все у них пошло не по-божески, не по-честному, а по-чертовски?
Помню, Ольга, моя знакомая, гуляя с Машей, второй дочерью, как и я с Саней, говорила мне: «Моей Машеньке еще два месяца от роду, а я уже люто ненавижу того мужчину, кого она потом приведет в мужья себе – какой-нибудь комль необструганный, пьянь непробиваемую». А другая знакомая, моя тезка, оравшая при родах благим матом: «Чтоб я еще кого родила! Чтоб я еще родила – тьфу!», уже ревновала к сынку своему будущих невест. И я еще удивлялась: как можно настолько сходить с ума? Однако, выросши, эти их дочь и сын семьями обзавелись надежно, крепко, и матери не ревнуют к ним кого-то. А я вот мучаюсь за своих голубков, ревную к ним их жен. Сумасшедшая!..
О, есть на свете и счастливые женщины; они за мужем, как за боженькой живут, не нарадуются. Светятся их лица. Это – психически уравновешенные женщины, удовлетворенные жизнью. А мне, я говорю, нельзя похвастаться этим, хоть и не в пример другим семьям живем мы вместе с мужем долго и он не изменял мне ни с кем, не пьянствовал и не хамил, и не погиб в войну. Просто он – не советчик мне в жизни; ничего не замечает, кроме своей службы. Спросит: «Что, опять болит сердце, да»? Когда сделать что-нибудь, что помогло бы мне, он бессилен. «Да, когда ничего ты не можешь, то сказать «да?» тоже вроде бы чего-то стоит», – отвечала я чаще, съязвив. Ну, обидится на меня. И подруг-то у меня не было и нет – подруг настоящих, неподдельных, коим можно б было все выложить, как на духу: я ж вела сколько кочевой образ жизни! Даже поделиться мне моим горем не с кем. Поддержкой заручиться не у кого, – спокойно-трагически звучал ее голос. – Потому и молчала я исступленно, стиснув зубы. Потому опять начала курить ужасно. А некоторые женщины аж сторонились меня, как чумной. Ведь я могу резко высказать любой и любому в глаза всю правду: не умею лебезить ни перед кем. Да и, по-совести сказать, вряд ли кто способен посоветовать тебе что-то дельное. У нас люди чаще всего хотят быть прокурорами, чтобы осуждать; когда нужно разобраться в чем-то толково, по-чести, существа дела не видно – оно тонет в, так называемых, привходящих обстоятельствах. Тебя пырнут ножом в подворотне, а ты еще должен посмотреть, какой длины нож у бандюги, смертельна ли будет рана от него, а потом уж защищаться с умением, чтобы – боже упаси! – не ухлопать живодера.
Этой ночью во сне я снова видела собственные похороны – лошадей и помпоны и то, как меня везли на кладбище. И что самое интересное – мне, лежащей в гробу, хотелось подслушать, что же говорили обо мне в толпе провожавших меня. Курьез с мозговым устоем!.. Свихнулась ли я?
Религиозное предание толкует: если женщина хоть раз в жизни стриглась – она целую вечность будет искать свои косы. Вот и я ищу их по сю пору. Почему же я, неверующая и не суеверная, клоню к тому? Такое чувство засело в душе моей: будто я кому-то недодала что-то, кому-то отказала в чем-то. В результате и сама чувствительно наказана, чем-то обделена. Торопилась я теперь в Москве, и посреди улицы одна странница испросила у меня немного денег; она, наверно, очень нуждалась в них. У меня же с собой была одна десятка неразменная; потому я, еще спеша куда-то, отказала той в помощи. И гражданка сурово сказала мне: «Ну, бог с Вами! Идите»! Неприятный осадок – из-за того, что могла бы, но не сумела ей помочь, и сейчас горчит, мучает меня. Наравне с тем, что в трудную минуту я оплошала с советами и для сыновей своих – не подсказала и не сделала чего-то дельного, исключительного. Каюсь…
ХХХV
– Да с Леней я вполсердца уже обтерпелась, – говорила Нина Федоровна, – чего уж! Сын растет – собственный! Леня привязан к нему по-отцовски. И я с внуком много вожусь. Поэтому и решилась на поездку к Сане – снова попробовать помочь этому неприкаянному… Муж не отговаривал меня от задуманной затеи: «Да, съезди к нашей родинке»… Но для этого нужны деньги немалые. А у нас – шаром покати. Насчет их. Взять неоткуда. И тогда без спросу у супруга я направилась к моему двоюродному брату – своему бывшему покровителю. Когда-то он был для меня таким богом!.. Наши родители рано умерли, и мы с ним вместе потом росли. Он на семь лет старше меня. Я уже и заневестилась – а он по старшинству все покровительствовал мне и был очень недоволен моей резвой младшестью. Исправлял, так сказать, мои пороки. Страшно не любил, если я своевольничала – делала что-либо важное или вовсе незначительное – пустяковое без всякого согласования с ним, не посоветовавшись. Такой у него был характер – командовать, указывать, распоряжаться.
Например, как увидит он, с каким парнем я хожу, назавтра же о нем все выведает-разузнает у кого-нибудь, и если услышит что доброе, то и скажет мне, довольный: «Этот твой малец хороший, порядочный. Дружить с ним можно». А если обратное узнает – тотчас запрещает мне: «Не смей встречаться с ним больше, назначать ему свидания!» Я возмущусь его непрошенным вмешательством в мои личные дела: «Почему? Скажи на милость?» «Я говорю тебе, не смей, и баста!» – повышал он строже голос. И я невольно подчинялась ему. Он был авторитетом для меня.
Помню, он уехал куда-то надолго, а тут подоспел школьный бал. Мне страшно захотелось попасть на него в чем-нибудь нарядном, потанцевать; собственноручно я заказала себе бальное платье с белой розочкой на груди, все как полагается. Рада-радешенька. А наутро – я еще не проспалась после бала как следует – заявился домой мой неподкупный наставник. И сразу, суровый, взял меня в оборот: «Ты что же натворила, не спросясь у меня?!» «А что, Сашенька?» – испугалась я: даже голос у меня осекся. «На, смотри, голубушка! Любуйся! – показал он мне на свет мое новенькое платье. – Ты смотри сюда получше!» А оно-то, кружевное, тонкое, все точно прожженное; кружева иссечены. Выходит-то, надули меня, дуру доверчивую и еще неопытную. Сгреб он это мое платье, дернул меня за руку: «Ну, пошли со мной!» «Куда?» – Я, известно, ударилась в слезы. «Не хнычь!» – говорит. – «Пойдем, перезакажем». В ателье он вдребезги изругался с мастерами-портными, возвратил им испорченное платье. И новое – взамен возвращенному – вытребовал.