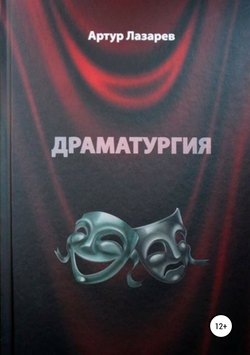Читать книгу Драматургия - Артур Олегович Лазарев - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеАртур Лазарев
ДРАМАТУРГИЯ
ББК 84(2)
УДК 82
Л 171
Хочу поблагодарить за многолетнюю поддержку, а также помощь в издании этой книги коллектив Центральной библиотеки им. Ахматовой г. Домодедово, а также коллектив СВГБ г. Москва. В своих предыдущих книгах я имел привычку подробно перечислять всех тех замечательных людей, с которыми свела меня судьба, которые каким-то образом на меня повлияли. К сожалению, время не стоит на месте, и многие из этого списка уже растворились в Вечности. Так или иначе, я продолжаю всех помнить и эта книга в какой-то степени мой дар этой памяти.
Автор.
ISBN 978-5-9933-0100-6
© А.О. Лазарев, 2018
© Оформление vasizdast.ru, 2018
ОЧЕРКИ И ЭССЕ
Навстречу себе
Благодаря развитию науки в целом и астрономии в частности, благодаря тем знаниям, которыми обладает человечество, мы можем сегодня при помощи научно-познавательных передач, космических съёмок или даже собственного воображения воспарить над нашей планетой и устремиться от неё прочь во Вселенной. Таким образом мы последовательно окинем взглядом Солнечную систему, Млечный Путь, Местную группу галактик, Сверхскопление Девы, Ланиакею, Космическую паутину… Забравшись в своём сознании так далеко от родного дома, глядя на мир глазами Творца, представляя (и не представляя одновременно) все те чудовищные масштабы окружающего бытия, мы не сможем не задаться в какой-то момент мыслью: «Боже, этот мир настолько велик, что есть ли мне вообще в нём место? И если да, то какое и зачем? Я меньше песчинки в пустыне, я меньше капли воды в океане, мой голос неслышим, а тело неразличимо. Так есть ли вообще во мне хоть какой-то смысл, и кто бы заметил моё присутствие или отсутствие в этой чёрной бездне?» Затем мы вернёмся в свою собственную реальность, переключимся на окружающий мир и забудем обо всех этих переживаниях, ведь жизнь продолжается независимо от того, кто и как себя в ней осознаёт или не осознаёт вообще. Помимо людей, на этом свете живут миллионы зверей, рыб, птиц и насекомых, которые вряд ли заняты ежесекундным поиском своего предназначения. Глядя на них, глядя на деревья и траву, почву и водоёмы, можно прийти к выводу, что разумно устроенная в деталях жизнь тем не менее не имеет никакого общего разума и в целом бесцельна. Или, наоборот, возвысившись над всей этой природой, призвать в свою защиту Творца и вручить ему свои цели и устремления, этику и право, долг и призвание. Или самому почувствовать себя Творцом, которому всё дозволено… История человечества знала всякий подход. Подъём религии и искусства, науки и этики сменялся хаосом и анархией, чтобы однажды всё возродилось вновь в какой-то новой форме. Взамен великих мыслителей приходили тираны, взамен тиранов приходили религиозные фанатики, которых в свою очередь сменяли те же тираны, одетые в платья гуманизма. Я не гожусь в пророки, но мне кажется, что это будет происходить до последнего дня человечества, хотя бы потому, что та бескрайняя Вселенная, которая нас окружает, есть и у каждого внутри. И понять это – сделать первый шаг к осмыслению самого себя, того внутреннего Космоса, что ничем не уступает внешнему.
У людей поверхностных существует расхожее мнение, что химик всю жизнь проводит с колбами и пробирками, патологоанатом изучает трупы в прозекторской, астроном непрерывно глядит в телескоп, а философ, соответственно, постоянно пребывает в размышлениях о жизни и смерти. Другое расхожее мнение заключается в том, что если от первых трёх есть какой-то толк, то увлечение философа изначально бесполезно, ведь это его размышление «обо всём и ни о чём» нигде не применимо и бесперспективно. Оно не может как-то практически повлиять на нашу жизнь, да и вообще это пустая трата времени… Испытывая старую любовь к философии, я часто сталкиваюсь с такими суждениями и каждый раз задумываюсь – так ли это? Разумеется, можно сразу же вспомнить, в противовес таким мнениям, что у истоков европейской цивилизации стояли великие Сократ, Платон и Аристотель, что мировоззрение Средневековья в большей части проистекает из Блаженного Августина, что такие люди как Ницше, Гегель, Маркс, Сартр вообще сотворили Новейшее время и т. д. Но при всём этом всегда будет оставаться вопрос – зачем всё это лично мне, отдельно взятому человеку? Допустим, у меня есть образование, работа, семья, нехитрое хобби, отпуск раз в год. Что даст мне «Критика чистого разума» или теория Ницше о «смерти Бога»? Нужно ли мне это для личного саморазвития или я найду-таки во всём этом какой-то прикладной смысл? Изменит ли меня вся эта непонятная зачастую информация или я могу, как и многие, пройти мимо неё без всяких угрызений совести?
В который раз задумываясь об этом, я возвращаюсь в памяти к своему детству и вижу худого сутулого ребёнка, который смотрит в окно на будни Зазеркалья. Там, в этом Зазеркалье, бьёт ключом жизнь: сменяют друг друга идентичные спины прохожих, шумит листва, одинокая пчела перелетает с места на место, лениво плывут облака… Но худой сутулый ребёнок уже понимает, что через эту призму он видит лишь внешнюю обёртку мира, но не видит чего-то более важного, того, к чему он будет приходить всю свою жизнь. Он пытается разглядеть себя в этом Зазеркалье, но видит лишь собственную тень, появляющуюся то там, то здесь… И он разочарованно отворачивается от окна и идёт читать книги, предпочитая делать то, что ему действительно интересно. Затем он вырастет и станет писать книги чаще, чем читать, но он ещё этого не знает. Другое дело, что он просто многое хочет знать и у него с каждым днём накапливается всё больше вопросов.
Наверное, я, как и все, когда-то спрашивал у первого встречного, почему трава зелёная, а Земля круглая, где границы Космоса и отчего люди умирают. Я просто не помню таких своих вопросов. Зато я точно помню вопрос «зачем?», который посещал меня по поводу и без, начиная от мысли «зачем я родился?» и кончая мыслью «зачем завтра просыпаться?». Наверное, мне и правда тогда было плевать на зелень травы, я воспринимал её, как и всё вокруг меня, – как данность. Такой же данностью были царившие вокруг серость и нищета, перемены погоды, телевизионные новости по вечерам, будущие походы в школу, первые друзья и враги. Всё это было где-то снаружи моей личной вселенной, а, следовательно, было малоинтересным. Куда интереснее было копаться в себе, в дебрях непоседливого разума, осознавая степень сопричастности с этим странным миром, в который меня кто-то забросил по глупой прихоти. Поэтому я тогда уже предпочитал слушать, а не разговаривать, читать, а не развлекаться, словно надеясь почерпнуть где-то некую важную информацию о том, что всё расставит по полкам. Разве что тогда всё это было неосознанно.
Моё самообразование не пропадало даром, через какое-то время я понял, что, если даже на свете нет никого, кто ответит на все вопросы бытия, то есть немало людей, которые задаются этими вопросами или задавались ими в прошлом. Для меня это понимание было, пожалуй, важнейшим актом сопричастности с этим миром, наряду с удивлением от искусства. Вообще, осознавать, что ты не один такой во вселенной, – почти такой же волнительный процесс, как осознавать обратное. Просто в первом случае получаешь больше позитивных эмоций, хотя бы в силу того, что многие вещи уже не кажутся такими монолитными и непреодолимыми. Ведь начать обсуждать проблему – это уже первый шаг к её решению, а что может быть большей проблемой, чем осмысление своего собственного бытия? Чем осознавание и идентификация той части самого себя, что и делает человека личностью? Как говорил Эрих Фромм: «Человек – это единственное животное, для которого собственное существование является проблемой».
…Наверное, это вопрос склада ума: выискивать на ровном месте камни, о которые споткнёшься. Я помню своих сверстников той поры, они с утра до ночи пропадали на футбольных полях, стройках и чердаках, то есть везде, где не было взрослых. Они хотели свободы, и, получая её, они весьма бессмысленно ей распоряжались. Просто они были нормальными детьми, которые получили своё счастливое детство. Внешне я мало от них отличался, но, помимо свободы физической, мне хотелось ещё и свободы мышления или хотя бы размышления, а это было возможно только в диалоге с теми, кто уже как минимум ступил на этот путь… Но люди чаще всего озадачены весьма примитивными вещами, такими как политика, садоводство, налоги, спорт, болезни или погода. Им попросту неинтересны и непонятны вопросы социологии, психологии, философии. Их отталкивают абстрактные нематериальные вещи, потому что эти вещи не сделают их богаче или счастливее. Они если и задаются глобальными вопросами, то лишь тогда, когда у них уже готовы ответы, которые чаще всего попросту примитивны и не имеют никакого отношения к реальности. Так, к примеру, в Средневековье во всех бедах винили колдунов или евреев, а в наши дни – мировое правительство и чей-то коварный заговор. Но хотя эти обывательские стереотипы и весьма удобны для уютного существования в своей скорлупе, они не решают никаких проблем, а лишь укореняют их. Человеку вообще свойственно стремиться к упрощению всего и вся, к постоянной классификации и упорядочению окружающего мира, что затем порождает стереотипное одноуровневое мышление. Навешивая ярлыки на людей и предметы, на явления и проявления, мы освобождаем себя от труда реального познавания и сопереживания, а, следовательно, снимаем с себя всякую ответственность. В политике это зачастую заканчивается укоренением идеологизма и концлагерями, а на бытовом уровне – пренебрежением к окружающим и замыканием в себе. Причём это свойственно даже весьма образованным и неглупым людям, которые, проделав довольно небольшой путь саморазвития, считают, что у них есть теперь законченная картина бытия и они вправе судить обо всём на свете. Воистину более всего опасны те, кто вооружён полузнанием и полуправдой… Моя любовь к философии всегда происходила ещё и оттого, что в этой самой философии нет и не может быть никакого законченного восприятия мира, а есть, напротив, бесконечный процесс погружения, который обречён длиться с начала времён до самого их конца. И если прикладная наука занята природой и вообще всем внешним, то должен же кто-то брать на себя труд вглядываться во внутреннее, человеческое.
Здесь стоит впервые упомянуть термин «экзистенциализм» – ключевое слово всех этих размышлений, вот уже много лет олицетворяющее любимые игры моего разума. Я вряд ли сейчас вспомню, с какого момента это слово впервые появилось в моей жизни, возможно, после прочтения «Стены» Сартра или «Постороннего» Камю, – неважно. Куда важнее для меня было то, что теперь я имел точку опоры, вымышленный некогда моим подсознанием дом, в котором я всегда свой. История философии – это история тысячи рек, впадающих в одно море Познания, но это море иллюзорно и абстрактно, ведь оно не претендует ни на правду, ни на истину. Ещё Сократу приписываются слова «я знаю, что ничего не знаю», и, если философии был бы необходим девиз, то я выбрал бы этот. Подобный девиз было бы странно услышать от физика или историка, но тем и притягательна философия, что основные сферы её изучения чаще всего лежат (как и религия) вне рациональной плоскости. Ещё архаичные цивилизации задавались вопросами о предназначении человека, о его месте в этом мире, о его разуме и душе. В каждой эпохе и в каждой точке земного шара находились свои мыслители, которые брали на себя труд и ответственность на эти вопросы отвечать, многие из них даже выстраивали собственные системы мировоззрения. Однако при ближайшем рассмотрении эти системы чаще всего или акцентируются на внешних вопросах бытия и для Человека там остаётся слишком мало места, или же, напротив, они возводят Человека в некий абсолют. Если первое более было свойственно Античности, то второе – Средневековью… И только в Новейшем времени человек стал по-настоящему интересен философам как личность, тем более что у этого абстрактного человека накопилось немало неразрешимых противоречий, требующих если не ответа, то хотя бы осмысления. Этим осмыслением одним из первых попытался заняться Сёрен Кьеркегор, которого зачастую называют отцом экзистенциализма.
Сама судьба толкала этого удивительного датчанина в объятия созданного им же термина. Будучи человеком набожным, он видел расплату отца за старые грехи против Господа – один за другим тот терял своих детей. Казалось, и самому Сёрену уготована неизбежная мучительная смерть – он и жил в ожидании неё постоянно – но смерть эта немного подзадержалась, отведя философу 42 года жизни. Ничтожный, казалось бы, срок! Но если человек имеет смысл жизни и работоспособность, в этот ничтожный срок он может вложить многие и многие жизни праздных бездельников. Никто не знает, для чего именно жил Сёрен, но труды, которые он нам оставил, говорят о том, что жизнь его была как минимум не бессмысленна и полна тяжёлых раздумий и утрат. Приобретя опыт беспрестанного ожидания смерти (по независящим от себя причинам), Кьеркегор также получил опыт потери любимой женщины, но это уже был его собственный выбор. В Копенгагене долго ломали головы по поводу его резкого разрыва с Региной Ольсен, но жребий уже был брошен – с этого момента Сёрен стал практикующим философом. Одна за другой из-под его пера выходили различные работы, основные из которых – «Или-или», «Страх и трепет», «Философские крохи», «Болезнь к смерти»… В этих работах Кьеркегор на разные мотивы воспевает свою собственную философскую концепцию, в основе которой заложены такие понятия, как Страх, Отчаяние и Абсурд. В свою очередь эти понятия составляют углы пирамиды, на вершине которой Одиночество – одиночество каждого перед Богом. Эта мысль, поставленная во главу угла, сделала всё философское творчество Сёрена воистину масштабным и бесконечным для осмысления, ведь помимо того, что она затрагивает все три основные теолого-философские категории (человек, Бог, бытие), она также добавляет четвёртую – пустоту. Я имею в виду именно ту пустоту, которая находится между Богом и человеком, именно ту пустоту, что окружает каждого из нас в ходе всей жизни и которую мы пытаемся каким угодно образом заполнить. В целом же это вылилось у Кьеркегора в учение о трёх стадиях человеческого существования. С его точки зрения, на первой, эстетической стадии человек живёт одним днём, выбирая себе нескучные занятия и предпочитая красивую обложку содержанию. На второй стадии человек через призму Отчаяния приходит к разуму и долгу, предпочитая ответственность безответственности и делая свой выбор, повинуясь голосу совести. Третья стадия отмечена Абсурдом, ведь человек приходит к абсолютной Вере вопреки разуму. Это, если угодно, путь Петра и Андрея, путь святого. Но это сравнение было бы близко нашему, православному пониманию, а Кьеркегор предпочитал анализировать Ветхий Завет. Там и нашёл он своего «частного мыслителя», которого поставил в противовес всей классической немецкой и даже греческой философии. Я имею в виду Иова. «Вместо того, чтоб обратиться за помощью ко всемирно знаменитому философу или к professor’y publicus ordinarius, мой друг ищет прибежища у частного мыслителя, который знал все, что есть лучшего в мире, но которому потом пришлось уйти от жизни: у Иова, который, сидя на пепле и скребя черепками струпья на своем теле, бросает беглые замечания и намеки. Здесь истина выразится убедительней, чем в греческом симпозионе», – с этой мысли Кьеркегора начинается труд Льва Шестова «Киркегард и экзистенциальная философия». Принято считать, что именно эта книга нашего соотечественника заново переоткрыла Сёрена в Европе, принеся ему не только местную, но и мировую славу. Правда, посмертную. В самом этом факте также можно усмотреть нечто библейское, ведь сами по себе пророки новых идей чаще всего при жизни остаются невостребованными. Лишь потом, когда по их следам идут всё новые толкователи, они обретают заново голос и говорят с нами через этих своих последователей, словно пытаясь донести то, что не успели при жизни. И в этом плане философия, как и всё живое во Вселенной, не умирает, но лишь вечно переливается из одного сосуда в другой.
Так, перебравшийся во Францию Лев Шестов по совету великого немца Гуссерля вдруг открыл для себя на старости лет работы Кьеркегора и был немало ими поражён. Объяснить это можно тем, что Шестов, как и его неожиданный датский «ментор», немало тяготились доминирующей гегелевской философией духа и немецким классицизмом в целом – они предпочитали устремлять взоры к античному Сократу, который прославился тем, что не исповедовал готовые философские принципы и системы, а подталкивал оппонентов к собственному размышлению о них. Второй общей чертой двух философов была крайняя заинтересованность ветхозаветными вопросами отношений Бога и человека, в частности историями Авраама и Иова, которые пронизаны экзистенциализмом насквозь. Углубляясь всё более именно в эту тему, несомненно важнейшую, Шестов и Кьеркегор всеми силами отстаивают иррациональность веры, а через это – и иррациональность всего остального во Вселенной. «Гегелевское «все действительное – разумно» есть, таким образом, вольный перевод спинозовского – nonridere, nonlugere, nequedetestari, sedintelligere (не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать). Пред вечными истинами равно склоняются и тварь, и Творец. Этого положения умозрительная философия ни за что не отдаст и отстаивает его всеми силами», – пишет Шестов. С его и кьеркегоровской точки зрения, как и до этого с точки зрения Паскаля, – Бог Гегеля и ему подобных является Богом философов и учёных, что убивает саму идею Веры. Сам Кьеркегор на примере Авраама рассуждал об этом так: «Если я от всего отрекаюсь – это еще не вера – это только покорность. Это движение я делаю собственными силами. И если я его не делаю, то лишь из трусости и слабости. Но, веруя, я ни от чего не отрекаюсь. Наоборот, через веру я все приобретаю: если у кого есть вера с горчичное зерно, тот может сдвигать горы. Нужно чисто человеческое мужество, чтоб отречься от конечного ради вечного. Но нужно парадоксальное и смиренное мужество, чтобы в силу Абсурда владеть всем конечным. Это и есть мужество веры. Вера не отняла у Авраама его Исаака. Через веру он его получил». Разумеется, такой иррациональный взгляд на ключевые вопросы теологии не мог не привлекать известного иррационалиста Шестова, который, подхватывая клич Кьеркегора «философия началась не с удивления, а с отчаяния», видит главную задачу философии не в успокоении обывательского разума, а, напротив, в его смущении. Любая законченная логическая конструкция философии кажется Шестову изначально неприемлемой, хотя бы в силу того, что она претендует на общее потребление. Но в экзистенциализме общее – уже мёртвое, детерминированное, требующее восстания Личности. Поэтому гегельянцы и им подобные являются идеологическими врагами экзистенциалиста по умолчанию, так как они предлагают концепцию, а, следовательно, системность и самое страшное – стабильность. Да, люди нуждаются в стабильности. Они назначают себе президентов и министров, царей и императоров, римских пап и даже Бога для гарантий какой-то высшей справедливости и хотя бы относительного покоя и гармонии. Но стоит признать, что это и правда убийство в известной степени всех вышеуказанных институтов, ведь в конечной точке это приведёт к миру кукол и зеркал, где одно безжизненное смотрится во второе. Не это ли мы наблюдаем каждый день? Люди заходят в церковь на праздник поставить свечку, потому что так надо. Они ставят её, повторяют пару заученных молитв и с чистой совестью отправляются далее по своим делам, совершив некий будничный акт. Но эта вера механистическая, не требующая никакого шевеления души или накала эмоций. И такая вера есть некая насмешка над страстями Христовыми, тем паче в Гефсиманском саду, где в человеческом отчаянии человеческими устами повторялись слова Господа: «Да минет меня чаша сия». Так же люди иногда ходят на выборы, стачки и митинги, где они то с бюллетенем, то с листовкой в руках определяют, как им кажется, своё будущее. Но если перед ними встанет выбор – умереть за свою идею и принципы или вернуться домой – то они без раздумий выберут второе, потому что цена жизни – это тот предел, за который никому не хочется переступать… Чаще всего и не жизни даже, а просто некоей зоны комфорта, которой человек не в силах поступиться.
Поэтому пример Авраама и сына его Исаака – это не просто победа веры, это победа абсурдизма, победа иррационального. А что же с Иовом? В известной степени он оказывается в той же ситуации отчаяния ввиду открытого давления на него высших сил. В той же степени он должен ощущать бессмысленность или как минимум несправедливость происходящих с ним событий. Имевший некогда всё, теперь Иов нищ, одинок, болен и презираем. Он оказывается один на один со всем миром и с самим собой, дни его уже исчислены, и, видимо, самое время отречься от всего и во всём разувериться. Думаю, каждый человек хотя бы раз в своей жизни пребывал в подобной ситуации, ситуации запредельного отчаяния. В подобном состоянии люди чаще всего ломаются и ещё более топят себя своими переживаниями и поступками. Казалось бы, это относится и к Иову, который сначала принимает всё происходящее с ним стоически, но затем призывает к ответу самого Бога. Тем не менее Иов не сломлен, и не сломлен по причине той же веры, что заставляла Авраама воздеть нож над Исааком. Он продолжает верить в своего Создателя и в создателя своего былого счастья, поэтому он не хулит его по советам жены и не отдаёт ему всё на откуп по советам друзей – он понимает, что в уравнение его жизни, да и всей вселенной вкралась какая-то ошибка, и он хочет узнать об этом от первоисточника, от Бога. И то, что окружающим кажется кощунственным, – для Иова и самого Бога является абсолютно нормальным. Проще говоря, так же как вера Авраама даёт право на смирение, так и вера Иова даёт право на справедливость. Кьеркегор не просто прочувствовал экзистенциальный ужас и абсурдизм двух ветхозаветных ситуаций, но он ещё и уравнял их в известной степени между собой, показал, насколько религиозное переживание может быть разносторонним и тем не менее действенным. Да, в какой-то момент можно подумать, что это абсолютная теология или схоластика, но ведь и Сёрен Кьеркегор – религиозный мыслитель, видевший бытие через призму Божественного начала. Будучи идейным продолжателем Паскаля, он заглянул немного дальше своих знаний и ощущений, чтобы погрузиться в мир, отражающий человеческое и Божественное под не виданными доселе никем углами. И достойным эпилогом жизни Сёрена звучат его собственные слова: «Истина – это не то, что ты знаешь, а то, что ты есть. Истину нельзя знать, в ней можно только быть или не быть». Возможно, это тот самый ответ, которого не дождался префект Иудеи Понтий Пилат.
Религиозный экзистенциализм, как мы видим на примере Льва Шестова и Николая Бердяева, нашёл своё развитие и в России, хотя оба этих философа напрямую к этому течению себя не причисляли. Не причислял себя к этому течению и Фёдор Достоевский, что тем не менее не умаляет его заслуг в данной философии. Вообще творчество Фёдора Михайловича, как и сама его личность, экзистенциальны насквозь, а в экзистенциализме личность чаще всего неотделима от творчества. Так, мы помним, что Достоевский имел опыт того, что К. Ясперс называл пограничной ситуацией – той ситуацией, когда человек оказывается в состоянии сильнейшего стресса, например ввиду неотвратимой смерти или потери чего-то крайне существенного. Эта пограничная ситуация заключалась для Ф. Достоевского в виде наброшенной на шею петли и чудесного спасения благодаря отмене в последний момент смертельного приговора. Естественно, что для любого человека такое событие будет считаться как минимум вторым рождением и вообще переломным моментом всей жизни. Так случилось и с великим русским писателем, ведь таковым он стал именно после данного инцидента. Рефлексия – то, что отличает персонажей Достоевского, – вырастает именно из той снятой с шеи петли, когда будущий писатель, только что смотревший на мир в последний раз, начал смотреть вокруг глазами новорождённого. В такой ситуации для него наверняка не последним был вопрос «зачем?», а именно – зачем я остался на этом свете, чем я отличаюсь от тех, кто его только что покинул, и кто я вообще теперь такой? Этот и все прочие вопросы, которые могут возникнуть в голове условного Лазаря, восставшего из мёртвых, являются вопросами самоидентификации, осмысления себя в той реальности, которая пропитана экзистенциальным абсурдизмом. Не случайно такой же самоидентификацией бредит и известнейший герой Достоевского Родион Раскольников – тварь я дрожащая или право имею? Этот вопрос в будущем даст Сартру пищу для многих размышлений, но в парадигме Достоевского всё предрешено – Раскольников (как и его создатель) находит утешение в Боге. Отсюда можно сделать неутешительный для многих вывод, что тварь дрожащая права не имеет, ведь это противоречит высшему императиву в лице Творца и низшему в лице собственной совести. Ещё один персонаж Достоевского, Иван Карамазов, повторяет душевные переживания Раскольникова, приходя к старой как мир формуле «если бога нет, то всё позволено». Можно вспомнить также и князя Мышкина из романа «Идиот», и прочих персонажей Фёдора Михайловича, рефлексирующих на темы самопознания и внутренней свободы. Этот глубоко религиозный писатель, по примеру Христа, приходит не к тем, кто счастлив и прекрасен, а к им же созданным заблудшим овцам, чтобы с невозмутимостью патологоанатома вскрыть их глубинные пороки и переживания. «Без Бога вы мертвы, и я могу это доказать», – говорит Достоевский каждым своим произведением. Поэтому все его герои – неплохие в общем-то люди – обречены на ад внутри себя, покуда не увидят свет в конце тоннеля и не пойдут ему навстречу… Или же, напротив, не пойдут от него прочь? Ведь и с христианской, и с атеистической точки зрения человек свободен и волен сам выбирать, как и для чего ему жить. То есть, покончив со своей самоидентификацией, приняв себя в той или иной роли, человек выходит на следующий уровень – как распорядиться этой своей ролью. И здесь он вступает в прямые отношения с вопросом свободы. Стремящийся к абсолютной свободе человек рано или поздно освободит себя не только от давления внешнего мира, но и от внутренних надсмотрщиков в виде Бога, совести, морали, этики и т. д. Такой человек скажет: «Я самодостаточен, я могу стать кем пожелаю или оставаться тем, кто я уже есть, – мне не нужны никакие боги и их культы, я сам бог своего бытия, я ограничен лишь временем, но не целями и средствами». Вопрос Раскольникова для такого человека потеряет смысл, ведь нет никакой дрожащей твари и все права в наличии. Эта точка зрения весьма распространена, особенно после философской революции Фридриха Ницше, который считал, что индивид сам вправе соизмерять свою нравственность в зависимости от ситуации. Как раньше шутила советская интеллигенция: «Иногда дать человеку по лицу – это преступление, иногда – это необходимость, а иногда и подвиг». Так вот условный ницшеанец, помимо выбора, давать или нет кому-то по лицу, ещё и самостоятельно делает выбор, как это оценивать, а, следовательно, сознательно отстаивает данный выбор, не отвлекаясь на чьё-то постороннее мнение. Как мы знаем в итоге философия Ницше стала вдохновителем фанатиков Третьего рейха, но на мой взгляд это говорит не о низком уровне данной философии, а о низком духовном уровне её потребителей, которые смогли лишь пройти по верхам и взять только то, что они сами посчитали нужным.
Здесь наступает время атеистического экзистенциализма, ключевыми фигурами которого выступают известные французы: Альбер Камю и Жан-Поль Сартр (стоит, правда, отметить, что атеизм этой школы весьма условен – дело не в том, что кто-то из атеистических экзистенциалистов верит или не верит в Бога, дело в том, что они просто абсолютно под другим углом смотрят на эту проблематику). Оба этих мыслителя не были философами в общем понимании этого слова, они, как и Ф. Достоевский, большинство своих мыслей поместили в литературные труды, будь то пьесы, романы, повести, рассказы. Тем не менее влияние их на европейскую и мировую философию трудно переоценить, ведь и тот, и другой мало того что развили уже имеющиеся наработки экзистенциализма, но и придали им вид относительно законченной системы. С точки зрения А. Камю, для индивида, для личности мир враждебен (продолжение идеи Кьеркегора), мир обессмыслен, а, следовательно, абсурден. «Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме – вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос «зачем?». Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки». Регулярное столкновение с абсурдом ставит перед человеком выбор смирения с абсурдом или бунта против него. Среди категорий взаимодействия с абсурдом Камю рассматривает такие как: принятие, «прыжок веры» и самоубийство. Принять окружающий абсурдизм – это согласиться сосуществовать с ним так, словно ничего и не происходит. «Прыжок веры» подразумевает уход к религиозным догмам в поисках защиты и надежды, что сам Камю не одобрял и считал фактически трусостью. Самоубийство же, по сути, просто отказ играть по каким-либо правилам, отказ от игры вообще, последний экзистенциальный акт. Его французский философ также не одобрял, считая этот акт лишь усилением абсурда. Он считал, что, если в жизни в какой-то момент и нет смысла, то его можно искусственно создать или отыскать. Отдельной строкой нужно выделить понятие «бунта», в рамках которого можно рассматривать всю активную жизнедеятельность индивида. Здесь позиция Камю диалектична: признание бунта как такового в историческом процессе (войны, революции) имеет негативный окрас, а частный бунт, например творчество, оценивается философом более положительно. Но эту мысль следует развернуть более широко: мир абсурден и отчуждён, следовательно, я принесу в него свой смысл и таким образом уже противопоставлю себя этому миру. Индивид Камю, окружённый со всех сторон абсурдным бессмысленным миром, тяготящийся скукой и тоской, а также собственной противоречивостью, имеет тем не менее право на экзистенциальную свободу, ведь он сам – смысл и проявление. Распорядиться этой свободой индивид может как угодно, другое дело, что Камю предупреждает от глупостей, будь то насилие или прочее возвышение себя над другими индивидами. Альбер, выросший в нищете и медленно умирающий от туберкулёза, стоит на гуманистических позициях, его собственный «бунт» интеллектуален, но не репрессивен.
В философии Сартра экзистенциальная свобода также стоит на первых ролях, с его точки зрения человек «осуждён быть свободным». Эта фраза вытекает из той мысли, что индивид не может повлиять лишь на выбор рождения и смерти, а всё, что происходит между этими событиями, – его личный выбор. Сартр считает человека вечным процессом, усилием, которое творит его будущую вариацию. Никто не рождается Гитлером или Ганди, вначале человек есть ничто, которое затем может чем-то стать, но для этого необходим непрерывный труд. Отсюда и известный философский постулат – экзистенция предшествует эссенции, существование предшествует сущности. Быть человеком – это всю жизнь прилагать к этому усилие. Для этого, собственно, и нужна экзистенциальная свобода, ведь её утрата приведёт к обезличиванию, смерти. В современном обществе эта свобода просто необходима, ведь с самых ранних лет до конца жизни индивид окружён агрессивным информационным полем, навязывающим свои стереотипы, принципы и мнения. Эта социализация личности в конечном итоге если не разрушает её, то как минимум детерминирует, лишает своего мнения и собственного будущего. Но сартровский индивид и есть свобода и мнение, а, следовательно, он сам должен отвечать как за своё развитие, так и за все последствия. У Сартра (как и у Камю) мир обессмыслен, чужд и холоден человеку, поэтому внести в него смысл может только свободный выбор, но этот выбор должен быть достоин своего автора и всего общества. Ведь на той же самой Второй мировой войне убивал миллионы людей не лично Адольф Гитлер, а его солдаты, и Сартр не уставал это подчёркивать. Вообще всё его творчество при ближайшем рассмотрении – это культ свободы. В этом нет ничего странного, учитывая, что весь современный экзистенциализм вырос из двух мировых войн, а также бесчисленного количества революций и потрясений.
Уже в конце XIX века становится понятно, что мир на пороге колоссальных изменений: индустриальная революция, закат викторианской эпохи, а также марксизм, фрейдизм, дарвинизм и ницшеанство меняют весь онтологический портрет своего времени. Осмысление происходящего не успевает за переменами, чувство потерянности и страха находит отражение в искусстве, а затем и выливается в конфликт общества и «эпохи переходного времени», оканчивающийся Первой мировой войной и русской революцией (которые логично рассматривать как звенья одной цепи). Если применять к этому событию диалектику Гегеля, то оно не выглядит выходящим за рамки необходимого и вообще кажется весьма объективным, что, разумеется, не оправдывает всех участников этого противостояния. Тем не менее этот шок для всего человечества послужил отправной точкой для выстраивания новой системы отношений для всех субъектов Новейшего времени, будь то государства, общества, индивиды и т. д. Окончание Первой мировой вызвало небывалый позитивный всплеск мирового самосознания, давало колоссальные надежды на будущее. Однако вышеупомянутые философские зёрна, посеянные ещё в XIX веке, взошли именно в это время, разделив общества на классы, расы и прочие равнодушные ко всему человеческому категории. В итоге это вылилось в новый конфликт, унёсший жизни многих десятков миллионов, что влияет на нашу цивилизацию по сей день. Современный экзистенциализм рождался именно в тех горнилах перманентной мировой войны, войны за обезличивание человека. И рождался он как противоядие от этих людоедских нападок на человеческое самосознание. Именно поэтому свобода выбора, приобретённая через максимальный эмоциональный всплеск, через опыт критической ситуации так важна в этой философии и не теряет своей актуальности. Именно это и объединяет Паскаля и Кьеркегора, Бердяева и Шестова, Достоевского и Кафку, Хайдеггера и Ясперса, Сартра и Камю, а также многих и многих прочих мыслителей разных времён. В конце концов, вся история человечества является отражением самоопределения каждого из нас, живущего вчера, сегодня или завтра на этой удивительной планете. Мы не знаем, кто дал нам эту жизнь и кто её рано или поздно заберёт, но мы точно знаем, что творим её сами, и кто бы ни стоял рядом с нами в момент того или иного выбора, что бы ни довлело над нами – в конечном итоге всё зависит только от нас самих. «Никто не заменит меня перед Богом», – говорил Кьеркегор; «Флобер, может, и буржуа, но не каждый буржуа – Флобер», – говорил Сартр. Экзистенциалисты вообще любят яркие запоминающиеся цитаты…
Разумеется, всё вышесказанное является лишь отображением моих собственных взглядов и предпочтений, я вполне допускаю, что ничего из этого не имеет большой практической ценности и вообще мало кому интересно. Но я знаю, что эти размышления являются важной частью моей жизни, а, следовательно, как минимум для одного человека это имеет повседневный смысл. Я также знаю, что я далеко не идеальный человек, и в моей душе, как и во всякой другой, воистину «бездна размером с Бога». Но я искренне пытаюсь её заполнить, и, как мне видится, выбираю для этого не худший материал. Внутри самого себя я всё тот же худой сутулый ребёнок, но этот ребёнок уже не боится абсурдности и отчуждённости бытия, одиночества, смерти или забвения. Он оставил своих чудовищ позади и устремился за новыми смыслами своего существования, понимая, что никто, кроме него, их не придумает.
И это всего лишь выбор, как и любой другой выбор, который мы обречены совершать ежесекундно. Чистить ли зубы, пить чай или кофе, идти ли на работу или сказаться больным и потратить время на чтение, перебраться в другую страну или остаться навеки дома, забыть всех или устремиться к людям… Это всё выбор разной степени сложности, но каждый сам несёт за него ответственность и именно этим и делает свою жизнь – жизнью.
Лимб
Мы все когда-то в далёком детстве сидели у ночного костра в окружении друзей и пляшущих теней, выслушивая леденящие кровь истории про живых мертвецов и прочую чушь. Мы слушали мрачные рассказы древних старух о домовых и ведьмах. Мы читали Лавкрафта, Гоголя и Эдгара По, чтобы прикоснуться к их мистическим и потусторонним мирам. Мы верили в любые сказки, ведь окружающая жизнь была слишком обычной и нудной, а для голодного детского разума она была попросту скучной. Потом мы росли, и по мере нашего взросления страхи и суеверия отходили на второй план, уступая место тягостям той самой серой и скучной жизни… Но как бы мы ни взрослели, как бы ни менялись по ходу лет, нас по старой памяти продолжает страшить темнота вкупе с одиночеством. Нас продолжают пугать кошмарные сны и чья-то смерть, не говоря о своей собственной. Мы по традиции сторонимся чёрных кошек и избегаем числа 13, словно бы это может на что-то повлиять. Кто-то даже всерьёз верит, что его соседка или тёща – ведьма. И дело не в том, что нас не оставляют детские переживания. Нам просто хочется верить, что в этом мире есть что-то ещё, кроме рутинных будней. Какая-то высшая сила, которая самим фактом своего существования может разнообразить этот тесный для любой личности мирок, в котором мы все обречены находиться. Эта сила для кого-то является развлечением, для кого-то объектом исследования, а для кого-то последней надеждой, будь то служители культа, колдуны, целители или гадалки. Но на вершине этой «магической пирамиды» всегда будет находиться Тот, кто является последней инстанцией, Тот, кто сотворил этот мир и Тот, кто однажды его разрушит. Мы зовём его Богом.
Пожалуй, это одна из важнейших философских проблем – Бог создал человека или человек Бога? Так или иначе, стоит признать, что, если бы Бога не было, то вопрос о его «изобретении» всё равно не стоял бы ни перед одним обществом, так как окружающий нас мир всегда был и будет несправедлив, жесток и алогичен, а следовательно нужно дополнить его хоть чем-то, что даёт надежду и вообще последнее прибежище тоскливому разуму. Собственно, наши далёкие предки так и поступали, охотно творя себе богов на все случаи жизни или заимствуя их у соседей. Поэтому не особо удивительно, что во всём мире нет такой территории, которая была бы населена вечными атеистами. Даже самые отсталые и замкнутые в своём развитии племена и народы, которые относительно недавно попали под прицел учёных, имеют свои собственные культы и обряды. Разнообразие этих мировых ликов креационизма так велико, что остаётся лишь поражаться общечеловеческой (или Божественной?) фантазии, столько всего перепробовавшей за несколько тысяч лет. Но ещё более поражает сходство всего этого дела в некоторых ключевых вопросах. Например, трудно найти такой народ или племя, где Бог был бы одиноким создателем и правителем всего окружающего бытия (лично я такого не припомню). Обычно Бог окружён целым пантеоном сущностей, которые в той или иной степени ему прислуживают. Также у Бога всегда или почти всегда есть какие-то антагонисты, которые либо уравновешивают Свет и Тьму, либо попросту восстали на своего Творца, дабы получить свою порцию славы и власти. А ещё нельзя не вспомнить о «самоубийстве Бога» или его пророков, которое частенько фигурирует в самых различных мифах. Про последующее «поедание своего Бога» можно и не упоминать, полагаю, все помнят о таинстве евхаристии. С логической точки зрения, с рациональной точки зрения всё это выглядит полным абсурдом. Однако религия (как область веры, а не познания) всегда иррациональна, поэтому, если поглядеть на неё с другого угла, возможно всё выглядит не так уж и глупо.
У каждого человека свои отношения с Богом. Как говорил герой известного фильма: «Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то и другое недоказуемо». Я родился в Советском Союзе, в том государстве, где атеизм сам был чем-то вроде религии. Я прекрасно помню, как бабушка вешала по разным углам иконы и прочие атрибуты христианства, как дед затем её за это отчитывал. Признаюсь, выслушивать их вечные теологические споры было весьма забавно, ведь начинались и заканчивались они примерно так:
– Выкинь ты уже эти картинки!
– Побойся Бога!
– Да нет никакого Бога! Юрка летал, Юрка видел… Нет там ничего!
– А что, Он, по-твоему, на Луне сидеть должен? Или на Марсе?
Прекрасный образец столкновения мистического и логического мышления, я бы даже сказал, образец классический. Ведь не только у меня дома шла вечная битва сциентизма с христианством, такие баталии происходили повсюду, и на каждой советской кухне гремели одни и те же тезисы. Но потом Союз рухнул, и слова, когда-то сказанные Хрущёвым про последнего попа в телевизоре к 80-му году, стали звучать как минимум иронично. Церкви стали расти вокруг как грибы после дождя, а вместе с ними всякие салоны чёрной и белой магии, торговые точки для гадалок, ворожей, сектантов и прочих шарлатанов. Войну с коммунизмом, войну с несвободой христиане выиграли, впереди была война со свободой, которая идёт по сей день. И, как признают сами служители культа, – эта война является самой сложной. Впрочем, я почти не сомневаюсь в будущем Христовой церкви, ведь она за долгие века своего существования переживала и не такое. Были гонения римских императоров, были расколы и реформации, испытание прогрессом, атеизмом и т. д. Церковь успешно пережила все внешние трудности, больше пострадав от внутренних. Проще говоря, главный враг соборной церкви – сама её соборность, которая вмещает в себя миллионы абсолютно разных людей со своим видением Божественного начала. Не отсюда ли все эти богословские споры, которые начались ещё при жизни Иисуса? Впрочем, и это ещё полбеды, ведь если мировая соборность и не разрушит однажды до основания здание Веры, то это уж точно сделает эсхатология, которая завещана нам основателями Веры, и которая является её краеугольным камнем. Тот самый миф об Апокалипсисе, который многие века, да и сегодня, не даёт покоя многим экзальтированным верующим и которым, по Писанию, однажды всё закончится. Всё это касается не только церкви Христовой, но и любой другой религии, подразумевающей «воскресение мёртвых и жизнь будущего века».
Я не помню, с чего начиналась моя вера, но я прекрасно помню, как она менялась и трансформировалась по ходу лет, то исчезая напрочь, то возвращаясь с новой силой. Знакомое чувство, не правда ли? Лет до 7-8-ми я вообще плохо понимал, о чём идёт речь, когда смотрел на иконы или слышал обрывки чьих-то молитв. Затем это на несколько лет сменилось издёвкой и насмешкой над теми, кто причислял себя к верующим. Они казались мне несовременными и жалкими людьми, вечно выпрашивающими чего-то у церковной свечки или выцветшей картинки. Затем пришёл интерес сразу ко всему подряд, и я с упоением читал богословские книжки и даже заучивал какие-то молитвы. Забавно, но тогда религия казалось мне простой и понятной, видимо, в силу того, что я и не ставил каких-то вопросов. Я был простым потребителем религиозных услуг, не задумываясь особо, к чему это всё и зачем. Говоря языком экономистов, на мой спрос было предложение, а качество услуги меня не интересовало. Но по мере получения всё новых знаний об этом мире и о самой религии вопросы стали появляться, и сказать, что у меня в голове (и в душе) есть законченная картина бытия, я уже не мог.
Здесь мне стоит сделать небольшое отступление и напомнить самому себе в первую очередь, что, как крещёный человек, я осознанно или неосознанно имею отношение к христианству. В силу этого стоит также напомнить, что христианство стоит на двух больших китах, коими являются Священное Писание и Священное Предание. Проще говоря, Писание – это книги Ветхого и Нового Завета, а Предание – это последующий за ними духовный опыт Церкви и её апологетов, который включает в себя жития святых, их молитвы и т. д. В сумме эти два компонента должны отражать смысл Церкви, её историю и устремления. Отчасти так и происходит, но Предание тут явно перевешивает, ведь и сегодня многие верующие предпочитают обращаться со своими проблемами не напрямую к Богу или Богородице, но к различным святым, будь то Николай Угодник, Матрёна, Серафим Саровский, Сергий Радонежский… Возможно, это происходит в силу того, что эти заступники исторически и ментально находятся ближе к нам, чем тот же Иисус Христос, да и чисто географически они не так далеко. К примеру, в Троице-Сергиеву лавру куда быстрее и проще добраться простому русскому человеку, чем до земель далёкой Палестины. Опять же не стоит забывать глубоко мистическое сознание среднерусского человека, в котором прекрасно уживаются языческие, христианские и прочие сверхъестественные элементы. Ведь все мы вышли не из городов, а из сёл, хуторов и деревень, где и по сей день бросают через левое плечо рассыпанную соль, избегают чёрных кошек и занавешивают зеркала в доме покойника…
Но и в Писании, и в Предании нас, разумеется, больше всего привлекают чудеса – всё то, что «весомо, грубо, зримо» вторгается в наш рациональный мирок и даёт новую пищу для удивления и размышления. Любая религия без чудес мертва, тем она, собственно, и отличается от учения. При этом чудо не обязательно может быть сплошь метафизическим. В исламе, например, главное чудо – это Священный Коран, а для буддиста, к примеру, важнейшим чудом будет сам мир, окружающий нас. Собственно, поэтому буддизм и принято причислять более к учению (философии), чем религии. Но бывают и более очевидные феномены. К примеру, в православии немало чудес связано с мироточением икон, нетлением мощей, различными знамениями и явлениями. По сути большинство из этого является возвышением Предания, обретением им собственного символизма. Такое же возвышение Предания (подчас в ущерб Писанию) есть и в католицизме, но там, в отличие от православия, мистики и чудес не боятся, а, наоборот, жаждут.
Наверняка кто-то слышал о местечке Лурд во Франции. Это небольшой городок с населением около 15 тыс. человек. Примечателен этот городок тем, что ежегодно он принимает около 5 млн туристов со всего мира, которые едут туда, чтобы своими глазами увидеть место явления Богородицы. Эта история, по мнению католической церкви, произошла в 1858 году в гроте Масабьель. Нищая и необразованная 14-летняя девочка Мария Бернарда (Бернадетта) 11 февраля собирала дрова возле грота, как вдруг увидела, что он озарился светом и стоящий перед ним куст шиповника заколыхался, словно от ветра. Внутри светящегося грота находилось «что-то белое, похожее на барышню». Эта «барышня» являлась ещё несколько месяцев и упорно не хотела себя называть, да и вообще разговаривать, однако затем поддалась на уговоры девочки и заявила, что она «Непорочное зачатие». Этим она шокировала не только Бернадетту, но и местного священника, к которому Бернадетта затем обратилась. Он решительно не мог понять, откуда тёмный, нищий ребёнок знает о догмате папы Пия IX «О Непорочном зачатии Девы Марии», которому всего-то четыре года. За время своих посещений Лурда «Непорочное зачатие» призывала к покаянию, искупительным жертвам, а также открыла источник в глубине грота, который и по сей день считается у католиков целебным. При этом стоит отметить, что на Бернадетту эти встречи с «барышней» произвели сильнейшее впечатление – она стала монахиней и в прямом смысле ела землю, чтобы искупить свои и чужие грехи. В возрасте 35 лет она умерла от туберкулёза, чтобы затем стать одной из важнейших бусин в чётках католицизма. В 1925 году её нетленные мощи (как утверждают католики) были помещены в реликварий Невера, а в 1933 году она была канонизирована. Сегодня ей молятся как святой, а места её встреч с «барышней» ежегодно привлекают миллионы туристов и паломников. Кто-то даже исцеляется от своих недугов, омывшись водой из Лурдского источника. Опять же, по мнению католической церкви.
Подобная история, правда, более известная и масштабная произошла спустя несколько десятков лет близ португальского городка Фатима. Трое детей-пастушков – Лусия, Жосинта и Франсишку – в 1917 году также сподобились явления им некоей женщины, которую они называли «дама». Впрочем, их мистический опыт начался ещё за год до этого. Девятилетняя Лусия, самая старшая из детей, по собственным воспоминаниям, перебирала чётки, когда увидела облачко в форме человека. Так повторялось несколько раз, пока ко всем троим детям с деревьев вдруг не спустился сияющий белым светом человек, который представился им ангелом-хранителем Португалии. Он призвал детей молиться и просить извинения у Бога за всех, кто не верит и обижает его. Летом он явился им снова и на этот раз призвал совершать во славу Бога жертвоприношения. После его визитов дети жаловались друг другу, что у них абсолютно нет сил и настроения что-либо делать, тем не менее они ждали новой встречи. Она состоялась осенью, когда светящийся человек явился им с гостией и чашей, с которых лилась кровь. Оставив эти предметы висеть в воздухе, светящийся человек предложил детям ещё раз помолиться, а затем поучаствовать в обряде евхаристии, что они и сделали. Больше этот дух никак себя не проявлял, но 13 мая 1917 года им явилась уже сама «дама», которая вышла из дуба, также сияя белым светом. Она сказала детям, что пришла с небес, а также попросила их являться на это же место каждый месяц 13 числа, мол, тогда она и представится им и скажет, что от них хочет. Помимо этого, она поведала детям о судьбе двух недавно умерших в городке девушек (одна в раю, другая в чистилище), а также призвала их молиться по Розарию и никому пока не рассказывать про всё, что они видели. Дети, правда, проболтались, вследствие чего этой историей заинтересовались местные жители и представители церковных и светских властей. Жители разделились на два лагеря – одни свято верили чуду, другие яростно отрицали. Светские власти были озадачены растущим в Фатиме культом, но ещё больше был озадачен католический священник, который, выслушав детей, долго пожимал плечами, а затем изрёк: «Я не знаю, что сказать и что со всем этим делать…» Тем временем от детей начали требовать чуда, которое бы подтвердило их слова, и это чудо случилось. 13 октября на поле у дуба собралось около 70 тыс. человек, которые стали очевидцами явления, названного потом «танцем солнца». Как утверждали все эти люди, солнце начало быстро перемещаться в небе, меняя свои цвета, а затем им показалось, что оно падает на землю. Уверен, что все они тогда пожалели о выпрашивании каких-то чудес, потому что им почудилось, что пришёл их смертный час. На этом явления Фатимской «дамы» прекратились, а Жосинта и Франсишку вскоре умерли, как и обещала им их таинственная знакомая. Лусия, в отличие от них, прожила очень долгую жизнь, став монахиней, как и Бернадетта из Лурда. Она и открыла тайну трёх посланий человечеству, которые были даны ей «дамой». Первой тайной было видение ада, второй – необходимость посвящения России непорочному сердцу Марии, а насчёт третьей спорят до сих пор. Разумеется, как и в случае с Лурдскими явлениями, Фатима стала теперь одним из центров туризма и паломничества, а «дети Фатимы» признаны католической церковью святыми.
Что же общего у двух этих историй? Первым делом бросается в глаза, что Богородица (если это была она) – истовая католичка. Стоит вспомнить хотя бы, что она признаёт существование чистилища, примат папы Римского и молитвы по Розарию. Затем мы видим, что она предпочитает являться детям и общаться только с ними, однако общение это довольно одностороннее, ведь даже имени своего она так и не называет. Также, судя по всему, она не признаёт Иисусовой и Господней молитв, так как и в Лурде, и в Фатиме молитвы у неё были свои. Но самое главное – это предельная экзальтация, которая сопровождает обе истории и которая в целом свойственна католичеству. Не удивительно, что в православном мире отношение к этим явлениям, мягко говоря, спорное. Но я упомянул здесь лишь о двух чудесах, а ведь были ещё подобные явления в Междугорье, Испании, Франции и, конечно же, в Зейтуне, где светящийся силуэт над куполами церкви наблюдали миллионы людей. На основании всего этого замечу, что, если бы я хотел постоянного мистического опыта, то подался бы в католицизм. Но меня как относительно агностически мыслящего человека всё это скорее настораживает, чем восхищает.