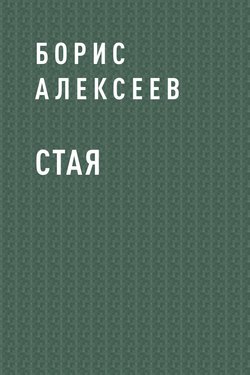Читать книгу Стая - Борис Алексеев - Страница 1
ОглавлениеВступление
Эта невыдуманная история произошла (или могла произойти) в удивительной стране, которую мы условно назовем Россия. Слово «Россия» обладает, пожалуй, самым подходящим сочетанием звуков для передачи высоких и благородных человеческих чувств, и в то же время оно притягивает внимание читателя своей устремленностью в будущее, роковой и бесшабашной. Иными словами, «Россия» (страна, уклад, звук) – именно то, о чем написана эта книга.
Великий гимнограф красоты Сергей Есенин как-то заметил: «Россия! Какое красивое слово! И роса, и сила, и синее что-то…»
Действительно, если вслушаться в целостное звучание бесконечно прекрасной идиомы «Ро-с-си-я», нам откроется ее мудрая прикровенная семантика.
К примеру, произношение слова начинается с долгого «разлапистого» звука «Ро-о…», этакой маниловщины, замешанной на горделивом самодовольстве. Однако вслед за разливом начального «Ро-о…» мы реально ощущаем сужение и ускорение звуковой интонации. Последний свистящий каскад звуков «ссий-йя-а-а!..» похож на тонкую струю воздуха, вылетающую с огромной скоростью из сопла реактивного двигателя.
Так неужели в столь конфликтной орфоэпии* слова Россия кроется таинственная причина всех наших традиционных нестроений, особенно в последние времена?
Кстати, в словосочетание «последние времена» мы, жители этой удивительной страны, вкладываем не умилительные размышления о родном отечестве, но, увы, явные и многочисленные доказательства близкого конца света)…
– Ну вот, – ухмыльнется читатель, – еще один социальный пропагандист взялся за перо!
– Нет-нет! – отвечу я. – Речь в книге пойдет не о политике. Автора поддушивает один-единственный вопрос: возможно ли в России обыкновенное человеческое счастье? Не счастье респектабельных одиночек и не счастливое неведение клановых мудрецов, но простое кухонное «бюджетное» счастье?
Как видите, предложенная автором тема достаточно актуальна, и по первым заносчивым оборотам нетрудно догадаться, что повесть написана явно для русскоязычной аудитории. Поэтому Россия – самая подходящая площадка для развития сюжета.
Безусловно, вопросы человеческого счастья интернациональны. И странам с более либеральным, чем в России, государственным устройством (несмотря на системный эгоизм капиталистической морали) так же близки общечеловеческие проблемы. Но дело сделано. И в том, чтобы менять в тексте приметы российской действительности на импортные аналоги, автор не видит особой необходимости.
*Орфоэпия (от др. -греч. ὀρθός «правильный» и ἔπος «речь») – раздел науки о языке, в котором изучаются вопросы произношения звуков и звукосочетаний
Глава 1. Взросление ума
Часть 1. Студенческая революция
…Профессор Пухловский бодрым шагом вошел в аудиторию. Ему навстречу выкатился сгусток невообразимого шума, похожий на ком прелой осенней листвы, взлохмаченный внезапным порывом ветра.
Петушиная трескотня сотен голосов, щелканье приставных сидушек, чавканье ртов, поедающих нехитрые студенческие бутерброды, и смачные терции поцелуев на дальних рядах слились в безликое звуковое цунами, увеличив плотность лекционной среды и ее сопротивляемость какому-либо интеллектуальному начинанию.
Пухловский встал за кафедру и попытался начать лекцию. Его действия не произвели никакого впечатления на аудиторию. Профессор нахмурился, расстегнул молнию портфеля и извлек небольшой цветастый предмет цилиндрической формы. Подождав еще пару минут, он убедился в тщетности установить с аудиторией контакт по-хорошему и дернул загадочный продолговатый предмет за шнурок, свисающий с торца. Раздался громкий хлопок. Из цилиндра, оказавшегося новогодней хлопушкой, вырвался сноп огня. Тысячи блесток взметнулись в воздух, осыпая кафедру и ближайшие ряды аудиторных парт искрами внезапного новогоднего счастья.
Шум в зале мгновенно стих. В мертвой тишине слышалось шуршание последних падающих блесток. Еще через минуту аудитория взорвалась громом восторженных аплодисментов. Пухловский улыбнулся – педагогический контакт (yes!) был установлен.
Он поднял вверх руку, призывая аудиторию к тишине.
– Друзья, – начал профессор, – сегодня мы поговорим о крайне сложной и, пожалуй, самой злободневной теме нашего бытия – о сосуществовании человека с человеком на общей территории, данной им обоим, так сказать, в совместное владение.
Профессор ослабил на шее галстук и распахнул пиджак, демонстрируя свою готовность к эмоциональному диалогу с аудиторией.
– Из естественных наук мы знаем, как ревниво животный мир относится к этой проблеме. Если два представителя фауны имеют схожие частично или полностью пищевые карты, их сосуществование на единой территории становится невозможным. К исключению из этого правила следует отнести животных, объединяющихся в стаю для совместной охоты или обороны.
– Профессор, что вы скажете об объединении в стаю домашних животных? – перебил Пухловского рыжий паренек с дальнего ряда. – Ведь подобные объединения создаются не по закону естественного отбора, а по организующей воле человека.
– Хороший вопрос! – оживился профессор. – Созданная человеком стая домашних животных – это зоологический прообраз человеческого государственного общежития. Государство, иными словами, тот, кто является организатором объединения, выполняет функции хозяина скотного двора. Он регулирует численность своих граждан, их распорядок и рацион питания.
– Но у скотника одна цель! – не унимался рыжий. – И именно ради нее он обслуживает своих подопечных: это получение пользы. Одних он стрижет, других доит, третьих режет. Выходит, и государство как некий надчеловеческий монстр с таким же корыстным умыслом заботится о своих гражданах?
По рядам прошел неприятный настороженный шумок. Профессор замялся с ответом, и это произвело на аудиторию довольно разрушительное действие. Студенческая братия, не способная толком сформулировать свой протест, тотчас откликнулась на призыв к неудовольствию. Задавленная официальной пропагандой, замордованная снисходительным неуважением взрослых, она видела единственный вариант сопротивления в том, чтобы ловить соперника на ошибке. Так играют шахматисты блиц. Именно так нетерпеливая молодость разыгрывает свой собственный блиц, выискивая лазейку в правилах чужой взрослой жизни.
– Друзья, – профессор, наконец, определился с ответом, – вы сопоставляете несопоставимое и тем самым ввергаете наш диалог в область софистики! Представьте, у автомобиля, как и у кошки, четыре опоры. Но из этого не следует утверждение, что автомобиль должен мяукать, как кошка! Сравнивая скотный двор и государственное устройство, мы подменяем смыслы. Человек объединил обитателей скотного двора в стаю для собственной пользы. То есть вертикаль подчинения направлена сверху вниз. Что же касается государства, то здесь мы имеем дело с вертикальным строительством снизу вверх. Люди объединяются в стаю и создают государство со всеми его институтами с одной целью – благо членов стаи. Вертикаль подчинения направлена снизу вверх.
– Профессор, а как быть с репрессивными формами взаимных отношений государства, вернее, её правящей верхушки и простых членов стаи? Тут-то вертикаль явно смотрит вниз, как на скотном дворе!
По аудитории прокатился одобрительный шепоток.
Пухловский набычился.
– Репрессивные институты государство создает во благо большинства. Мы слишком разные. В родильных отделениях появляются на свет помимо «добропорядочных» младенцев будущие убийцы, насильники и прочие волонтеры зла. Они, как ложка дегтя, готовы испортить бочку государственного меда, посеять страх и панику в обществе, разрушить институт социальных гарантий и превратить жизнь простых граждан в полуживотное существование под лозунгом «Спасайся кто может!»
Профессор вытер платком загривок. Со стороны было видно, как он все более распаляется, нервничает и сам начинает играть не широко и объемно, согласно правилам старшинства, а точечно, сверяя свои реакции с действиями нападающей стороны.
«Какого черта я согласился на этот курс?» – пульсировал Пухловский, нутром чуя назревающий коллапс, возникающий поверх лекционной программы.
Он попытался отчаянной репликой про социальную ответственность граждан перед государством прекратить накат студенческого разногласия, но тут к кафедре выбежал какой-то очкарик и, перекрикивая профессора, обратился к аудитории:
– Бакланы! Бомбит пан профессор. На хрен нам его геморрои!..
Парень зыркнул в сторону лектора и, сбиваясь на подростковую феню, на «великом и могучем» полурусском диалекте рассказал историю, как его брата-рыбаря за лов без лицензии рыбнадзор сдал прокурору, тот – в суд. Короче, выкатили рыбачку́ зону аж на целых пять лет.
– И че? – сокрушался парень. – У Витьки жинка да два малых. Чем кормить прикажете? Он же рыбарь, от моря башляет. Ему власть ломит в харю: хошь ловить сетью – гони монету за лицензию. А у него деньжат – нема! И куда, – парень сверкнул глазами в сторону профессора, – торчит, блин, эта ваша гребаная вертикаль?
Пухловский попытался возразить очкарику, но не успел сказать и двух слов, как парень взмахнул рукой и заорал на всю аудиторию:
– Хрена вам!..
К нему подбежали несколько парней и попытались успокоить крикуна, но в этот миг еще один «оратор» сорвался с дальних рядов, протиснулся к кафедре и визгливым голосом заорал:
– Братва, тусит препод! Валим отсюда!
Что только не случается с человеком, когда он, не желая включить мозги, машинально подчиняется внешней крикливой доминанте? Возможно, им руководят два тайных пережитка прошлого: ощущение личной защищенности в однородной среде – стае (согласитесь, это ощущение комфортно и притягательно для человека, не имеющего личной точки зрения) и право члена всякой стаи на коллективное чувство дикаря-разрушителя. Увы, от этого нас никогда не избавят ни развитие цивилизации, ни собственные духовные упражнения.
Опыт «натурального дарвинизма» генетически неистребим. Историческая память о прошлых сражениях, хмель пирровых побед постоянно вторгаются в нашу жизнь, путая с небылицами ее лучшие замыслы и разрывая в клочья благонамеренные надежды современных гуманистов-интеллектуалов.
Вот такой «натуральный» взрыв древних эмоций случился на вполне безобидной лекции профессора Пухловского «История и виды сосуществования людей друг с другом». Что может быть либеральнее этой «сугубо исторической» темы? Но молодежь отвергает историю. Для нее исторический процесс – это то, что происходит сегодня и сейчас. Прошлого нет в принципе – будущего еще нет, да и будет ли. Состояние подросткового ожидания с психологической точки зрения очень неустойчиво и сравнимо с хождением по лезвию ножа. Ни справа, ни слева опор нет. Да и идти, собственно, незачем – «ну, че там – хайп и только».
Однако вернемся в аудиторию. Уже через пару минут добрая половина «личного состава» студенческой массы отчаянно тусила возле кафедры, за которой, прижав портфель, как воинский щит, к груди, все более каменел Пухловский, не на шутку напуганный происходящим.
Но вот кто-то из толпы бросил клич: «Дави гниду!» Повинуясь инстинкту самосохранения, профессор вжался в узкое пространство под кафедральной столешницей. Нащупав тревожную кнопку, он что было сил вдавил палец в рыжую пластмассу сигнального оповещения…
Студенческий хайп набирал обороты. Вдруг входные двери с грохотом распахнулись, и взвод охраны ворвался в аудиторию. Не разбирая, кто прав, кто виноват, омоновцы обрушили на воспаленные студенческие головы тумаки, дубинки и слезоточивые струи спецтехники.
Жесткие действия охранного подразделения послужили, в свою очередь, сигналом для части студентов, которая еще оставалась на своих местах и лишь голосом участвовала в перепалке. Десятки новых «бойцов» с криками «Наших бьют!» ринулись выручать товарищей. На сцене возникло явное численное преимущество остервеневшей студенческой братии. Сотни ударов посыпались на головы охранников. Острые подростковые кулачки с набитыми костяшками-кендисами, каблуки Zenden и Tofa, «улучшенные» коваными набойками «миролюбивой» молодежной серии «На!», ножки, выломанные из аудиторных табуретов, – все это «шансовое великолепие» вонзилось в шлемы и бронежилеты бойцов ОМОНа.
Не выдержав неравной схватки, взвод дрогнул, встал в каре и попятился к двери. Прикрывая друг друга, охранники буквально вываливались из аудитории в коридор и по парадной лестнице бежали вниз, на первый этаж университетского здания.
Один за другим, перепрыгивая турникеты, омоновцы выбегали на ступени парадного крыльца. Вслед за ними из университетских дверей выплескивались на улицу и дробились на отдельные человеческие корпускулы валы студенческой массы, похожие на губы огромного голодного великана.
Казалось, соприкосновение структур неизбежно. Счет времени шел на секунды. Вдруг послышался прерывистый вой сирены и со стороны улицы к парадным ступеням на полном ходу подъехала бронированная машина пехоты, вызванная, видимо, омоновским командиром. Из водомета, укрепленного на башне БМП, в сторону крыльца метнулся пенный сноп влаги. Ударная сила струи была настолько велика, что студенческие порядки дрогнули и стали отступать назад к дверям. В тот же миг, будто выросшие из земли, две свежие шеренги бойцов ОМОНа замкнули за их спинами цепь и отрезали путь к отступлению в здание. Пока ребята озирались, пробуя ситуацию «на зубок», омоновцы вошли в «непосредственный контакт с протестной массой» и перекидали, как на штабных учениях, десятка три студентов в объемистый автозак, оказавшийся «совершенно случайно» неподалеку.
На другой день, согласно специальному постановлению ректора университета, в 13:30 в той же злополучной аудитории для «непокорного» курса была назначена та же самая скандальная лекция Пухловского. На личные возражения профессора ректор коротко ответил: «Это принципиально. Или мы их, или они нас».
…Включив все резервы личного самообладания, Пухловский невозмутимо прошел к кафедре и раскрыл конспект. Его встретила гробовая тишина. Никто не поднялся с места для приветствия. Никто не улыбнулся, когда профессор по привычке сказал: «Садитесь, пожалуйста». Сто с лишним пар глаз холодно отслеживали каждое его движение. Могло показаться, что аудитория наблюдала не университетского препода, а жирную надоедливую муху, которую ей хотелось вымарать из предложенной картинки и тут же забыть о ней.
Профессор монотонным, будто чужим, голосом отчитал лекционный текст. Он ни разу не поднял головы, не посмотрел в зал, чтобы оценить заинтересованность аудитории. Закончив чтение, Пухловский собрал бумаги и, все так же не поднимая головы, вышел из аудитории.
Хлопок двери пробудил аудиторию. Она зашевелилась и пришла в движение. К кафедре выбежал староста 3-А группы Пашка Ремизов. Он поднял вверх руку, сжал пальцы в кулак и произнес: «Но пасаран!» В ответ ему по рядам прокатился многоголосый ропот: «Но па-са-ран!»
Сомкнутый в единую звуковую массу, протестный клич вскружил над головами, завис на некоторое время, как сигарное кольцо, под куполом аудитории и… искрясь в мерцании потолочных рамп, метнулся на университетский двор через распахнутые оконные фрамуги…
Часть 2. Совесть
Осип устало опустился на диван, расправил онемевшие от холода руки и включил телевизор.
– Ну морозец сегодня! – усмехнулся он, разглядывая, как жена тихими кропотливыми движениями накрывает стол к ужину.
– Как служилось? – улыбнулась она, радуясь вниманию мужа.
– Да так. Андрюшка Сиднев, ты помнишь его, интеллигентный такой, с бородкой, припомнил университетскую заварушку. Недели не прошло, а там такие дела!..
Тем временем на экране появилась голубая картинка, и ведущая программы «Время», народная любимица Катя, сообщила телезрителям о серии странных происшествий, случившихся в университете города Абакым:
– Органами правопорядка и МЧС за последние три дня зафиксированы четыре случая подросткового суицида среди студентов известного на всю страну Абакымского университета Народного Хозяйства. Но не только трагедиями отмечены эти роковые три дня. Родители более двух десятков благополучных, как мы выяснили, студентов подали в органы полиции заявления о пропаже детей – учащихся этого университета. Но и это еще не все. Только что нам сообщили: два первокурсника факультета отраслевого планирования взяты под стражу как члены запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Такого стечения непредвиденных трагических обстоятельств российская история последних лет не знала. Мы предприняли собственное расследование случившегося, и я готова изложить вам, дорогие телезрители, его первые результаты. Дело в том, что неделю назад, точнее, 24-го числа сего месяца, в университете города Абакым на одной из плановых лекций произошел серьезный инцидент с нарушением общественного порядка. В результате двадцать четыре студента были взяты под стражу и в настоящее время находятся во временном изоляторе Абакыма. Этот случай стал моральной трагедией для университетской молодежи, и нет сомнения в том, что печальная статистика смертей, исчезновений и прочих странных и страшных последствий случившегося – это своего рода форма выражения подросткового протеста против репрессивных действий государства. Очевидно, что теперь предстоит огромная работа педагогического состава университета, психологов, представителей городских молодежных организаций по восстановлению мира и спокойствия в университетской среде. Вот к чему приводит бездумность и поспешность в действиях по отношению к молодежи. Да, студенты поднялись на противоправное дело, но это же не дворовая шпана, это будущая элита нашего народного хозяйства, а мы с ними обошлись как с уголовниками…
Быстрым, едва различимым движением Катя смахнула набежавшую слезку и хотела продолжить репортаж, но в этот момент новостная картинка исчезла с экрана, а ее место занял калейдоскоп очаровательных фотографий зимней природы.
– Как же оно так вышло, ей-богу? – Осип выключил телевизор и виновато посмотрел на присевшую рядом жену. – Злобно вышло, не по-людски. Они, блин, тоже хороши, если б не бронежилеты…
– Но ведь мальчишки же! – вздохнула жена, гладя увесистое плечо мужа.
– То-то и оно, – отозвался Осип, – ладно б дело, бандиты. А теперь что? Неделю места себе не нахожу. С комвзвода переругался – стыдоба! Он мне: мы действовали по инструкции. А я ему: какая такая на хрен инструкция, чтоб детей бить? В общем, Люсь, подал я рапорт на увольнение. Хоть кем, хоть сторожем в церковь пойду, но не могу я больше, как собака на привязи, брехать на человека!
– Я понимаю… – улыбнулась Люся и продолжила сервировать стол к ужину.
Часть 3. Противостояние
Тем временем по заснеженным улицам Абакыма ползли тревожные слухи. Поговаривали о новых случаях исчезновения студентов и о том, что местные власти сознательно скрывают печальную сводку из страха перед новыми молодежными волнениями. Действительно, подростковая часть населения города как-то странно притихла и превратилась в некую сдавленную пружину, готовую по первому взмаху случайного лидера распрямиться и натворить дел покруче той институтской заварушки.
Шокированное столь жестким молодежным противостоянием, российское общество наконец обнаружило, что внутри населения законопослушных россиян вызревает еще один не похожий ни на кого человеческий миллениум. Это не розовый и несмышленый младенец, упакованный в педагогические пелены, но несговорчивая и способная на отчаянные поступки стая будущих владельцев страны, а быть может, и мира.
Более того, подростковый миллениум живет по своим внутренним законам. И если во взрослой жизни законодательства и общепринятые смыслы человеческих действий изъедены временем и похожи на внушительные морские буи с налипшими на них плотными слоями житейских ракушек, то «нормативная база», направляющая поведение подростка, скорее походит на приливный рой прозрачных медуз, колышущихся в такт сиюминутной набегающей на берег волне.
Гений Шекспира проник в эту сверхнеплотную среду и разглядел в ней потрясающую любовную историю двух юных сердец, назвав прелестников вечными именами Ромео и Джульетты. Многое из того, что случилось в ней для нас, взрослых, непонятно, ведь мы, взрослея, забываем самих себя.
Мы забываем о том, что все граждане детства – гениальные художники и фантазеры. Как свежо, непосредственно и ярко они (прежние мы!) воспринимают окружающий мир. Глядя на прозрачные медузоподобные детские «тельца», нам хочется еще раз прикоснуться к отступившим от нас парадоксальным мироощущениям. Но нам нельзя! Мы – взрослые, высшая раса! И мы вынуждены смотреть в сторону детства с долей иронии и снисходительности…
Объявив действия молодых нигилистов противоправными, власть задействовала значительный административный ресурс и приступила к ликвидации конфликта. Всероссийский розыск дал первые результаты. Наряд УВД города Петропавловск-Камчатский задержал в аэропорту группу из семи молодых человек, прилетевших с материка под видом паломников в единственный на Камчатке мужской Пантелеймонов монастырь.
– Почему вы говорите «под видом»? – возмущались ребята в отделении полиции. – Вся страна знает, что монастырь своими силами строит Морской собор в память о моряках и рыбаках, погибших в море. Им нужна помощь!
– Вас никто не просил сюда лететь, – бубнили в отделении.
– Об этом не просят! – отвечали парни. – Как хотите фиксируйте нас, но мы свободные граждане и никуда отсюда не полетим!
Старший офицер отделения, кстати, бывший военный моряк, приказал переписать паспортные данные и под его личную ответственность отпустить задержанных.
– А ты, мужик, ничего! – ухмыльнулся один из ребят, выходя из отделения, и доверительно похлопывая кэпа по плечу.
Еще двух «самовольщиков» зафиксировали в Киргизии. Сличив с поисковым листом список авиапассажиров, прибывших в последние дни, выяснили, что не далее как вчера двое из разыскиваемых студентов прилетели чартерным рейсом в аэропорт «Манас».
Подняли местный РУВД и в тот же день обнаружили беглецов в городе Кант. Что они делали возле нашей военной авиабазы, так и осталось за семью печатями. Ребята замкнули уста и отказались отвечать на какие-либо вопросы в отсутствие, как они сказали, «адвоката с Большой земли». Пришлось самозваных «террористов» этапировать на Большую землю, где живут адвокаты и ближайшие родственники задержанных.
Следы более двадцати студентов так и остались белыми пятнами на российской карте.
Глава 2. Прозрение
Часть 1. Агатий
В глуши сибирских лесов, на берегу батюшки Енисея, близ города Минусинск зажег свечу над престолом древний, вернее сказать, «древлерубленый» мужской монастырь во имя преподобного Дорофея аввы Палестинского. В прежние времена насельников в монастыре бывало не счесть. Оно и понятно: место благое, молитвенное. Нынче ж по-другому все стало, утишилась монастырская жизнь. Из монашествующих остались в монастыре: настоятель, иеромонах отец Игнатий, два старчика (средь них сокровище монастыря – старец Савва), да пятеро послушников, да трудников столько ж. «Вот и вся нашать монастырская редута», – любил говаривать Савва за трапезным чайком, стилизуя свою речь под говор местных сплавщиков леса.
В один из дней вослед февральской вьюжке прибыл из города в монастырь с продуктовой машиной парнишка по имени Агатий. Шофер, послушник Виталий, сказывал настоятелю:
– Отче, собрался я в обратный путь, вижу: жмется к машине паренек в пальтишке и легкой вязаной шапке. Я его спрашиваю: «Ты чего?» – а он молчит, как в рот воды набрал. Гляжу, а его всего трясет от холода, как на вибростанке. «Ты чей?» – спрашиваю, а он молчит. Чую, вот-вот в обморок свалится. Я его в кабину затащил, оттер, как мог, и вот, привез. Что мне оставалось делать?
– Ну, ты бы его в милицию определил, там разобрались бы, отогрели б да накормили, – ответил настоятель.
– А мы нешто не накормим, отче? – улыбнулся Виталий.
– Оно, конечно, накормим. Да кто он, может, беглый?
– Может, и беглый, но чует сердце, не разбойник он. Какой-то несчастный, что ли…
– Ишь, счастливый нашелся! – усмехнулся настоятель. – Ты вот что. Накорми парня, пододень во что сыщешь, и ко мне.
Виталий кивнул непокрытой головой и весело побежал к машине. Настоятель приметил, как послушник сбросил с себя телогрейку, укутал парня и, обнимая его худые плечи, повел в трапезную. «Может, и правда счастливый», – подумал Игнатий, провожая ребят глазами.
Из беседы с прибывшим гостем Игнатий выяснил лишь то, что зовут парня Агатий. Откуда он, как попал в Минусинск и какие мысли имеет в голове, так и осталось для исповедника загадкой. Агатий на все вопросы отвечал, вернее, мычал одно и то же: «Не выгоняйте меня! Буду делать, что скажете. Я не хочу обратно…»
«Да, ситуация», – думал отец игумен, прекрасно понимая, если он сообщит о «находке» в город, тотчас приедут и заберут. Однако и скрыть от органов случившееся он не имеет права: вдруг нежданный гость – рецидивист и лишь притворяется тихоней. А его ищут. Чужая душа – потемки…
Наконец, устав от раздумий, отец Игнатий решил: «Повременю с заявлением, приглядеться надо, что-то здесь не так».
Мягкое сердце настоятеля отозвалось в братии большим искушением. И хотя имя Агатий в переводе с греческого означает «добрый, хороший», характер нового монастырского обитателя оказался противоположен значению греческого перевода. Его внутренняя озлобленность и равнодушие к слову церковной истины оказались в явном противоречии с принятыми взаимоотношениями в монастыре.
С другой стороны, смирение Агатия и абсолютное послушание чужой воле, от кого бы она ни исходила, были настолько разительны, что братия недоумевала. Слова добротолюбия о том, что смирение превыше молитвы, смущали умы насельников, недовольных отрицательной аурой Агатия, но не находящих ни одного предлога вывести этого «духовного оборотня» на чистую воду.
Как-то недоброжелатели Агатия через келейника Максима нашептали старчику по имени Викентий более не исповедовать отца игумена. Мол, иначе не унять его откровенное попустительство чужаку! Короче, вошли смутьяны в соблазн, устроили заместо Бога самосуд и едва не учинили раскол в монастыре. Благо Виталий (тот самый шофер, кто привез Агатия в монастырь) как-то вечером постучал в келью старца Саввы и со словами «Боже наш, помилуй нас» рассказал о назревающей в монастыре смуте.
Недолго думая, Савва отправился к сопостнику старцу Викентию, выгнал вон встретившегося на пороге келейника Максимку и подсел под локоток к дружочку своему разлюбезному. Долгие два часа старцы вели беседу. За полночь Савва вернулся к себе. А в келье Викентия шкодина Максим до утра бил земные поклоны, слезно приговаривая: «Господи, прости меня, грешного раба Твоего!»
Сам же Викентий простоял перед Богородицей всю ночь, уперев колени в выщербленные временем половицы, и молил Пресвятую ходатайствовать перед Богом о прощении его, раба недостойного, мол, порча округ чистоты не заводится…
Встретившись наутро, старцы благословили друг друга о случившемся не оповещать настоятеля. Был грех и не стало его, аминь.
Отец игумен примечал, что с появлением Агатия в монастыре завелось нестроение, но сдержанно молчал и ждал добрых перемен. «Не может слово Божье не достучаться до молодого сердца. Дай-то срок – оттает льдинка».
И действительно. Как-то раз, когда братия стояла на малом повечерии, старец Викентий ткнул Максимку посохом в бок и тихо шепнул: «Гляди, греховодник!» Келейник растерянно оглянулся округ и вдруг увидел, что Агатий, стоящий чуть поодаль от него, плачет. «Мать честная! – подумал ошарашенный Максимка, но тут же спохватился и защебетал. – Пресвятая Богородица, Пречистая Матерь Небесная, чудо Божественного Сына Твоего зрю – стервец Агашка плачет!..»
Глядь, с другого бока трость старчика Саввы уперлась аккурат в печень Максимки. Бедолага обернулся и, как стоял, упал на колени перед просиявшим ликом почтенного монаха. А Саввушка глянул на него из-под седых бровей и молвил, будто ветер колыхнул листву: «Так-то».
Часть 2. Притяжение добра
Прошел месяц. Агатий прижился в монастыре, повеселел, стал выходить душой на товарищеское общение. В нем проснулось любопытство к духовной жизни монастыря. Чтение книг и неторопливые рассуждения по окончании всякой монастырской трапезы постепенно сформировали в нем образ доброжелательного, отзывчивого к чужой нужде поселянина.
К тому времени заметно пошатнулось здоровье старца Саввы. До последних дней он обходился без келейника и пуще всего хранил личную тишину и одиночество. Когда же старчику стало в тягость вести свое одинокое хозяйство, обратился он к настоятелю с просьбой благословить Агатия на келейное послушание. Игнатий выслушал Савву и очень тому обрадовался: лучшей доли для юноши он и не предвидел. Велел Макарию, келейнику своему, отыскать без задержки Агатия и сей же час привести. А как прибыл Агатий, благословил его подвязаться в послушании у будущего насельника земли райской. Так и сказал.
К сказанному следует прибавить и то, что старец испросил Агатия не только по причине личной немощи. Исподволь наблюдая юношу, Савва разглядел в потемках молодой неопытной души особое пагубное томление. Старцу стало очевидно, что юному послушнику нужна тонкая духовная помощь.
«Как так? – размышлял он. – Всякую плоть можно умертвить силою зла, но Бог сильнее зла. О том говорят святые тексты и древние иконы. Агатия в монастырь привел ангел, это несомненно. Нетрудно догадаться, что ангел не просто подобрал его на дороге, но отринул от злобного умысла. Вывел живым, значит, адовы служки не смогли пробить чей-то молитвенный оберег, хотя явно пытались это сделать. Это видно по всему: как Агатий держит голову чуть набок, будто хочет спрятаться от опасности, как часто в разговоре он опускает или отводит в сторону глаза, ожидая внезапную неприятность.
Это и многое другое примечал Савва за новым послушником. Его тайный интерес был поначалу сродни обыкновенному духовному любопытству. Но с течением дней старец все более ощущал внутреннюю потребность помочь юноше обрести духовную свободу и надежду на светлую и счастливую жизнь. Ведь с грузом в душе, как бы удачно ни складывались внешние обстоятельства, счастье невозможно.
Агатий принял новое послушание с радостью и волнением. Работы хватало. Савва по состоянию здоровья реже выходил «в свет» и служил все больше в келье на антиминсе. Он существенно ограничил исповедь и прием мирян. Смолкли его дивные проповеди. Отчасти старец компенсировал свою общественную отстраненность духовными беседами с Агатием.
Слово за слово, пытливый ум многоопытного монаха проник в чертоги юного келейника. Агатий поведал старцу историю университетской тусовки. Рассказал о расправе, которую учинил ОМОН над его товарищами. Агатий говорил и сам путался в суждениях о произошедшем. Дни, проведенные в монастыре, изменили многие его взгляды. Если раньше он считал насилие единственным инструментом, с помощью которого можно кому-то что-то доказать, то теперь, прикоснувшись к мысли о существовании вечной жизни и огромной личной ответственности за каждый день своего земного существования, Агатий был уже не так категоричен в суждениях.
Из его уст впервые прозвучала мысль, что разгульный эпатаж, явленный им и его товарищами на той злополучной лекции, быть может, явление более глубокое, чем простая подростковая истерия.
– Отче, ведь не за себя, не в личку бакланились пацаны!
Савва слушал Агатия и невольно припоминал фразу, знакомую с прежних домонашеских лет: «За державу обидно!» Вот ведь как. В миру-то все, как в церкви! Тут мученики за веру в Бога стоят, там, за оградкой – за понятия о чести и справедливости…
И старцу открылось то, о чем ум Агатия интуитивно догадывался, но не умел ни сформулировать, ни объяснить самому себе.
Нежданно-негаданно (кто бы мог подумать!) из розовых молокососов выпорхнула высокая гражданская позиция, невозможная ни при каких обстоятельствах во взрослом «законодательном собрании», где «гражданский» речитатив власти давно превратился в личный приспособленческий бизнес.
Как внезапный ветер перемен, прозвучал отчаянный крик юных бунтарей об истинном, не циркулярном благе России. И этот крик, не скованный должностной порукой, страхами и подковерным шепотком, вызвал во взрослом государстве объединенное чувство отторжения и упрека.
Профессор Пухловский, ученый, специалист по социологической проблематике, не понял ничего из высказанных студентами претензий. Профессионально оценить возникшее взаимное непонимание ему помешал элементарный животный страх. Он, как беспомощный зверек, пискнул: «Помогите!» – спасая свою стареющую шкуру.
Но ведь страх раздавил профессора не сразу. Вначале дискуссии он мог услышать аудиторию и ответами, исполненными не нравоучительной снисходительности, но мудрости, предотвратить назревающий конфликт. Но профессор не посчитал нужным снизойти до уровня крикливого оппонента. Видано ли, чтобы яйцо учило курицу!
Он явно забыл, что когда-то сам был птенцом и с таким же яростным безрассудством долбил скорлупу обстоятельств в надежде на будущие бла-бла-бла.
Но теперь, несмотря на общую образованность и специальную начитанность, его мозг превратился в обыкновенный, паленый временем исторический гриль. Чего стоит проникновенный монолог о социальной справедливости и личной свободе, если многолетний гнет абстрактных цифр и понятий выдавил из обоих полушарий его головного мозга ощущение высокого смысла собственной жизни. Но главное, выдавил заветные бла-бла-бла, о которых только и следует говорить в контексте будущего. Говорить не снисходительно, но совершенно серьезно. Ведь они – крылья!
Увы, эта очевидная дилемма не пришла в голову Пухловскому. И заслуженный профессор, сгорая от первобытного и бессознательного страха, нажал тревожную кнопку.
Омоновцы… Тот же Осип, человек неглупый и совестливый, оказался в стрессовой ситуации бессловесным исполнителем административной воли и, более того, энергии зла. Почему его внутренняя генетическая доброта не очнулась, когда стремнина происходящего понесла события, как сорвавшуюся с привязи лодку? Да, он, служивый человек, обязан был исполнить приказ. А если поступит приказ стрелять в собственную мать?..
Иными словами, почему наш хваленый гуманизм, драгоценный плод эволюции и личных духовных упражнений, тотчас забывает все свои интеллектуальные достоинства и в первой попавшейся под руку стрессовой ситуации встает под знамена римского Колизея: «Хочешь жить – убей!» Почему мы даже не считаем нужным остановить занесенную для удара руку и посмотреть в глаза оппоненту, почувствовать интонацию его речи и попытаться понять первопричины его суждений?
Да, его точка зрения не совпадает с нашей – ну и что?! Неужели только насилие может разрешить спор двух интеллектуальных подобий? Помните, Александр Галич пел:
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!..»
Часть 3. Собеседники
Не все складывалось гладко в отношениях старца и молодого келейника. Агатий, поначалу «холодный, как айсберг в океане», день ото дня внутренне «таял». Все более становилось заметно, что глубоко, в переплетениях его бесчувственных органов, журчит первая «весенняя зажора». Подъедая видимую часть айсберга, вымороженного циничной подростковой злостью, веселая зажора вытапливала из онемевших нервных окончаний теплые сердечные чувства. Однако этот процесс шел не быстро, весьма болезненно, растягиваясь на месяцы. Старцу Савве вдоволь достало от новоиспеченного келейника. Агатий нарочито сдержанно, доходя порой до молчаливого вызова, проявлял недоверие, когда разговор заходил о вопросах мировоззренческих. И, в то же время, он эмоционально и непосредственно являл заинтересованность в самых, казалось бы, незначащих вопросах монастырского обихода.
Однако негативные реакции Агатия не смущали и не огорчали старца. В них он видел прежде всего свой собственный изъян, а интерес келейника к монашескому бытописанию списывал на ловкий способ сменить тему. Как чуткий исповедник Савва полагал себе в вину то неоправданную поспешность в расспросах юноши, похожую на простое праздное любопытство, то корил себя за то, что, распахнув сердечко Агатия, спешил найти правых и виноватых, теряя нить сопереживания со своим визави.
Порой, не зная, как остановить внезапное многословие Агатия, он увещевал его одной и той же фразой: «Ты потерпи, Бог даст». Агатию же казалось, что старец просто не хочет его слушать, и надолго замыкал уста.
Шли месяцы. Однажды, пробудившись среди ночи, Савва услышал плач за тоненькой перегородкой, отделявшей его крохотную спальню от прихожей.
– Что случилось, милый? – спросил старец, выходя в ночном к Агатию. – Отчего ты не спишь? Ночь на дворе.
– Не могу, отче! – рыдая, ответил юноша. – Сволочь я, сволочь последняя!..
Старец присел на сундучок напротив.
– Не томи себя, сынок, поведай мне кручину. Видит Бог, твои слова останутся между нами.
Агатий несколько утишился и внимательно посмотрел в глаза старцу. В его взгляде было столько глубины и решимости взлететь в небо и одновременно упасть в пропасть, что это смутило даже Савву, повидавшего на своем веку многие проявления человеческого духа.
Старец выдержал взгляд и добавил:
– Ты можешь не говорить, но кручина останется при тебе и будет мучить тебя день и ночь.
Агатий встрепенулся, как раненная птица, потом сник и долго не мог сосредоточиться. Наконец он набрался внутренней решимости.
– Отче, в прошлый раз я вам рассказал не все…
В ту ночь Агатий поведал наставнику об институтской клятве «Но пасаран», данной курсом на следующий день после разгрома. То была клятва вечного товарищества, клятва до гроба. Два самых близких Агатию человека, весельчак Гарри и любимая Светка, прошли через ОМОНовский обезьянник и, выйдя через две недели на свободу, задыхаясь от пережитого, решили свести счеты с жизнью. О своем решении они сообщили Агатию. Ум и душа будущего келейника оказались на распутье. В отличие от товарищей он не был убежден в безальтернативности суицида, но подростковая дружба – штука грозная: Агатий решил идти с товарищами до конца.
О, юность! Как беспечна твоя живительная сила в порыве внутреннего восторга! Зло раскачивает нас, как маятник, добро пытается вернуть нас в точку равновесия, ведь только из этого положения мы можем спокойно и внимательно разглядеть окружающий мир и принять правильное решение. Но зло коварно и непредсказуемо, и в этом его временная сила.
А что же мы? Почему мы позволяем злу совершаться? Не потому ли, что огромная лавина времени еще только разгоняется в нас? Она не желает тратить внимание на «пустяки» и не позволяет нашему уму «онлайн» анализировать происходящее. «Потом разберемся!» – весело восклицает молодость, пытаясь обогнать собственное время жизни.
Даже в момент суицида нас не покидает ощущение бессмертия. Неужели юности нечего терять? Ведь из всего сущего, человеку дорог прежде всего он сам. Однако в юности его «самого» еще так немного. Выходит, и потеря невелика…
Опасное время – молодость. Она, как чашка тончайшего китайского фарфора, ранима и недолговечна в руках неаккуратного владельца. Но ведь мы обретаем опыт общения с собственной жизнью только по прошествии времени. Поэтому будем молить Бога о том, чтобы Он провел нас невредимыми через жаровню юных лет, а тем из нас, кто не уберег свой житейский фарфор, простил подростковое недоумие и дал шанс повторно попытать счастья.
Случайный путник мог видеть, как три небольшие человеческие фигурки, утопая в метровом снегу и цепляясь друг за друга, ползут по единственной отлогой стороне огромного утеса, нависшего, как туча, над ледовой пустыней Енисея. И разве мог сторонний наблюдатель предположить, что целью этого забавного «туристического» похода является горькая идея группового суицида?
А ведь дело обстояло именно так. Три ума, воспаленные подростковой обидой, решили взяться за руки и прыгнуть с вершины на лед Енисея. Расчет был прост и убедителен: двадцать четыре метра высоты и удар о панцирь енисейского льда. Поэтому вопросов типа «а если…» быть не могло.
Иной читатель поинтересуется: «Лед Енисея наверняка покрыт метровыми сугробами снега, захочешь – не разобъешься», следует ответить: «Увы, это не так. Сибирские вьюги исправно выметают речные равнины, хоть на коньках катайся – только не падай!..
…Они вскарабкались на верхнее плато береговой кручи и, не сговариваясь, привалились друг к другу. Может, за тем, чтобы просто перевести дух, а может, с тайной надеждой на передумку. Вдруг кто пойдет в отказ, и тогда они, посовещавшись, примут решение отменить роковое решение и топтать смертельную дорожку. Нет, в восемнадцать лет честь бывает дороже жизни.
Подул сильный ветер. Его колкие порывы готовы были подхватить трех безумцев и раскидать по заснеженным склонам утеса.
«Ветер, ветер, тужься да гони с утеса смерть!..» – подпевали метелице опечаленные ангелы-хранители. Они теребили души своих подопечных, пытались вытопить из них бесчувствие божественными слезами, но тщетно.
Плененные решимостью ума и глубоким внутренним страхом, ребята не слышали самих себя. Они расчистили место для разбега, отступили от края на возможное расстояние, обнялись и, взявшись за руки, вознамерились было совершить несколько торопливых шагов, за которыми их поджидала смерть…
Вдруг Агатий дрогнул, будто его пробил электрический заряд. Он выдернул ладони из прощального рукопожатия, отскочил в сторону и, как зверек, вырвавшийся из капкана, стал торопливо отползать прочь, скуля и зализывая кровоточащую плоть.
– Агатий, милый! – взвизгнула Светлана. – Нет! Нет же!..
– Дай сюда руку! – заорал Гарри, перекрикивая метель.
Он бросился на Агатия. Сцепившись, они кубарем покатились по расчищенной для «разбега» дорожке. Светлана даже не поглядела в их сторону. Она обхватила голову руками и, как подрубленная, опустилась на колени в снег. Подобно соляному столбу, девушка так и осталась стоять коленопреклоненной, не чувствуя ни холода в ногах, ни жгучего колкого ветра.
Агатий, отбиваясь от рослого Гарри, уцепился ладонями за выступ скальной породы и, несмотря на боль и проникающий в тело холод, глухо рычал, не позволяя другу сдернуть его со спасительного выступа. Наконец они оба выбились из сил.
– Гад! Гад! Гад! – неистово прокричал Гарри, отстраняясь от Агатия.
Пружиня, будто на волне безумства, он вскочил на ноги и размашисто обернулся в сторону заснеженного края утеса (так старая испанская танцовщица вспенивает перед зрителем свое гибельное фламенко). Издав страшный нутряной вой «А-а-а!», Гарри сгреб застывшую Светку и…
Агатий долго не мог подняться. За одну страшную минуту он превратился в совершенно бесчувственный комок вымороженной плоти. С трудом разжав руки, юноша отслонился от камня и, упираясь ладонями в снег, подполз к краю утеса. Увидев распластанные на льду тела любимых товарищей, он потерял сознание.
Когда Агатий пришел в себя, солнце садилось за верхушки растущих по склону сосен. Не чувствуя собственного тела и работая руками, как робот механическими манипуляторами, он сполз с утеса и, не оборачиваясь, побрел на большак по протоптанной в лесу дорожке. Первый же проезжавший водила заметил его (правда, принял сначала за торчащее из снега сломанное дерево), втащил в кабину и привез в Минусинск. Мужик завел парня в теплушку автостанции и вышел позвонить «03».
Не понимая, где он и что с ним происходит, Агатий выбрался на улицу и, теряя последние силы, прислонился к колесу какой-то машины. Чиркнув щекой о подмерзший протектор, Агатий повалился на дорогу.
Машина оказалась (как читатель уже догадался) старым монастырским уазиком.
– Так я попал в монастырь. Остальное, отче, вы знаете…
Агатий замолчал. Его пальцы нервно подрагивали и беспрестанно теребили вязаную скуфейку. Острые худые плечи то неправдоподобно поднимались вверх, то опускались чуть ли не до пояса вниз, будто не имели анатомических опор и, казалось, вот-вот оторвутся от тела.
– Бедный ты мой сынок! – нараспев проговорил старец. – Как же трудно тебе, как гадко внутри, вижу…
Опираясь на спинку кровати, Савва поднялся и обнял келейника.
– Попробуй успокоиться. То, что ты успел совершить, не есть худшее из зол. Да, ты предал клятву. Но теперь знаешь заповедь «Не клянись». Ты предал самых дорогих тебе людей. Но это упасло тебя от худшего зла, теперь ты знаешь и это. Святая церковь самоубийц даже не отпевает, до того они противны Богу. Ты обвиняешь себя в трусости, но выходит, ты обвиняешь своего ангела-хранителя, который спас тебе жизнь. А ведь он дан тебе самим Богом. Значит, ты обвиняешь… Бога? Согласись, тут есть о чем подумать.
Старец гладил ладошкой дрожащее плечо Агатия и нараспев (так спокойней) продолжал увещевать юношу.
– Сейчас тебе тяжело. Твой разум и духовные очи застят горе и хула на самого себя. Житейские повороты не случайны, и за видимым ненастьем кроется то глубокое, в чем ты истинно нуждаешься. Не спеши винить Бога! Найди в себе силы принять на веру промысел Божий.
Савва поморщился.
– Терпеть не могу читать морали! Но по-другому не скажешь.
– А как же мои товарищи, отче? Ведь ваши слова относятся и к ним.
Агатий сжался телом, не видя возможности получить ответ на свой страшный вопрос. Действительно, старец замолчал и только тихонько раскачивался из стороны в сторону, продолжая гладить Агатия по плечу.
– Ответить нелегко, – произнес он после длительной паузы, – мы все очень разные и судим об одном и том же, как правило, со своей колокольни, значит – по-разному! А потом удивляемся: почему Бог одному дал столько, другому столько? Бог, как сеятель, метнул нас в жизнь из своего заветного коробка – летите, люди! Он не отпустил нас на произвол случая, но наделил каждого свободной волей, мол, думай сам, куда тебе следует упасть. Вот и разлетелись мы, как в притче – кто куда. Выходит, развела нас не божественная причуда, а собственная свобода воли.
– Вам бы, отче, лекции читать, – Агатий попытался улыбнуться.
– А я и читал. – в ответ улыбнулся Савва. – Не удивляйся, Агатий, перед тобой сидит профессор Московского государственного университета, старший препод – Агатий вздрогнул – кафедры социальной, прости Господи, философии. А ныне грешный и окаянный раб Христов Савватий. Так-то.
– Какой же вы, отче, грешник? – Агатий с удивлением уставился на Савву.
– А кто ж еще? – усмехнулся Савва, довольный, что отвлек собеседника от тягостных переживаний. – Помнишь поговорку «чем дальше в лес, тем больше дров»? Так и в деле спасения. Новичок бесам не интересен, он для них игрушка, собрал-разобрал, как «Лего». Монах – другое дело. Тут у них интерес особый – поединок! А кто ж супротив беса устоит?
– И кто?
– Кто-кто, святой да дурак.
Часть 4. «Обыденный»
Несмотря на разницу в возрасте, Савва в полной мере ощутил глубину трагедии своего келейника. Помимо Агатия, сердце старца оплакивало огромную стаю таких же, как он, юнцов, на долю которых выпало несостоявшееся счастье. Ведь на незрелые умы и пылкие чувства юнцов был опрокинут ушат холодного безжалостного законодательства.
«Подумать только, – стенало сердце старого монаха, – это безумное государство своими репрессивными действиями вычеркнуло из истории огромный пласт собственного будущего и предпочло великому развитию спесь ныне действующей законодательной власти! Молодой интеллектуальный потенциал, который должен был сменить поколение отцов, растерзан и оттого не способен выполнить свою историческую миссию. А ведь известно: нарушение преемственности поколений – первопричина гибели всякого государства. И Россия – не исключение…»
Рассуждая так, Савва все более склонялся к активной позиции российского гражданина. Привычный мир молитвенного бесстрастия теснили мысли о необходимости срочных перемен в отношениях государства с молодежью.
«Надо что-то делать! Как объявить во всеуслышание – беда? Беда назрела в отечестве…» – так думал он, не находя душевного покоя даже в молитве. Так, в результате долгих и тягостных переживаний в голове старца сложилась мысль о личной ответственности за происходящее в стране.