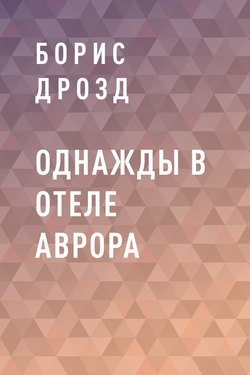Читать книгу ОДНАЖДЫ В ОТЕЛЕ АВРОРА - Борис Дмитриевич Дрозд - Страница 1
ОглавлениеЧ А С Т Ь П Е Р В А Я
I
Однажды в один из тех несчастных дней, когда он, приехав на выходной, безуспешно разыскивал Олю по всем питерским барам и ресторанам, а затем, усталый, мрачный и злой, обосновался за стойкой в баре одного из многочисленных залов ресторана «Невский», надеясь отдохнуть и обдумать дальнейшее, – его тронул за плечо и поманил за собой какой-то незнакомый длинноволосый парень с толстыми подковообразными усами и массивным золотым перстнем на безымянном пальце. Они прошли в конец наполовину ещё заполненного бара, и парень предложил Олегу сесть за последний столик, в самом углу.
-Морячок, да? – спросил парень, ногой подвигая соседний стул и тоже усаживаясь.
-Ну…– пожав плечами, неопределенно и недружелюбно отозвался Олег голосом человека, не очень-то расположенного к общению и недовольного тем, что его потревожили.
Его частенько в Питере принимали за приезжего, хотя он учился в Питере уже четвертый год; нередко считали и за моряка, вернувшегося из рейса и расположенного кутнуть, посорить деньгами, без разбору купить какую-нибудь ненужную чепуху, подделку под фирменное, – его останавливали цыганки и какие-то странные типы то тв Гостином дворе, то в Доме торговли, то ещё где-нибудь. Его принимали за приезжего или моряка только потому, что он после службы во флоте никогда, даже летом, не снимал тельняшки, и теперь по-провинциальному выглядывающей из-под его сорочки; и по-южному, даже зимой не выветривающемуся смоляному загару, – нынче он два с лишним месяцем вкалывал, – сначала брали горбушу, а потом ловили кету на острове Шикотан, где он ещё сильнее загорел, совсем дочерна, – он уже свыкся со всем этим и не стал разуверять незнакомца.
-Ну, допустим, морячок…
-Девочку хочешь, морячок? – неожиданно предложил парень, доверительно склоняясь к Олегу и трогая его за локоть.
-Какую ещё девочку? – опешил Олег.
-Ну, отдохнуть, развлечься, время провести…
И не успел Олег ответить, как парень вытащил из внутреннего кармана черного вельветового пиджака пачку фотографий и быстро веером разложил их в руках.
– Вот, смотри, какие красотки, одна лучше другой, выбирай, какую хочешь…
Олег увидел перед собой фотографии обнаженных женщин. Каждапя фотография делилась линией пополам – с угла на угол, и на одной её половине женщина была снята в нескольких бесстыдных вызывающих позах, так что крупным планом были показаны её бедра, ягодицы и то, что у женщины самое сокровенное и интимное; а на другой половине, и тоже крупным планом, снято было лицо женщины и её бюст. Чувство отвращения, охватившее его в первое мгновение, сменилось чувством острого, жгучего любопытства к обнаженному женскому телу, которое овладевает всяким мужчиной, если он только не скопец. Приятели говорили в общежитии Олегу о том, что в городе есть проститутки, но он не совсем верил этому, наверное, потому, что никогда в глаза не видел «живых» проституток, которые все почему-то представлялись ему старыми, уродливыми и некрасивыми. Но на этих фотографиях он не видел ни старости, ни уродства, ни безобразия, и если бы не их бесстыдные, вызывающие позы, он бы никогда не подумал о том, что это проститутки.
-Вот эту…А может, вот эту – супер девочка! – показывал тот ему фотографии, подолгу задерживая их перед его глазами и поворачивая то так, то этак, чтобы их можно было получше разглядеть и оценить.
И вдруг…Олега будто ударили по глазам! С одной из фотографий глянуло на него до боли знакомое лицо! Сердце страшно заколотилось, и кровь ударили в виски! Проглатывая охватившее его волнение, он бросил незнакомцу: «Ну, как, дай! – схватил фотографию и впился в неё глазами!
Нет, этого не может быть! Это просто совпадение, фантастическая схожесть лиц!
С фотографии, показывая, как и все эти женщины, свои «прелести» на него глядела юная проститутка с ангельским личиком, поразительно похожим на лицо Олечки, – такие же длинные волосы, брови, глаза, овал лица, и родинка на том же самом месте, в углу рта, над верхней губой. И даже морщинки-складки около рта были такими же, как у Оли! Но главное…главное, то же самое ангельское выражение лица!
-А эта…кто такая? – не зная что сказать, хрипло выдавил из себя Олег, не отрывая взгляда от фотографии.
– О, это первоклассная девочка! Что – нравится?
– Как её зовут?
– Чудак! – засмеялся незнакомец. – Какая тебе разница? Потом у неё спросишь.
-Она… тоже проститутка? – опять не зная, что сказать и спросить, совсем невпопад и таким же хриплым голосом выдавил Олег.
– Конечно же! – совсем развеселился тот. – Ну, чудило ты, стал бы я тебе её предлагать? Девочка что надо!
Волнение «клиента» не укрылось от парня. И, вероятно, приняв его волнение за страсть, похоть, немедленное желание, незнакомец спросил с фамильярным смешком и тоном баловня, у которого никогда не было никаких проблем с женщинами.
-Что, друг, наголодался там в своих морях? А? Бери-бери, не пожалеешь! – И он снисходительно потрепал Олега по плечу.
Но Олег, ошеломленный фотографией, точно не слышал парня и не чувствовал прикосновения его руки. Он во все глаза рассматривал фотографию и никак не мог поверить ни в возможность такого сходства, ни тем более в то, что, чтобы это действительно была она, – он всё поворачивал карточку то так, то этак…Она! О, боже, это действительно она! Разве ее можно с кем-то спутать? Но…это же вздор! Просто дьявольщина какая-то! Чтобы эта красивая проститутка с ангельским личиком имела какое-то отношение к его Оленьке? Нет-нет! Этого просто не может быть! И как это он, дурак, может себе даже вообразить такое?
Он даже поскреб карточку в том месте, где была родинка, – ему вдруг подумалось, что это и не родинка вовсе, а просто прилепилась к карточке соринка или это фотобумага некачественная такая. Не могут же два лица и две фигуры быть так поразительно, так фантастически похожи!
Но «соринка» никак не отлеплялась, да и фотобумага, и это было очевидно, являла собой хорошее качество.
-Э-э, ты фотографию-то не порть, морячок, – с той же насмешливой снисходительностью проговорил парень. – Потрогаешь её живую.
И он опять засмеялся, а потом, спустя несколько секунд, спросил уже деловитым тоном, как бы подводя итог всему разговору:
-Ну, что, морячок, двести пятьдесят рэ выложишь за неё?
Но Олег точно не слышал его.
-Эй, морячок! – парень подтолкнул Олега в плечо. – Двести пятьдесят рэ за неё даёшь?
-Что-что? Какие двести пятьдесят?
-Выкладываешь, говорю, двести пятьдесят за эту девочку?
-Двести пятьдесят? Да-да, двести пятьдесят, так двести пятьдесят, – зачем-то поспешно проговорил он, плохо соображая, что говорит.
-Иди тогда за стойку, подожди меня там, а я пойду, позвоню, может, ещё накладочка получится, и она занята…
И парень ушёл куда-то звонить, забрав у Олега фотографию и оставив его одного.
Олег вернулся за стойку на то место, где сидел, машинально глотая недопитый винный коктейль и невидяще глядя перед собой на ряды винных бутылок с красивыми этикетками, на высокого, упитанного бармена с причёской «а ля финский домик» – по последней моде, проворно сновавшего за стойкой.
«Занята! – как в тумане, проносилось в голове Олега последнее слово парня. – Занята…Оленька…занята…Да нет же, нет! Это же чушь, вздор! Просто это сходство, совпадение! Что это я себе душу растравливаю? Я гад, мерзавец за то, что могу о ней подумать такое!»
Он медленно потянул носом воздух, стараясь дышать теперь глубже, до самого, почти обморочного предела, – этим он надеялся отогнать дурные, мерзкие мысли о ней. Он решил, что прежде всего нужно успокоиться, – этак ведь можно и с ума сойти! Да и этот…который ушел звонить, может что-нибудь заподозрить и пойти на попятную. Нужно взять себя в руки и отправиться сейчас с этим мерзавцем туда, куда он его поведет и убедиться в том, что это не она. Ну, конечно же, не она! Сходство же так возможно. Недавно даже в какой-то передаче по телевизору показывали двойников показывали из разных городов Союза, и есть похожие люди, как две капли воды…Пойти и убедиться в том, что это не она, – и пусть забирают двести пятьдесят рублей. Дорого же у них стоит это удовольствие!
Мысль о деньгах заставила его вытащить из кармана бумажник. Он открыл его и, не пересчитывая, прикинул на глаз, сколько же у него было с собой денег. Но денег было много, вполне достаточно для того, чтобы заплатить за несколько таких «красоток». С тех пор, как в последних числах августа он уехал на четыре месяца отрабатывать свою последнюю практику, почти все свои деньги он брал с собой, если, конечно, ездил в Питер. Вообще в последнее время, вернувшись с Шикотана, где он заработал тысячу с лишним рублей, он не испытывал нужды в деньгах, тратил их не скупясь и так и не завел себе сберкнижки. Особенно тратил их после того, как Оля наотрез отказалась взять у него даже часть денег, которые он, собственно говоря, и заработал для неё, чтобы она не надрывалась по ночам на срочной маминой работе.
Но сегодня он вообще с какой-то злостью швырял деньги, расточал их направо и налево. Одним только швейцарам раздарил не менее пятидесяти рублей, – пробиваясь в бары и рестораны, он не стоял под дверями, не выжидал, как многие, не клянчил, не умолял швейцаров впустить, уповая на милость этих хозяев баров и кабаков, – он просто совал им в руки деньги, и они его пропускали…
А злость эта…Бог её знает, откуда она только взялась! В эту несчастную осень эта злость была постоянно в нем. Вчера вот звонил ей из своего Лодейного Поля, просил, умолял, чтобы позволила встретиться, но она настойчиво отговаривала его приезжать. «Олежик, я буду занята, у меня экскурсии с туристическими группами, потом я буду шить осеннее пальто у Махотиной, а вечером, как всегда, у мамы срочная работа. Ты понял, Олжик?» Она называла его из желания оригинальничать на скандинавский манер Олгом, а если ласково, то Олжиком. «Оля, ну, на час, на один час, я хочу тебя видеть!» – кричал он в трубку, закрывая её ладонью и стоя спиной к другим учителям, – звонил он в перемену, и слышимость была ужасная. «Олжик, будь умницей, не приезжай сейчас, потом как-нибудь приедешь. У меня не будет времени, честное слово, не будет… И вообще нужно обязательно отдохнуть друг от друга»… «Оля, что ты такое говоришь! Оля!!! Я тебя уже целый месяц не видел!" «Олжик, ну, прошу тебя, – слышишь? Прошу не приезжать пока…Ну, всё, извини, мне бежать надо».
Так и не позволила приехать, – он швырнул трубку, услышав короткие гудки, отвернулся к окну и простоял в оцепенении всё оставшееся время перемены, не услышав звонка на урок и не заметив, как опустела учительская… Отдохнуть друг от друга! Да что она такое говорит! Ересь какая-то! Они раза три и виделись после его более, чем двухмесячного отсутствия, – он и в Питере-то после возвращения прожил всего неделю, а двадцать девятого августа уже укатил в Лодейное Поле, куда его распределили на практику. Нет, тут что-то не то! Что-то тут не так! Она явно избегает его, не хочет видеть, но почему? И почему прямо об этом не скажет? – думал он напряженно. «Олег Николаевич, у нас будет литература?» – вернул его к реальности чей-то голос от двери учительской и заставил обернуться. Это пришла Таскаева – худенькая, черноглазая староста шестого «а», в котором у него должен состояться урок, и он опомнился, вытащил из ячейки журнал, подхватил свой портфель и поплелся в класс.
И вот так весь этот последний, несчастный месяц после Шикотана. Он чувствовал, что она уходит от него, куда-то ускользает, но терялся в догадках и никак не мог решиться на то, чтобы объясниться с нею.
Но что же могло случиться, когда он ездил на свой Шикотан? Она встретила кого-нибудь и влюбилась? Но почему же прямо не скажет? Впрочем, некоторое её отчуждение началось ещё в мае, даже в апреле, так что Шикотан тут ни при чем…Ещё1 тогда она началда отдаляться от него. То у неё экскурсия с тургруппами, то у мамы срочная работа и надо маме помогать, то, по её же словам, она пропадала по целым дням в публичной библиотеке, но, приходя туда, он не находил её там, и ей как-то удавалось оправдаться, говорить ему, что он её там просто не нашел, или она ушла буквально накануне его прихода. То уверяла, что шьет что-то у Махотиной, а то ещё говорила ему, что, как всегда, в субботу и в воскресенье заглядывает с подругами в бары музыку послушать, отдохнуть, развеяться и, быть может, пообщаться с иностранцами. Олег учился в пединституте на последнем курсе филологического факультета, а она – в университете на третьем курсе факультета иностранных языков с английским уклоном. «Ты не волнуйся, Олжик, не думай ничего плохого и не ревнуй, – сам ведь знаешь, что разговорная практика у меня хромает, не собираюсь же я в какое-нибудь дурацкое учебное заведение идти работать». Он знал это, знал, что она мечтает стать переводчицей, – знал, что разговорная практика ей нужна, но всё равно ревновал.
…Олег как раз успел допить свой коктейль, как появился парень.
-Идём, морячок, все в порядке, – шепнул он, наклонившись к нему.
И опять своим появлением он напомнил Олегу о том ужасном и омерзительном, что этот парень носил с собой; и это «что-то» лежало у него где-то в карманах пиджака. И опять Олега охватила дрожь, и в голову полезли подозрительные, гадкие мысли о ней.
– Выпить чего-нибудь прихвати, – напоследок доверительно шепнул парень Олегу. И, как бы оправдывая необходимость этих новых расходов на «девочку», тем же тоном сытого баловня, не знающего с женщинами проблем, он поделился с Олегом ещё одним секретом: – На мокрое горло, знаешь, они как-то любвеобильнее.
Олег купил у бармена две бутылки шампанского, переплатив за них вдвое или даже больше, сунул их в свою спортивную сумку, где у него лежало всё необходимое в дорогу, и они спустились вниз, к гардеробу. Отдав номерок, он машинально всунул руки в услужливо подставленный гардеробщиком плащ, обернулся и, перехватив вопросительный взгляд пожилого, краснощекого здоровяка с седой, густой шевелюрой на голове, догадался, что даже тут от него чего-то хотят. Вот ведь странно: наметанный глаз гардеробщика тоже определил в нём приезжего, не считающего копейку провинциала-отпускника или туриста, – и ждал чаевые за услугу. И как это они его вычисляют? Спутнику Олега гардеробщик просто положил куртку на стойку.
И Олег горько усмехнулся этой своей «избранности», проницательности гардеробщика, и этой всеобщей жажде денег. И с той же злостью, с какой он прежде швырял деньги проводнице в поезде – три рубля за стакан чая, «без сдачи», – таксистам, переезжая из кабака в кабак, из бара в бар, швейцарам, – он «швырнул» гардеробщику целых десять рублей, повергнув последнего в изумление, – тот так и рассыпался в благодарности.
Когда они вышли из «Невского», Олег мрачно спросил незнакомца, всё так же обходя его взглядом:
– Далеко идти?
– В гостиницу, тут рядом.
Парень шагал чуть впереди, и Олег старался не смотреть на него и не думать ни о чём. К счастью, и тот не приставал с расспросами и не развлекал разговорами – быть может, чувствовал необщительность «клиента». Да и какое ему, верно, дело до него? Сейчас приведет, сдаст проститутке и – поминай, как звали!
II
Вчера после разговора с Олей по телефону он решил все-таки приехать в Питер, несмотря на все её уговоры не приезжать. Он решил найти её где угодно и объясниться с ней прямо и начистоту, чего бы потом это ни стоило, – дальше так было уже невозможно.
Приехав Питер поездом рано утром, он в маете душевной провел несколько часов на Московском вокзале, всё не решаясь ни звонить, ни идти к ней сразу, без звонка, ни ехать в общежитие, где он боялся встретиться со своим приятелем, «язвой» и насмешником Костей Логиновым.
Наконец, около одиннадцати часов он не вытерпел и позвонил. Трубку взяла соседка по коммуналке, и Олег попросил её, чтобы позвали кого-нибудь из Садовских. И потому, что ждать пришлось долго и что к телефону подошла именно соседка, а не Оля, бывало, летевшая к трубке после первого же звонка, он понял, что Оли нет дома. И мать подтвердила: «Это ты, Олег? Оли нет, она вечером звонила от Махотиной…Нет-нет, и не ночевала, наверное, ночевала у Махотиной». Он набрал номер Махотиной, её подруги – тридцатипятилетней модельерши из какого-то ателье, – та ответила, что Оли у неё нет. «Да-да, была, да, ночевала, а утром уехала на экскурсии, а потом собиралась идти в Публичную библиотеку». Оля окончила годичные курсы экскурсоводов и подрабатывала в турагенстве экскурсоводом. Но Олег не поверил Махотиной. Он вообще не любил эту старообразную, курящую модельершу с низким, хриплым голосом. Что у Оли за манера дружить с женщинами старше себя? Что у них общего? Конечно, Махотина шьет, шить надо, но нельзя же пропадать у этой Махотиной чуть ли не каждый вечер!
В три часа Олег был уже в «щедринке», обошел все залы, но Ольгу там не нашёл, да и не надеялся впрочем. Что они все его дурят? Зачем водят за нос? Он обошёл все залы ещё раз, убеждённый в том, что мог её просмотреть; он доходил до каждого закутка, до каждого столика, – но Ольги нигде не было. Он опять стал звонить ей домой, потом Махотиной, съездил в общежитие к её подругам, надеясь застать её там, но все точно сговорились против него. И тогда он бросился искать ее по барам, – ничего другого уже не оставалось.
И вот так почти с самого мая! Все, все стали вдруг отнимать её у него! То туристические группы, то мамина срочная работа, то Махотина, то Публичная библиотека, в которой она тоже почему-то запретила ему появляться и где предпочитала быть одна, как будто он не мог посидеть с ней рядышком и тоже почитать что-нибудь, эти проклятые бары. Как же он ненавидел их! В этих барах, правда, они в прежние времена бывали вместе, но он всякий раз скисал, вздыхал и огорчался, когда она с подругами собиралась идти в какой-нибудь бар. «Оля, ну что там делать, в этом баре? Сходим лучше в Русский или погуляем по набережной». «Олг, миленький, как ты не понимаешь, что мне практика нужна? Я с такой разговорной речью далеко не пойду, это наш Цыбанев мне так говорит…Ты, говорит, Садовская с такой разговорной речью далеко не пойдешь, не дальше школы»…
И, слушая её, Олег, скрепя сердце, соглашался идти то в «Ленинград», то в «Советский», то в «Невский», или, если удавалось прорваться, в бар гостиницы «Европейская», где всегда было полно иностранцев. Он соглашался идти, но не понимал, зачем общаться с иностранцами нужно непременно в барах, когда этих иностранцев на улицах полно – подходи и общайся…
И всё больше он ненавидел бары, не переносил их обстановки и недоумевал, почему молодёжь так ломится в них? Что она там находит, что их туда манит? Сидят в страшном чаду, сосут через соломинку часами свой единственный коктейль и глазеют друг на друга, как будто чего-то друг от друга ждут. Чего, спрашивается? А то ещё танцуют в этой невообразимой толчее. Духота, чад, потные тела, пьяные, наглые рожи, похотливые стремления «сняться» или «подцепить» девочку…Скука, Господи, какая скука!
И ему было жаль потерянного вечера, – он сердился, хмурился и никак не мог развеселиться.
Да и как он мог веселиться, если видел, как она обожает бары. В них она уже не принадлежала ему и становилась другой – неузнаваемой. Она необычайно оживлялась, просто сияла от удовольствия сверх своей незаурядной веселости. А уж если она была слегка пьяна, то смеялась так, что заглушала своим смехом громкую музыку бара, – и тогда на неё, ещё более обычного, ещё жаднее и неотрывнее заглядывались те, кого принято считать людьми почтенными, солидными, в возрасте, – такие тоже попадались в барах, особенно среди иностранцев. А Оленькина нервность, манера прищуривать глаза, когда она бросала быстрые или откровенные взгляды на других мужчин, её вечная озабоченность тем, как она выглядит со стороны, а главное, её неизменное, суетное желание всегда сидеть на самом видном месте, – всё это заставляло Олега ещё больше страдать и бесконечно её ревновать. И откуда у неё бралась эта жажда публичности? Ей непременно нужно было, чтобы все видели её, любовались ею, и все знали о её существовании. Если она оказывалась за стойкой в углу, спиной ко всем, к публике, то Оленька бесконечно страдала, – и им приходилось за вечер немало маневрировать, чтобы с каждым маневром занять все лучший, более видный для всеобщего обзора столик. «И себя покажем, и на других посмотрим», – любила говорить она, оправдываясь. А он объяснял это только тем, что она была красива и, конечно же, хотела нравиться. Но нельзя же нравиться всем!.. И в этих барах на неё вдруг находила «цезаринская манера», как однажды выразился Костя Логинов. «Ты, Ольга, как Юлий Цезарь, сто дел махом хочешь делать». И точно: Оленька и разговор общий поддерживала, не встревая невпопад и не упуская ничего, и смеялась вместе со всеми, если Костя рассказывал какой-нибудь новый анекдот, и отвечала на реплики парней или мужчин7 за соседними столиками, пялившимися на неё, и – вдруг – в один миг отчуждалась ото всех и всего, странно-неприятно щурила глаза, точно уносилась куда-то далеко или думала о чем-то своём, тайном, и в то же время успевала оглядывать входящих и выходящих из бара мужчин, ловить их взгляды на себе, – как губка поглощала всё, что мелькало, маячило вокруг, попадало в поле её зрения, в орбиту её чувств и ощущений. И Олег, глядя в её желто-зеленые, совершенно болотные по цвету глаза, как заметил однажды всё тот же Костя Логин6ов, – чувствовал, что где-то там, в глубине её души, живёт что-то тайное, далеко не ангельское, ещё не проявившееся и ему недоступное, чего он, быть может, никогда не постигнет и не отгадает в ней и что делает ее лет на десять старше своих девятнадцати. Однажды, когда она с оживлением и с необычайным даже для неё блеском в глазах «общалась» с каким-то иностранцем из Азии, а потом наклонилась, чтобы записать незнакомое разговорное выражение в свой крошечный черный блокнотик, – какой-то сидевший с нею рядом филиппинец или малазиец – Бог знает! – с тоненькими жиденькими усиками – жадно смотрел за вырез её платья. Олег видел, чувствовал, что она чувствует, ощущает на себе взгляд этого азиата, но она и рукой не шевельнула, даже и не подумала прикрыться. Это нравилось, нравилось ей!..В конце концов в глубине души он понимал, не совсем же был слеп, пьян от любви, – что он в полной её власти; что чем легкомысленнее она себя вела, чем откровеннее и напропалую кокетничала с иностранцами или ещё с кем-то, чем больше заставляла его страдать, тем всё больше его тянуло к ней, неотвратимо влекло, и тем невыносимее была одна только мысль о возможном расставании. Он никогда не говорил ей об этом, но знал твёрдо, что расставание с нею повлекло бы перемену всей его жизни, – бросил бы всё и уехал бы на край света, на Шикотан, например, или надолго ушёл бы в море…Ему ведь приходило в голову, что эти её походы по барам нечисты; что эта её жажда быть на виду у мужчин, эти её оценивающие мужчин взгляды тоже нечисты, – что вся она со всем своим кокетством, легкомыслием, любовью к барам, тягой к какому-то «высшему» свету, который, по её мнению, существовал и о котором она нет-нет, да и заговаривала, – что вся она чужда ему, и он птица не её полёта. Но он гнал эти мысли прочь! А однажды, когда Костя, желая отрезвить, образумить его, встрял по пьянке: «Должен как другу тебе сказать: «Беги от неё подальше! Она тебе когда-нибудь ухо откусит, неужели ты не видишь, что это ведьма?» – он даже не выдержал и набросился на друга, закричал: «Ты – дурак, идиот! Это она-то ведьма?» «А кто же? У неё черти в глазах так и прыгают, – неужели ты не видишь?» «Если ты о ней ещё раз заикнёшься, я тебе врежу по-флотски! Знаешь, это как?» Они сцепились тогда, поссорились и около недели не разговаривали, а помирились лишь потому, что обоим пришлось играть за сборную факультета по баскетболу.
III
Родился и вырос Олег в одном из районных городков Хабаровского края. Отслужив во флоте на острове Сахалин положенные три года, он решил поступать в институт, и не куда-нибудь, а в Питер, в город Петра, Пушкина, Достоевского…И затем, когда с первого захода поступил, то почувствовал, что тут, в Питере, в нём вполне осознанно, по-настоящему раскрылась его подсознательная тяга к красоте. Только оказавшись в Питере, он понял, что красота – это всё. Что без неё нельзя, невозможно прожить ни дня, ни минуты, на мгновения; понял, что если и стоит жить, то только ради красоты.
Прежде красота для него заключалась в буйных красках, в ярком солнце, в мощных кронах деревьев, в резкой синеве неба, в картинах лесистых сопок, освещенных закатным или восходящим солнцем, в резкой белизне снега, – вообще в чём-то резком, ярком, здоровом…
А в Питере?
В Питере всё было иначе.
Когда он приехал сюда, то попросту был ошеломлён этим городом. Какой мрачный, какой болезненный город! Странно-красивый, болезненно-красивый! Именно эта болезненность, нехватка чего-то, какой-то существенный недостаток, недоразвитие казались главной, определяющей чертой всего облика города. Чего стоил тольког мрачный тон домов, особенно осенью, в ранние сумерки! А тяжелый колорит улиц, зловещая чернота чахоточных лип, казавшихся обугленными, словно бы после пожара? А знаменитые питерские дворы, «колодцы»? А эти арки, ведущие с улиц в угрюмую глубину дворов, в эти, казалось, звериные норы, в мрачное чрево, в вечную темень, откуда веяло таинственностью нор? А небо, казалось, похороненное под вечными облаками, – небо, цвет которого забываешь и от которого отвыкаешь? А туманы, слякоть, морось, придававшие Питеру ещё более мрачный вид? А эти искусственные, как будто мёртво-уродливые кактусы, наводнявшие квартиры, дома и учреждения Питера?.. Олег никогда себе даже вообразить не мог, чтобы болезненное, а тем более уродливое и мрачное, могло бы со временем показаться ему уже красивым. Но, оказывается, можно влюбиться и в эти туманы, и в морось, и в кактусы, и в ранние сумерки, и в пепельно-серое небо…А когда полюбишь, то сколько же красоты находишь в этих ранних сумерках, в зажженных в третьем часу дня фонарях на улицах, в мороси, в черных, обугленных липах, в тумане, скапливающемся в переулочках, и в извечно пепельном небе и пепельной воде Невы!
И он считал, что раз уж он приехал сюда, то должен взять от города всё. Впрочем, что входит в понятие «всё» у такого провинциала, как он? Конечно же, музеи, театры, выставки…Но разве мало приезжающих в Питер таких же провинциалов, как он, тоже мечтающих взять от города «всё», но кончающих ежедневным питьём пива и похождением по барам и забегаловкам? Как-то фосфорически сгорают они, утрачивают высокие, культурные стремления и интересы, так что через год-другой само собой определяется узкий круг их ежедневных грошовых развлечений и интересов. Много таких даже среди студентов, а не только среди "л«миты", – кого столицы и большие города ежемесячно выманивают из райцентров, городков и деревень обещаниями сказочно прекрасной, увлекательной жизни…выманивают только для того, чтобы они сделались лимитчиками и лимитчицами, то есть вахтерами где-нибудь на дрянной фабрике, контролёрами, мотальщицами или прядильщицами в грохочущем цехе, – да мало ли! Аппетиты столиц и больших городов безграничны, а здесь, в громадном городе, сбитые с толку обилием зрелищ и соблазнов провинциалы в своём подавляющем большинстве не умеют взять от города ничего и, раз-другой побывав где-нибудь, они уже воображают, что почерпнули от города сполна, что впитали в себя и дух его, и культуру. Да и успеется ещё! А впереди ещё столько времени!..
Вот так и проходит жизнь…
Зато все они – и лимитчики, и студенты, – когда приезжали на каникулы или в отпуск домой, страшно важничали и расхваливали свою жизнь в Питере. После первого курса, ещё до знакомства с Олей, он поехал в гости к своему другу Косте Логинову в его городок в Смоленской области. Там они валялись на пляже, ходили в парк на дискотеку, посещали единственный в городке бар, похожий, кажется, на все бары на свете, – и везде Костя «вешал лапшу на уши» местным девочкам, своим бывшим подругам. Важничая и играя роль Бог знает кого, Костя рассказывал им о театрах, в которых не бывал, но из которых они с Олегом якобы не вылезают; рассказывал о том, что они чуть ли не за руку здороваются с Иннокентием Смоктуновским, о литературных вечерах, где выступают разные знаменитости… «Везёт же вам, мальчики, вы в Ленинграде учитесь», – вздыхали бывшие костины подружки. Раз, когда загорали на пляже, Костя так заврался, рассказывая девочкам о своей мнимой дружбе с артистами театра Ленсовета, что Олег, уткнув лицо в песок, беззвучно смеялся, а потом, едва девочки ушли купаться, он со смехом сказал приятелю: «Ну, ты даёшь!» «А что?» – невозмутимо спросил Костя. «Как ты им загибаешь про театры!» «А много ли им, скобарихам, надо, – так же невозмутимо отвечал Костя, – прозябают тут в своей дыре, света белого не видят…»
Олег заметил: время уходит, а они не берут от города ничего, нигде не бывают, ничем не интересуются. А ведь они филологи! Он перешел на второй курс, и не мог бы ни о чём существенном рассказать, кроме общих мест. Как быстро привыкли к этому неисчерпаемому, необъятному, странному, таинственному городу! Изредка выберутся на стадион посмотреть важный футбольный матч «Зенита» или съездят в «Юбилейный» на хоккей, ещё реже в концертный зал Октябрьский на какую-нибудь эстрадную знаменитость, – вот и всё. А ежедневно – пиво, бары, кинотеатры да лежание на кровати в общежитии, когда в кармане не было ни гроша. Успеется ещё! Столько времени ещё впереди! А между тем Питер такой чудо-город, что здесь и без денег можно получать сколько угодно прекрасных впечатлений, что-нибудь взять для себя нового.
И он был одержим этим.
Самым лучшим, счастливейшим днём в своей жизни он считал один майский солнечный день, когда они с Олей гуляли по Питеру – сначала по набережной, у гостиницы «Ленинград», потом перешли по Литейному мосту на другой берег, прошли по набережной вдоль Зимнего дворца и через Дворцовую площадь вышли на Невский проспект. Солнце светило непривычно ярко, небо было пронзительно голубым, с синевой; в покойной, тихой воде Невы отражались три трубы знаменитой «Авроры», козловые краны на противоположном берегу, перевёрнутый вниз купол Исакия… На воде россыпями и поодиночке сидели чайки, издали похожие на выброшенные с теплоходов бумажные кульки и свертки…Это был чудный день. Оля не тащила его в бар, никуда не хотела никуда ехать, и никуда не нужно было ей спешить. Целый день они гуляли по городу и не заметили, как пролетело время, – такое редкое воскресенье!
Говорили почему-то в тот день о красоте.
-Знаешь, Оля, я просто болен красотой…Я не только влюблен в красоту, а именно болен…Красота спасет мир, говорил Достоевский, – и я верю в это, – ведь она меня уже спасла. Только здесь, в Питере, я по-настоящему понял и оценил красоту.
Она отнесла это признание на свой счёт, как вообще относила на свой счёт все его речи о красоте. Она лукаво щурилась при его словах, сбоку засматривая ему в лицо и поощряя его этим на новые признания и откровения, кокетливо играла сумочкой в такт шагам, а другой рукой по привычке теребила пуговицу на плаще, подсунув под неё два пальца.
-Не зря говорят о том, что человек сам себе создает судьбу, – продолжал он. – Если бы ты знала, как отговаривали меня ехать в Питер! Ты, мол, не поступишь, там таких своих хватает, а если поступишь, то не приживёшься…А я поехал и поступил, да ещё и тебя тут встретил…Разве это не так, Оленька? Нет, судьба мне светит! Да ещё и так светит, что я иногда не верю в том, что это происходит со мной наяву: неужели может быть такое счастье?.. Я, наверное, слишком высокопарно выражаюсь и тебе надоело меня слушать, но я не могу найти других слов…
-Нет, Олг, что ты! Я люблю, когда ты рассуждаешь о красоте. Честное слово, я не устаю тебя слушать. Ты говори, говори!
-Если бы только знала, какая перемена произошла со мной! Я Олечка, словно прозрел в Питере и у меня здесь словно бы крылья выросли…Знаешь, если бы я не приехал сюда, я бы, наверное, погиб в этом своем Добужево. Там так мучительно не хватает красоты! Там серость, бесцветность, скука. Там пошлость задушила красоту в самом зародыше. И я бы там жил, наверное, как живут все, не чувствовал бы красоты и не был бы таким богачом, каким чувствую себя теперь…
-Да? Разве ты такой богач? – чуть иронизировала она.
-Ещё какой! У меня есть ты, есть Питер, который я люблю безумно…
-Больше, чем меня? – всё так же иронизировала она.
-Нет, конечно! Разве можно что-то любить больше тебя? Но, знаешь, Москву, уверен, нельзя так любить безумно, а вот Питер можно. И ещё как!
-Наверное, ты прав. Я тоже очень люблю свой город. Вот всё смотрю-смотрю на Петропавловку и никак не могу налюбоваться.
-Я богач ещё и потому, что безумно верю в жизнь, в людей, в тебя, в этот город… Во мне живёт, Ольгуша, хорошая такая вера, ничего не требующая взамен. И, поверь, ни одна душа не сможет меня разубедить в этом.
-Ты и мне так сильно веришь?
-Тебе-то как раз больше всех верю.
-Неужели, Олг, правда, так веришь? – Она сжала его руку у локтя.
-Верю, Ольгуша, раз люблю, значит, верю, иначе я бы просто не смог…
-Доверяй, но проверяй, – тихо, не глядя на него, проговорила она. – Говорят, женщинам верить нельзя.
-Мало ли что говорят! Я счастлив, Оля, очень счастлив, и это главное! Я от этого своего счастья чувствую в себе такой душевный подъем, такие силы, такую жажду творить и работать, что горы могу своротить. Я и сворочу горы!
-Вот ты всё говоришь, красота, красота, – после некоторого молчания начала она, – а что же, по-твоему, Олг, красота? Как ты думаешь?
-Ну, наверное, это всё, что возвышает душу, делает её чище, совершеннее, – всё то, что ведёт к Богу, к спасению, я так думаю…В этом смысле я и понимаю мысль о том, что красота спасёт мир…
…Уезжал он на Шикотан в сильной тревоге за неё и свою любовь. В последние два месяца их встречи резко сократились. Оля всё ссылалась на страшную занятость, – и когда он, убежав с одной пары у себя в институте, приезжал к ней в университет, чтобы лишний раз повидать её, то находил её усталой, разбитой, изможденной. А иной раз она даже пропускала занятия. Всё время говорила:
-У мамы срочная работа, я ей помогала, просидели всю ночь.
Они перестали видеться встречаться в субботу и в воскресенье, потому что она предупреждала в пятницу:
-Олг, у мамы опять срочная работа, я буду помогать, не звони и не приходи.
Он умолял:
-Оля, ну я посижу в уголке молча».
-Нет, Олг, если ты будешь присутствовать, мы будем отвлекаться.
-Оля, что за срочная работа такая? Зачем вам с мамой надо надрываться по выходным?
-Да? А между прочим у мамы шубы нет, надеть нечего, в театр не в чем выйти! А между прочим, она ещё не старая, ей только сорок лет, и ей о личной жизни надо подумать.
Перед этими её доводами он отступал: она брала с него слово, что он не будет звонить, и они расставались до понедельника.
Её мать Нина Сергеевна, переводчица и одновременно машинистка в каком-то НИИ, печатавшая переводы с английского, французского и немецкого, – часто брала работу на дом и по целым дням, а то и по ночам сидела за столом, в табачном чаду, – эта худенькая женщина, стригшая коротко волосы, очень много курила, пила кофе крошечными глотками из миниатюрной чашечки, невесело, с налётом горечи улыбалась, скорее даже усмехалась, а не улыбалась, даже когда рассказывала что-то очень смешное, – и во всём её облике, особенно в двух складках вокруг рта, было что-то скорбное, поникшее и бессильное. Олегу казалось, что в Оленьке не было ничего от матери, кроме этих двух скорбных складок вокруг рта, если не считать, конечно, этой доставшейся от матери страсти к иностранным языкам.
Но однажды в понедельник он удрал с лекций и в одиннадцать был уже в университете. Нашёл по расписанию аудиторию её группы и, дождавшись звонка, вызвал её. Она вышла – опухшая, посеревшая, с синюшными мешками под глазами – и своим видом поразила его.
-Ольгушенька, что с тобой? – даже не поздоровавшись, спросил он.
-Опять просидели с мамой всю ночь, – проговорила она, прикрывая опущенными веками красные, слезящиеся глаза.
Она еле стояла на ногах от усталости, и в лице её было что-то поникшее и скорбное.
-Оля, ты с ума сошла! – закричал он. – Я сегодня же пойду к твоей матери и скажу, что так дальше нельзя!
-Не вздумай даже, – ответила она твердым тоном, хотя была даже не в силах поднять на него отяжелевшие веки. – Даже не вздумай…Очень срочная была работа, мы закончили только утром. Маме хорошо заплатят, очень нужны деньги…Я только два часика поспала…
-Но нельзя же так!
-Дай мне слово, что никогда не будешь заговаривать с мамой об этом, – потребовала она.
-Я не могу тебе этого обещать.
-Я поссорюсь с тобой, слышишь? Поссорюсь навсегда!
И только под этим нажимом он отступился и дал ей слово никогда не заговаривать с матерью на эту тему. Зато вскоре сделал ей предложение. Она не отказала, но и не сказала «да», ответила только, что надо подождать.
И он решил на каникулах поехать на Шикотан, на заработки, списался к этому времени со своим другом, с которым служил вместе во флоте, и тот выслал ему вызов для оформления пропуска.
IV
От ресторана «Невский» до гостиницы оказалось недалеко, и вскоре они вошли в широкий холл гостиницы, миновали двух швейцаров, которым спутник Олега показал какую-то бумагу, наверное, пропуск, сказав при этом, кивая на Олега: «Это со мной». У лифта, пока ожидали его спуска, а затем в лифте, когда поднимались наверх, парень давал Олегу последние «наставления»:
-Иди за мной и ничего не бойся, никто тебя не остановит…В номер сначала я войду, узнаю, что и как, а потом я выйду, а ты зайдешь…И деньги готовь, расплачиваться сразу надо.
Олег слушал парня рассеянно и отупело, всё так же избегая глядеть ему в глаза. Всю дорогу до гостиницы в его голове никак не укладывалась та мысль, что его ведут в «гости» на свидание с проституткой. А вдруг это она? Это, конечно, исключено, но вдруг? Он отогнал эту мысль и всё торопил минуту свидания, чтобы побыстрее всё разъяснилось. Но чем ближе подходили они к гостинице, тем сильнее он волновался, так что обмирало, а затем быстро-быстро, точно сорвавшись, начинало колотиться сердце, и сразу же делались ватными ноги. Ф лифте же от близости минуты свидания, которое было уже неотвратимо, и от одной только мысли «вдруг это она» его так резко затошнило, что он принужден был двумя пальцами массировать горло в области зоба, чтобы протолкнуть какой-то застрявший в горле и вызывавший тошноту комок.
-Да ты не волнуйся так, морячок! – тем же снисходительным тоном вдруг проговорил спутник Олега, от которого, вероятно, не укрылось состояние «клиента». – Ты не волнуйся! Впервой, что ли, с ними? Она сама тебе всё сделает!
Олег промолчал и, как только вышли из лифта, пропустил своего спутника вперед, а затем потащился за ним по коридору, ярко освещенному лампами дневного света. В коридоре не было ни души, – за столиком дежурной по этажу тоже никого не было.
Шли довольно долго, пока, наконец, парень не остановился перед каким-то номером с четырехзначным числом. Чуть помедлив, он три раза стукнул в дверь и, немного выждав, нажал дверную ручку вниз, открыл дверь и вошёл. Олег, весь дрожа и чувствуя, как подкашиваются ноги от слабости, остался в коридоре.
Прошла минута, не больше – так ему показалось, – парень вышел и проговорил:
-Ну, всё нормалёк, морячок, девочка ждёт, гони деньги, и я намылился!..
Олег достал бумажник из сумки, отсчитал двести пятьдесят рублей и отдал их незнакомцу. Тот бросил напоследок:
-Ну, будь здоров, морячок! Девочка – не пожалеешь…Понравится – приходи в «невский», только всегда в конце недели.
И он зашагал прочь.
Олег вошёл тихо, стараясь не клацнуть замком, точно был вор. Увидел торчащий в дверях ключ, запер дверь. Зачем – сам не мог бы объяснить. Впереди была ещё одна дверь с рифленым непросвечиваемым стеклом, он открыл её…
У окна, боком к нему, стояла и курила «особа» в шортиках со стройными ногами, длинными каштановыми волосами, спускавшимися на плечи, в розовой короткой блузе, так что видна была часть упругого тела. Он застал её в тот момент, когда она, вытянувшись, стряхивала пепел за окно, – одна из рам была приоткрыта. Он рванулся к ней, и только теперь она обернулась на шаги, – и прежде всего увидел широко открытые, полные ужаса и изумления «болотные» глаза.
-Ты-ы? – пролепетала она и попятилась к кровати. – Оле-ег? Как ты здесь оказался?
V
Всё началось ещё в начале апреля, когда Оленька одна пошла в бар гостиницы «Европейская». Бары она обожала по многим причинам. Во-первых, тут можно было запросто поболтать по-английски или по-немецки с каким-нибудь иностранцем; во-вторых, ей очень нравилась сама обстановка баров. Не потому, что ей так уж нравилось пить вино или коктейль, курить и именно здесь слушать музыку, но она с первого же раза, как оказалась в баре, поняла, ощутила всеми клеточками своего существа, что тут, в барах, как ни в каком другом месте, мужчины смотрят на неё и интересуются ею с одной известной только целью. И ей почему-то нравились эти взгляды и намёки и безумно волновала та мысль, что все мужчины, молодые и немолодые, готовы сорить деньгами только затем, чтобы добиться её тела. Это ужасно веселило её, забавляло, вселяло ощущение, какое с ней бывало только на «горках», самом «страшном» аттракционе в Луна-парке, куда они ездили вдвоём с Олегом. Она включалась в эту азартную, такую безумно волнующую игру, и ей нравилось балансировать на грани, ходить как бы по острию ножа, дразнить мужчин, и старых и молодых, давать им надежду и разом отнимать её, – и всегда она хотела чего-то такого, чего она ещё не испытывала и, быть может, никогда уже не испытает в жизни, – быть может, даже такого, чего ещё не было ни с кем в жизни, ни тс одной женщиной.
В третьих, бары при хороших гостиницах и ресторанах казались ей преддверием в какую-то другую жизнь, в другой мир, необыденный, прекрасный и даже сказочный, – с роскошью, с поклонением мужчин, с дорогими винами и духами, с дорогими нарядами, знакомствами со знаменитостями и интересными людьми. Но она никак не могла найти дорогу туда. Этот мир, казалось ей, начинался где-то этажами выше, – там в дорогих ресторанах и гостиницах, в офисах, где были бассейны, зимние сады, ковры, мягкая, роскошная мебель и где люди не заглядывали поминутно в кошелек и не считали денег.
Об этой другой, необыкновенной жизни, где впечатления менялись бы, как узоры в калейдоскопе, где она бы преуспевала и играла важную, видную роль, а в душе ее жила бы одна непреходящая радость, веселье и беззаботность, – об этой жизни она думала часто, как только стала сознавать себя. Но как шагнуть в этот мир, в этот «высший» свет, она не знала, не видела в него входа, и ей всегда хотелось встретить такого человека, который ввёл бы её в этот «высший» свет, распахнул бы в него двери, и она тогда бы сказала «прощай» тому миру серости, убожества и постоянного безденежья, в котором она жила. В какой-то степени она видела для себя выход в изучении иностранных языков и в университете нажимала на них, не жалея времени, – и теперь, в последние месяцы, к английскому и немецкому она прибавила ещё и модный, но очень трудный финский язык, на знание которого стал проявляться большой спрос. Она верила, да и Махотина ей внушала, что с помощью языков она ближе продвинется к желанной цели; она видела в знании иностранных языков тот трамплин, с которого она в одно прекрасное мгновение совершит головокружительный прыжок в эту прекрасную, сказочную жизнь. Но надеяться только на себя, рассчитывать только на собственные силы глупо и даже абсурдно, почти безнадежно. Махотина так утверждала, а она знала жизнь. Она утверждала, что без поддержки со стороны, без чьей-то помощи не обойтись.
С Олегом Оля познакомилась на областном слёте туристическом слёте студенческих отрядов, куда она попала случайно, так как не числилась ни в каких стройотрядах. Но подруги затащили её на этот слёт, достали приглашение, – было это в ноябре, два года назад. Олег поразил её своей неотступностью, страстным выражением карих глаз и даже своей «скобарской» тельняшкой. От него веяло силой, решительностью и ещё чем-то таким, чего не было в окружающих её ребятах. Её сверстники робели перед ней, и даже более старшие молодые люди не решались за ней ухаживать, а этот как пригласил танцевать, так и «прилип», ничуть не робел. На том вечере подруги увели её от этого «скобаря», но он отыскал её в многотысячной толпе, увёл от подруг и весь вечер был неотступен и интересен, не подпускал подруг, и это нравилось ей. Кончилось тем, что она увлеклась им, быть может, скорее из желания пооригинальничать и сделать назло подругам, да и в конце концов ей надоели вечно робеющие сверстники из её окружения, не смеющие даже притронуться к ней, и, кроме того, ей всегда хотелось иметь около себя хорошего, надёжного, решительного парня, видного поклонника, во всяком случае оригинального, – такого, чтобы не страдало её тщеславие от того, что он не хорош собою, а тем более не оригинален. А Олежка был видным поклонником, во всяком случае слыл оригиналом. Одна его тельняшка чего-то да стоила, это, пожалуй, то же, что и кирзовые сапоги у Шукшина, когда тот приехал поступать во ВГИК. И, кажется, Шукшин тоже ходил в тельняшке, – она где-то слышала или читала об этом.
Для будущего же она всерьез не имела его в виду, хотя никогда и не сбрасывала со счетов. Он был ей интересен, порядочно знал, устраивал как сексуальный прартнер, но что особенно удерживало ее около него, так это утверждение, что он станет знаменитым писателем. А вдруг, и правда, станет знаменитым? Скобари – они настырные, упорные, талантливые и оригинальные, они не похожи на изнеженных, инфантильных мальчиков из её университетского окружения. Теперь же ей хотелось иметь около себя всегда поклонника, легкого на подъём, готового в одно мгновение вместе с нею сорваться с места и помчаться хоть в Петергоф, хоть на Охту, – в любую погоду и без гроша в кармане. Единственное, что было неприятно ей и что пугало её, так это упорные речи о браке, – ведь он уже не раз делал ей предложение! Но она всё отшучивалась, говорила, что ещё рано замуж, но не лишала его надежды. Ей ужасно нравилось то, что он боготворит её и ради неё готов на всё, – и когда он так проникновенно, так искренне называл её «мадонной» и «ангелом», ей хотелось прижаться к нему, приласкаться и не расставаться уже никогда. Но временами ей казалось, что он боготворит не её, вернее, не столько её, сколько свой идеал, какую-то им придуманную девушку, и это тоже пугало её. К тому же со временем с ним становилось всё сложней и несвободней, он относился к ней всё серьезней и требовательней. А ей хотелось легкости, веселья, раскрепощенности; хотелось не обычного, а оригинального секса, но чтобы это ничем не осложнялось, никакими обязанностями и обязательствами. А он уже заговаривает об их общем, совместном будущем! Это не входило в её планы, по крайней мере, в ближайшее время.
VI
Однажды ей удалось сквозь многочисленную толпу жаждущих прорваться в бар при гостинице «Европейская», – и там, получив у бармена свой коктейль, она около получаса всё никак не могла найти себе места. Но потом, совершенно неожиданно, ей предложил сесть на один с ним стул какой-то молодой, черноволосый, красивый иностранец, которого она сначала приняла за югослава, сносно говорившего по-русски. Оленьке его предложение показалось странным, и она хотела было отказаться, но потом подумала: «Как это всё же мило с его стороны!» – и согласилась. И выяснилось, что иностранец вовсе не югослав, а грузин, говоривший по-русски с большим акцентом и многочисленными неправильностями в произношении, ничуть не лучше иностранца. И этот его акцент и неправильности были так милы и смешны, что сразу понравились ей, расположили к нему. И ещё выяснилось то, что он даже не грузин, а ассириец и зовут его Бадри. И это уже заинтриговало Оленьку и даже восхитило; восхитило и имя его, которое она произносила несколько раз, переделывая его по-своему: «Ба-дри, Бо-дря», играя ещё и словами, помимо своей обычной, привычной игры с мужчинами; восхитило её и то, что он такой экзотической, древней национальности – настоящий иностранец! Ассириец все-таки, а не какой-нибудь югослав, а тем более грузин. Этот Бадри оказался мил, щедр, любезен, весел, очень смешлив; у него над верхней губой, в усах была розовая, не заросшая волосами ямочка, такая милая, что Оленьке захотелось поцеловать его в это место, и сидя с ним на одном стуле, она чувствовала волнение от его близости, от его какого-то очаровательного, как она потом узнала, турецкого одеколона; угадывала по его блестящим глазам, что он безумно желает её тела, и её пьянило ощущение своей силы и власти над мужчинами. И уж совсем её восхищало то, что Бадри не мог правильно выговорить её имя, а называл её смешно, с таким смешным акцентом – Олой. «Не Ола, а Оля», – поправляла она его. Но он, строя милую, смешную рожицу в попытке правильно произнести её имя, всё равно повторял: «О-ла!» – И она хохотала от души над этим милым и смешным Бадри. А уж когда подошёл приятель Бадри Нодар и спросил, куда он, Бадри, пойдет после окончания, когда закроется бар, и когда этот Бадри, вздохнув страдальчески, проговорил: «Пойду куда-нибуц з Олом», – уж как хохотала она тогда! И ямочка в его усах казалась ей ещё1 милее, сам он ещё оригинальнее и желаннее. «Не з Олом, а с Олей», – поправляла она его, но он упорно повторял: «Нет, з Олом».
А уж когда в конце вечера она узнала, что Бадри остановился в «Европейской» как настоящий иностранец, то была просто очарована и на его предложение пойти к нему в гости в его номер, охотно согласилась. Это предложение не показалось ей предосудительным, но главное, ей не хотелось в этот вечер расставаться с милым, очаровательным Бадри, а хотелось продолжить ту игру, в которую она с ним играла.
В его отдельном номере во втором этаже она ещё больше восхитилась и совершенно опьянела и от ковров, и от зеркал, и от мягких кресел, от высоких потолков, от голубого кафеля в ванной комнате, от красивых тяжелых портьер на двух окнах, от мандарин, от чудесного вина «Изабелла», которым он её угощал. Но ещё больше она опьянела от близости к тому сказочному, прекрасному миру, который чувствовался уже здесь, во втором этаже, в номере Бадри. И пока Бадри принимал душ, она ходила по номеру, всё трогала руками, щупала, хмыкала, рассматривала, восхищалась…Не потому, что всё было так уж по высшему разряду в её понятии; и не потому, что она была такой уж мещанкой, падкой на вещи и шмотки, – она знала, что она не мещанка, потому что была счастлива, радостна и весела, не имея ни гроша в кармане, – но её всегда поражало, как поразило и теперь, у Бадри, разница между мирами, – тем, в котором она жила, с его коммуналками, грязной, обшарпанной ванной, склочными соседями, ободранным линолеумом, с его «колодцами и счётом каждой копейки…И этим, в котором она случайно оказалась – с его коврами, голубым кафелем, мягкой мебелью, и её мучила несправедливость всего, и непонятно было, почему эта разница существует, в чём её причина. В чём? В чём? В чём? Чем особенным отличается от неё и от Олега этот грузин-ассириец, что он может позволить себе такое, а они – нет? И впервые сожаление о себе и своей жизни так остро мучило её!