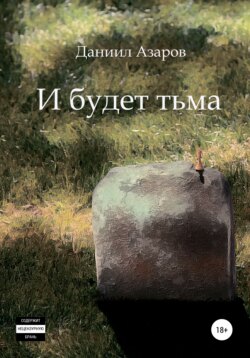Читать книгу И будет тьма - Даниил Азаров - Страница 1
Покаяние
ОглавлениеСтарик сидел в своем любимом массивном, кресле и задумчиво жевал кончик черной шариковой ручки. Света настольной лампы хватало с трудом, чтобы разогнать полумрак кабинета у самого стола, но этого ему было достаточно. Он склонился над чистым листом бумаги, секунду помедлил и начал писать.
Дети мои. Я был жесток с вами.
Нахмурился, перечитал первую строчку, скомкал бедную страничку и выбросил мятый шарик в темный угол, где валялось уже с полсотни его собратьев
Слова никак не хотели ложится на бумагу. Такие простые, обыденные фразы, которые он использовал миллионы раз, которые в голове шли ровными аккуратными рядами и складывались во впечатляющие громады – отхаркивались на бумагу, словно комки шерсти. Это раздражало невероятно.
Он взял из лежащей рядом стопки очередной белый лист и положил перед собой. Провел по его поверхности морщинистой желтоватой рукой, убирая невидимые пылинки. Откинулся в кресле, тяжело вздохнул, негодуя сам на себя, на свое, неведомо откуда взявшееся, косноязычие. Он даже представить себе не мог, что написать обычное письмо будет так трудно. Просто вылить на бумагу все то, что скопилось у него на душе за долгие годы. Казалось, многое из того, что трудно сказать, гораздо проще написать.
Идея с письмом пришла ему довольно давно. Затянувшееся разочарование в собственном существовании переросло в угрызения совести и переоценке всего, что он сделал. Благие помыслы теперь казались исполненными эгоизма, а вынужденная жестокость превратилась в упрямую кровожадность. И от осознания всего этого становилось только хуже.
Преданность в глазах своих детей он воспринимал, как подобострастие, а в их грустных улыбках видел лишь покорную затравленность маленьких зверьков. Что-же он с ними сделал. Когда? Как так получилось?
Он снова взялся за ручку.
Дети мои, Я создал вас для любви, но воспитал во страхе. И в этом моя вина
Да, так уже было неплохо.
Вы не знали материнской ласки, но я не думал, что это так важно. Теперь я понимаю, как ошибался. Я хотел, чтобы вы стали помощниками моими, но превратил вас в свои орудия. Мне горько это осознавать.
Он перечитал только что написанное и скривился. Напыщенная дрянь.
Старик открыл нижний ящик стола, достал початую бутылку виски, такую старую, что прочитать название на этикетке уже было невозможно. Порылся глубже, извлек из недр того же ящика стакан, дунул в него и плеснул темно янтарной жидкости. Он отхлебнул добрую половину, покатал во рту, проглотил одним большим глотком.
Откинулся в своем кресле, прикрыл глаза и позволил расслабляющему дурману алкоголя завладеть мыслями.
Воспоминания. Он считал это единственное, что осталось от него самого. Одни воспоминания. Но даже они играли с ним злую шутку, растворяясь в дымке прожитых лет, теряясь в череде постоянных событий.
Да, он был стар. Невероятно стар. Он даже считал себя бессмертным, правда за маленькой оговоркой. Его никогда не пытались убить. Однако, это не была какая-то немощная дряблая старость. Нет. Он был как огромный вековой дуб, и каждый новый год только добавлял жизни мощным корням. Это было его проклятие. И это было его силой.
Вот только… память. Она не желала мириться с прожитой вечностью.
Он не помнил своих родителей. Он даже не был уверен уже в их существовании. Детство было сплошным черным пятном. Первое яркое воспоминание было о том, как он только создавал этот мир. Как старательно и педантично собирал первого человека. Как вдыхал в него жизнь.
Свой, по-настоящему, детский восторг, когда у него все получилось, и его новая игрушка открыла глаза.
Потом снова смазанные сполохи.
А вот, удивительно отчетливо, он вспомнил потоп и старика Ноя. Тогда весь его мир заболел какой-то непонятной болезнью, вирусом, как сейчас говорят, что безжалостно выкашивал целые деревни. Даже он ничего не мог с этим поделать. Он велел собраться еще здоровым людям на большой лодке и смыл всю эту дрянь. Можно сказать – провел дезинфекцию. Они с Ноем отлично тогда коротали вечера за шахматами.
Он ухмыльнулся. Старый еврей очень не любил проигрывать и его детям всегда доставалось, если они попадались под руку после очередной игры. Почему-то ему нравился этот склочный дед. Может, потому что был одним из немногих, кто не раболепствовал перед ним. Ничего не просил. Не клянчил здоровья своим старым суставам.
– Вот ты Бог, а я кто перед тобой? Муха. Но… – тут он всегда наклонялся вперед и слегка понижал голос, – я старая и умная муха. Я еще возьму твоего короля, вот увидишь.
Старик встал с кресла и потянулся, разминая затекшие суставы. Прошелся вдоль книжных шкафов, стоявших вдоль стен всего кабинета, трогая корешки древних пыльных фолиантов, бывших вперемешку с новыми лакированными изданиями. Возле одной книги он остановился, осторожно достал ее с полки. Хотя назвать это книгой можно было с очень большим трудом. Разномастные листы почти прозрачного от старости папируса, вперемешку с небольшими квадратиками из выделанной кожи. Он вытащил из переплета страницу наугад.
Кто бы мог подумать тогда, что похождение двух жуликоватых братьев-близнецов породят написание первой такой книги.
Один из них объявил себя Сыном Его, и они стали ездить по деревням, проповедовали, а под шумок дурили головы крестьянам, собирали деньги и показывали фокусы. Однажды всю ночь таскали огромные камни в озеро, чтобы на следующий день пройтись по нему "аки по суху".
Старик смотрел на картинку на папирусе, изображающую идущего по воде человечка, и тихо смеялся.
Их предприимчивость не знала границ. Даже когда одного из них поймали местные власти и распяли, чтобы доказать недалеким подданным, что чудес не бывает, второй выкрал тело и объявил его воскресшим.
Он вспомнил, как вытянулось лицо прокуратора, когда ему об этом сообщили, и засмеялся еще громче.
А ведь именно они тогда натолкнули его на мысль о детях. Нет, конечно, он не питал никаких иллюзий в отношении своей совместимости с их женщинами. Само собой нет.
Он создал себе ангела, маленького первенца. Он очень хотел, чтобы тот умел летать, и дал ему крылья.
Денница. Его самый любимый сын. Люцифер.
И самая большая его боль.
Смех растворился угас в полумраке кабинета.
Старик постоял еще немного, глядя в одну точку, а затем вдруг размахнулся и швырнул книгу через весь кабинет. Тонкие листки папируса разлетелись во все стороны, беспомощными мотыльками, опадая по всему кабинету. Обложка глухо стукнулась о стену где-то в темном углу, и толстый ковер поглотил звук ее падения.
Только сейчас он смог признаться сам себе, насколько ненавидит эту книгу. Собрав в себе массу сказок и легенд, имевших мало общего с реальностью, она, в разных своих ипостасях, умудрилась нанести столько бед и горя его любимым созданиям, что даже ему не всегда хватало сил вовремя потушить очередной "крестовый поход". Он понимал, что зачастую, книга была лишь предлогом и оправданием неуемной жадности и стремления к власти очередного "духовника". Но лучше от этого не становилось.
Старик вернулся к столу, налил себе еще, залпом выпил. Яркая вспышка памяти больно резанула по глазам, и он, шатаясь, ухватился за край стола.
Два пылающих города. Его дети, пикирующие хищными птицами, низвергали его пылающую благодать. Где-то там, внизу, скрылся своенравный Денница. Глупые люди укрыли его от гневного взора Отца. Они все поплатились за это.
И в том огне родился Люцифер.
Мы все совершаем ошибки. И расплата за них может быть очень жестокой.
Глаза горели от слез.
Почти наощупь он добрался до кресла и тяжело опустился, схватившись дрожащими руками за массивные подлокотники.
Он изменился, а с ним менялся созданный им мир. Его гнев, нерешительность, сомнения – все отражалось в его творении. Иногда обычным наводнением, иногда и многолетней войной. Даже сейчас он чувствовал, как от злости и слез приходят в движение вековые равнинные плиты, стирая с лица земли очередную небольшую деревушку. И как его дети равнодушно смотрят на это – "Папе снова грустно, бывает".
И тогда он понял, что ему нужно написать. Он взял новый лист, изрядно погрызенную ручку и склонился под светом настольной лампы.
Потом отстранился, посмотрел на результат, перечитал и остался доволен. Да, это именно то, что он хотел.
Он отложил лист на середину стола, придавил сверху ручкой. Затем взял полупустую бутылку и запрокинув голову, отхлебнул прямо из горла.
Петля была там, где он ее создал. Мерно покачиваясь, висела над самым креслом. Не сводя с нее глаз, сделал еще глоток, отшвырнул бутылку куда-то в глубь комнаты.
Он забрался на кресло, на всякий случай подергал веревку, берущую начало прямо из темных досок лакированного потолка. Удовлетворившись результатом, просунул голову и затянул петлю у основания шеи. Окинул прощальным взглядом свой кабинет, темнеющие стеллажи книг, высокий деревянный глобус у дальней стены, свой любимый стол, с лежащим посередине одиноким листом бумаги… и резко оттолкнул кресло ногами.
Оно с грохотом упало, ноги задергались в бессознательной попытке найти точку опоры. Старик в петле захрипел, вскинул руки, ухватился за веревку, нечеловеческим усилием подтянул свое тело вверх. И резко отпустил.
Раздался звонкий, почти мелодичный, хруст. Его тело обмякло, безжизненно повисло в петле.
Но звук этот не угас, а стал только громче. Теперь вокруг словно трескались мириады хрустальных бокалов. По одной из стен протянулась зигзагом глубокая трещина, побежала по потолку и замерла возле висящего тела. Стоявший по правую сторону книжный шкаф затрещал и взорвался сотнями хранящихся в нем книг. Вся комната заходила ходуном. В огромную, обитую железом дверь кабинета кто-то неистово бил кулаком. Вторая трещина заструилась по потолку, змеей пробираясь к висящему телу старика. Остальные шкафы тоже начали один за другим с треском взрываться, усеивая толстый ковер клочками разорванных страниц. Хрустальный звон перешел в крещендо и безумным вихрем гулял по комнате, разрушая все вокруг. Казалось, весь кабинет уже был покрыт паутиной трещин, центром которой было висевшее под потолком тело мертвого бога.
Затем все внезапно замерло, звук пропал и по кабинету прокатилась волна невидимого жара. Все, до чего она касалась, пузырилось, вздувалось распухшими черными волдырями и лопалось, обнажая обугленные внутренности.
Через несколько секунд в кабинете не осталось ничего, что напоминало бы о его прежнем владельце. Только покачивающееся в петле тело и чудом уцелевший стол рядом.
И на середине стола, ярким белым пятном, средь черного безмолвия, лежал прямоугольный лист бумаги, придавленный черной ручкой с изжеванным колпачком.
Простите меня, дети мои. Ибо я согрешил.