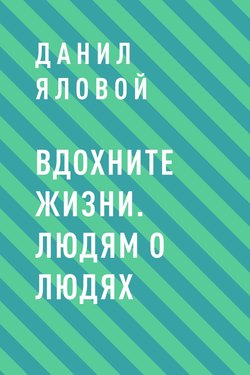Читать книгу Вдохните жизни. Людям о людях - Данил Александрович Яловой, Данил Яловой - Страница 1
ОглавлениеОт автора
Когда я понял, что ничего не умею, то стал писать книги и называться писателем. Жена потворствовала мне в этом. Есть в таком признании самому себе невидимая другим точка. В ожиданиях. В целях. А вернее всего оно соответствует савану, в который я завернул свои амбиции.
Теперь они разлагаются.
Слишком примитивно всё когда-то начиналось – время учиться. Для своих детей. Для людей вообще. Для тех, кто не умеет оставаться равнодушным к происходящему. И здесь не столько страха перед перспективой исчезнуть из памяти, сколько искреннего порыва донести всё, что трогало и цепляло при жизни.
Раскрыться самому.
Совсем не кстати, но тоже нужно: такие вещи, как, например, «Аллегория», «Созрело», «Тропы», «Не вдыхай», «С большой буквы» и проч. возможны только среди вспомогательных построений. Они и подворачиваются под руку всегда вовремя. Или же я намеренно ищу их, чтобы не тронуться умом, не уйти очередной раз в запой, не наломать дров. Местом для хранения таких штук я поначалу выбрал страницы другой книги, однако позже включил их эту: пусть будут, ведь они – нутро моё. Да и композиция их созвучна с природой тех чертей, которые гнездятся внутри, время от времени показывая свою личину.
На читателя не рассчитывал, и это предисловие пишу много спустя, – теперь, когда понимаю, что книга зажила своей жизнью, как бы пошло это не звучало. Реже – безграмотно, чаще – жёстко, местами – грязно и пафосно, не без бахвальства, она разговаривает со мною. Слишком заглавной вышла буква «Я» и в прозе, и в личной жизни. Время спускаться до прописных.
Придерживался коротких форм, потакая современной тенденции социальных сетей и бешеного ритма жизни. Страшно осознавать, что времени на что-то серьёзное – его просто нет.
И, кажется, уже не будет.
Август, 2020. Москва
В тени орешника
На непокрытой сетке кованной металлической кровати в тени богатого орешника сидит, опёршись обеими руками о клюку, Александра Игнатьевна. Глаза её мутны и уже почти не видят. Ей далеко за девятьдесят от рождения. И голова её светла не в пример глазам.
Горячий ветер, поднимаясь от подножья гор, шевелит широкие древесные листья и, поостыв в тени, играет краями хлопчатобумажной косынки, покрывшей седую голову Игнатьевны. Невероятно, чтобы женщина сейчас вспоминала какие-то события из своей жизни. У неё другие, совсем приземлённые заботы; как и у всякой хозяйки. Она не знает, что мы поднимаемся в гору и уже скоро навестим её, оставшись гостевать до вечера.
Может, Игнатьевна ждёт, пока закипит вода в чайнике, ибо на столе, что тут же, под старым орешником, приготовлено блюдце с клубничным вареньем и хлеб, заботливо покрытый утиральником; его обсиживают мухи.
А точнее всего Александра Игнатьевна вышла к соседке, которая навестила её ранее. Теперь женщины сидят во дворе у стола в тени широкого орехового дерева и собираются полдничать. Соседку зовут Татьяной, а по отчеству – не знаю. Того не сказывали во всё время нашего там пребывания. Татьяна – и Татьяна. Да она так и просидела до вечера, не меняя положения, не обронив ни слова. Слушала и улыбалась еле приметной улыбкой о чём-то своём.
Откуда столько сил и свежести? Откуда столько любви к жизни, полной лишений и трудностей? Какая красивая старость.
Помню, я тогда искренне восхитился чистотой её сухой кожи, натянутой на кисти рук и лицо. Глубокие, многие числом морщины паче всяких слов сообщили об этой женщине столько, сколько она сама не сказала во всё время нашего визита. Теперь они – её драгоценности. Она носит их, не снимая.
Да сын ещё. … но до того – ещё время: пока же мы только поднимаемся вверх по горной дороге, поднимая тучи пыли и задерживаясь на крутых поворотах.
Я помню это селение. Мне было три, когда бабушка с дедушкой покинули его, переехав на равнину. Помню высокую ель во дворе. Она мне не верит.
Да вот же, говорю, проезжая когда-то принадлежавший им двор, вот: здесь! Верно, внучек. Здесь. «Да ты не поверишь, – продолжает бабушка, – Николай, Царство ему небесное, в одно утро вышел на улицу, стал так и стоит. Что случилось, спрашиваю, Коль? А он мне: я, говорит, здесь и умирать буду. Представляешь? Такая тут красота! Да, внучек, любил он выйти утром и смотреть на горы. Сейчас поднимемся по этой улице в самый её конец, сам увидишь: оттуда весь кавказский хребет как на ладони. Здесь налево, кажется. Я забыла, Даня. Спроси у местных».
И я спрашивал дорогу у сидящих на лавках стариков. «Как проехать к Игнатьевне?». «Да так и поезжай: вдоль речки, от поворота третий дом направо».
Потом мы стояли у калитки и выкрикивали её отчество. Как же она обрадовалась, угадав! По голосу. Не сразу. Долго всматриваясь в наши силуэты, осторожно касаясь одежд, лиц на сближении.
Меня помнит с малых лет.
Стала рассказывать, как я – то, я – это. А я не помню. И всё норовила дотронуться, обнять, прижаться своей щекой к моему лицу. И – сбивалась, силясь донести всё из памяти своей. Будто переживая о том, что не успеет поведать всего, что дорого.
Я сел рядом, чтобы ей было проще.
Да знает ли она, что тот Даня, которого она помнит, уже давно вырос? А если знает, отчего же тогда не изменилась эта её любовь к тому, которому только три? Не остыла.
Не осталось от того мальчика ни намёка, а вот поди ж ты… И – то привстанет, то – прижмётся. Экая… в крайний раз видела меня тридцать два года назад, а теперь вот…
Бабушка моя, Любовь Сергеевна Яловая, та часто бывает в гостях у старой Игнатьевны. Три, говорит, у меня замечательных подруги есть: кумушка моя, Раечка, соседка Люба и Игнатьевна. Весной справляли ей юбилей.
Вскипела вода, разлили по чашкам, и стали женщины вспоминать, о чём дорого. Мужей своих, детей и учеников. Кто кого в этой жизни держался и как кого выручал в трудный час. И сын её тут же, у стола. Угостил колодезной водой. Я попросил. Сулил орехов и груш в сентябре. Снова я не удержался: вышли, говорю, Василий Васильевич, посылкой.
Мы уж осенью не приедем в гости.
01.07.2019, Москва, Суздальская, д. 10
Моралите: цена
Когда моя дочь говорит мне, что вырастет и станет балериной, я верю ей. В том смысле верю, что не сомневаюсь в искренности её слов, – мечтаем и радуемся вместе; с невозвратными намерениями примеряем в магазинах балетки и юбочки. Как никогда смеюсь, если у неё вдруг получаются сложные pas.
Когда твой сын говорит, что вырастет, станет богатым и купит тебе крутой внедорожник, ты веришь ему. Нельзя не верить: дети не лгут. Это – нормально. Когда-то и я обещал своей матери: «Вырасту – стану генералом». Она верила мне. Я не стал генералом.
И многие из тех, кто был повязан со мной одним годом рождения или улицей, не стали космонавтами, балеринами, президентами и миллионерами; многие так и не купили своим матерям обещанные автомобили. Я в их числе. Не потому, что мы лгали тогда, а потому что с возрастом поменялись приоритеты, наметились другие цели. Реал продиктовал нам свои условия; детерминировал не-обходимыми обстоятельствами личность каждого из нас – это были почти осязаемые границы возможного. Многие оказались не способными к тем идеалам, которые лелеяли для себя в детстве. И это – нормально.
Когда ты говоришь «люблю тебя», я верю. Не сомневаюсь в искренности твоих слов. И нужно быть достаточно взрослой, чтобы не обижаться на пустоту в ответ. Во-вторых, «и я тебя люблю» звучит, как условия какой-то не совсем чистой сделки; а во-первых, это не значит, что я не люблю: всего лишь требую для своего «люблю» надёжного основания. И такого же основания я жду для твоего. И о, если бы оно находилось под наростом долгих лет, прожитых вместе! – то было б достижимым. Но искомые основания лежат даже за пределами всех мыслимых координат. Они вне времени и пространства.
Мне боязно сказать «люблю», ибо я стану заложником своего слова. Нужно проглотить много обид и несправедливостей, выжрать самые ядовитые грибы солипсизма, сгнить до самых костей от проказы ревнивости, пройти через самые тяжёлые внешние и внутренние испытания, вынести непосильные трудности сосуществования, остаться целыми при этом и – вдвоём. Тепе́рь только твоё и моё «люблю», даже не озвученные, приобрели ценность.
Тепе́рь только ты балерина, я – генерал.
2017
Ирка-паскуда
Со дня смерти Коня никто в селе не буйствовал, если не считать единичных выходок какого-нибудь подшабашившего и запившего забулдыги. Умер Конь много лет назад, когда Люба, младшая дочь его, только вступала в самостоятельную жизнь. А тут пошло вдруг: ненавистная Ирине Петровне то ли родственница, то ли иждивенка ежедневно, – от самого дня своего возвращения в посёлок в прошлом году, – и еженощно выкидывала какую-нибудь злую шутку. «Выжить меня хочет, сука!» – жаловалась Петровна.
Каждое утро с соседкой случалась какая-нибудь новая неприятность, и Тамара Ивановна, двоюродная сестра страдалицы, принимала ту в своём доме и помогала по мере своих сил. Сил оставалось мало: в самое лето, когда дел невпроворот, – так, что не успеть до ночи, приходилось сносить и эту обузу: искать какие-то выходы, думать и соображаться с обстоятельствами, чтобы хоть чем-то помочь Ирине Петровне в её горе.
И горя – хватало.
Сегодня выяснилось, что Петровна ночевала во дворе, – домой её не пустили. Возмущению Тамары Ивановны на этот раз не было предела. Зло и громче, чем следует, она отчитывала Ирине Петровне за слабину, за попустительство; та не смела возражать и ушла ни с чем.
Жаль было и сопливого Егорку, почасту и подолгу просиживающего в песочнице на заднем дворе у Петровны; плачущего, скулящего, голого и голодного без мамки, никогда со двора не выходившего и ни с кем из местных мальчишек знакомств не водившего. «Да что же он, Петровна? – спрашивали соседку с заботой, – чей же он?». «Еёный, сукин. Хуй знает, с кем нажила!», – отвечала Ирина Петровна и сплёвывала в гневе под ноги.
Иной раз Тамара Ивановна и Ирина Петровна возвращались вместе, чтобы припугнуть дерзкую сожительницу, пригрозить, образумить по возможности. В другой раз, когда понимали, что ни угрозы, ни добрая беседа не помогают, надумывали звонить в район, чтобы искать управу на проклятую дебоширку у властей. В районе разводили руками, мол, нет состава преступления.
Когда же испуганная Петровна в очередной раз влетела в дом Тамары Ивановны и подняла шум: газ! «Сука проклятая, – грозила в сторону своего двора Петровна, – зачем, спрашиваю, ты включила газ! Удушить меня хочет!», все растерялись окончательно. Бежали к соседке, открывали окна и проветривали помещения. Возвращались запыхавшимися, с ещё не осевшим чувством минувшей катастрофы: газовые конфорки были открыты давно, – смрад чувствовался далеко на подходе к несчастному дому.
А так, если не считать этих эпизодов, всё шло своим чередом – не лучше и не хуже, чем в любой другой год: починялся старый штакетник, менялись прогнившие полы в прихожей, воспитывались внуки и внучки, проводившие лето в гостях у бабушки, прокашивалась трава, выкладывались дорожки, собиралась ягода в полях, грибы в лесу, просушивались в тени навеса листья Иван-чая, мяты и горлицы, плодилась домашняя тварь, пропалывалась и окучивалась картошка, взрастали помидоры и наливались соком огурцы. Всему нужно было уделить внимание, время и заботу; всё радовало своей необходимостью, и только отвратительная личность, проживающая у Петровны, нарушала размеренное спокойствие сельчан.
По вечерам Тамара Ивановна на правах вдовы Александра Викторовича, – того самого Коня, гордости и головной боли посёлка, – собирала на передах односельчан: соседи и соседки, соседские дети и внуки, приезжие их родственники и гости роем ютились в тесном дворе хозяйки, рассказывая наперебой, слушая жадно, советуясь и делясь откровенно. Точнее, Тамара Ивановна и не собирала никого в прямом смысле этого слова: как-то так получалось, что люди сами шли к ней. Шли туда, где уютнее, гостеприимнее, веселее. Получалось, что – к Тамаре Ивановне.
И засиживались до глубокой ночи.
Ирина же (не знаю, как по отчеству), – та, что никак не могла ужиться Петровной, никогда не приходила. Да никто её и не звал. И по имени-отчеству к ней тоже никто не обращался: для всех она была Иркой-паскудой. Зато приходила Ирина Петровна и, не стесняясь в выражениях, возмущалась, ища помощи и поддержки. «В конец обнаглела, проклятая: мужика в дом привела! – рассказывает, – захожу, а он – голый!». И эта новость вызывает недоверие в среде баб. «Ты кто!? спрашиваю, убирайся к чёрту! Я здесь живу!». И мы удивляемся в голос разнузданности её сожительницы. Иные соседки, – те, кто позлее, – откровенно смеются такому случаю: «Гляди, Петровна: авось, забыла, как там всё устроено! Так одним глазком подсмотреть – и то приятно».
Сам я, будучи женатым на младшей дочери Лаврухина ст., о котором в начале, много раз слышал о буйном нраве тестя. Иной раз, признаюсь, говорю себе: «И хорошо, что не застал. И хорошо. И – слава Богу», а в другой раз сожалею: «Эх, не дожил батюшка! Ах, сейчас бы… кутнули, Люб! А? За первые два зуба внучки кутнули бы…». «Кутнули бы…» – мрачно кривит рот улыбкой жена, и оба мы понимаем: кутнули бы. Уж он, верно, нашёл бы управу на блатарку.
«Украли!» – закричала вдруг с улицы Ирина Петровна, подходя к нашему двору. Это случилось уже ближе к вечеру. Окружили её, стали выяснить, что, да как. Оказалось, исчезли три золотых кулона. «Кто?». «Да – Ирка! Кто ж ещё!?», – и мечется по двору, в дом зайдёт, там – из угла в угол и обратно на улицу, не в силах успокоиться. Тамара Ивановна – следом. Где искать? У кого спрашивать? «Может, оставила где и забыла?». «Нет, Томар! Это она, гадина! Я весь дом перевернула: нету. Украла! И уехала в район, – нет её дома. Как есть, за бутылку водки отдаст! Генка меня убьёт, если узнает! Да как же я теперь!?».
Тамаре Ивановне оставалось только разводить руками, да просить Петровну вернуться домой, чтобы ещё раз внимательно проверить шкафы, посмотреть под кроватью, в комоде, в одежде. Та не слушала и всё кому-то звонила, что-то просила, о чём-то доказывала… Мы, все мы, находившиеся во дворе, понурили головы, в полголоса переговариваясь о чём-то своём. Что касается меня, то в какой-то момент я устал от суеты и ушёл в дом, чтобы написать о Петровне.
В том году у неё диагностировали шизофрению.
02.06.2020. Пос. Новопетровский Тульской обл.
По нотам
Иду. Курю.
Есть какое-то неуловимое для постороннего человека отличие вод, протекающих через город Петра, от Москвы. В который раз пробую загнать в слова её, эту тень истины, но хватаю только воздух. Всё, что я успел сообразить на этот счёт до сего дня, сводится к тому, что Нева монументальнее. И воды её волнуются по-другому; грандиозно.
А небо такое же, как если бы ты не продался.
Думая обо всём этом, я, наконец, покинул набережную и обогнул императорские конюшни. Вдоль восточного фасада в сторону Невского проспекта, ленно и не спеша, шла молодая пара. Остановились они за мостом, у Спаса на Крови. И так вышло, что я нагнал их. Он повернул девушку к себе лицом, вложил в её ухо этот как его стручок, приглашая послушать что-то, и закатил глаза к небу.
Что же я не знал, как она прекрасна?
Та с интересом смотрела на него. Потом молодые люди начали чуть заметно покачивать головами из стороны в сторону (видимо, в такт музыке), со временем наращивая амплитуду; повернулись синхронно и пошли в пляс. Незадолго до парень, спуская взгляд с небес на землю, задержался на мне и улыбнулся, будто приглашая стать участником какого-то заговора.
Переступи черту впервые за сто лет.
Он изящно объял её за талию и, временами выпуская, позволяя той делать нелепые обороты, жестикулируя и громко вторя вокалисту, понёс! Понёс! Они парили прямо над землёй. Он снова заключал её в свои объятия; выпускал, удерживая и снова прижимая к себе, кружил! Кружил! и – пел. До самого проспекта. Она была послушна в его руках; смеялась в голос и никого не стеснялась.
Эй, а кто будет петь, если все будут спать?
Встречные теснились на узком тротуаре, сторонясь; полагали, наверное, что молодёжь напилась. Кто-то из прохожих улыбался. Я шёл за ними. Просто так, – от того, что мне некуда было спешить этим утром. Сквозь жидкую одёжу нещадно пронизывал холодный ветер, наращивая скорость в узком для себя городском пространстве. И я тогда подумал, помню, что невозможно всю жизнь петь и плясать: когда-то придётся и поплакать.
Мы будем пить и смеяться, как дети.
Вышед на Невский, ребята свернули налево и, срезав Садовую, нырнули в Del Mar. Поодаль от входа в ресторан я остановился. Подставил своё лицо ещё не светлому небу, но уже и не чёрным тучам. Закрыл глаза. Глубоко вдыхал запах горячего хлеба. Город шумел, и этот гвалт только вдохновлял в меня жизнь.
Ну, где ты была эти дни и недели?..
Мне бы хотелось, конечно, зайти сейчас туда. Не потому, что я нёс какие-то намерения в отношении той пары: наши пути просто совпали, и я не без интереса наблюдал их всю дорогу. Хотелось поесть горячего. Да: сначала я бы попросил чашку сладкого чая с лимоном и имбирём, а затем тарелку харчо, например. Или плова. С какой-нибудь горячей лепёшкой.
Одевайся, пойдём. Чудовищно пахнет гарью.
Я знаю её. Ту песню, под которую они танцевали. Ведь он пел её вслух. И она подпевала. Но только в некоторых местах. В тех, которые успела схватить умом: «Напои допьяна, весна! Напои допьяна-а-а, весна!..». Когда такая музыка сопровождает счастье, всё становится иначе. И причина не в том, что я-де вырос на текстах и музыке Ревякина, скажем, или Шевчука. И попс можно послушать, и deep иногда – с большим удовольствием. Однако в самые ответственные минуты в голове звучат аккорды, нагруженные смыслом.
Когда ты всюду одни – это spleen.
Сквозь плотный поток автомобилей со стороны Садовой улицы пыталась протиснуться машина скорой помощи, крещендо расточая в округу спецсигналы. Когда они стали невыносимо-громкими, я открыл глаза. Оказалось, что это пожарные.
Минутная стрелка против идёт часовой.
О чём я? А… дело в другом: музыканты, оформившие своё сознание в ноты по жанру русского рока, несли во вне драйв! Поток тронулся, наконец, и красные грузовики с бравыми парнями внутри миновали перекрёсток. Тронулся и я.
Может кто-нибудь услышит извне.
Ещё спит, наверное. Я так и не научился разумно распоряжаться своей свободой. Она, наконец, была дарована мне. И я обосрался. Того возможно не осознавая или осознавая не до конца, кумиры закладывали фундамент, на котором позже построит свои золотые дворцы смена, стяжая дивиденды.
Поганая молодёжь.
И я слушал… – нет: не то слово. Внимал. Ревякин, Шевчук (сдулся), Клинских, Бутусов (ссучился), Летов, Кинчев, Гребенщиков, Васильев (сдулся), Цой. Самойлов. И больше никаких фамилий. Последнее дело – бадяжить чистоган. Крепкий чай. Крепкий кофе, да. Крепкая музыка. Крепкие парни в пожарной машине. Крепкие отношения. Чёрт…
Небо на цепи, да в ней порваны звенья.
Моё поколение тоже обосралось. Похерило такой початок за кулёк серебра! Не потому, что те были хорошие, а эти – плохие. Всё поменялось. Беречь стало нечего. И незачем. Растишь, скажем, сыночка. И вот, в один прекрасный день, понимаешь, что пора бы уже сворачивать на обочину. Смотри, говоришь, сын: это вот – то-то, а это то-то. Взял? держишь? Спасибо, отец. И – ногами твоё барахло. Ногами.
Время ерепениться.
И надо ли было? Нет, раз не сумел. Захотел бы – сумел. А раз не захотел, значит, не надо было. Чем так, – лучше одному. Правда, тоска. Это сколько уже?.. Третий год на исходе с тех пор, как развёлся. Теперь шагаю в обратном направлении. И в прямом, и в переносном смыслах. Не нашёл в этой жизни, к чему притулиться.
Вот она гильза от пули навылет.
Свернул не туда. Вышел – там, а с поворотом ошибся. Это аллегория. К своему отелю я вернулся со стороны Гороховой и нигде не заблудил. Не то, что в съёмной квартире: комната одна, а душа не на месте. От книг тоска и изжога, от тишины звенит в ушах, верхний свет слепит глаза, а от боя стекла в мусоропроводе бешено заходится сердце.
Лучше жить в кустах с бородой по пояс.
У стеклянных дверей отеля, под парусиновым козырьком красного сукна, стоит парень. Обе руки его заняты: в одной кофе для него, во второй – кофе для неё. Будто нельзя было попросить у бариста кассету. Он стоит спиной ко входу, будто нет на улице дождя, и наблюдает округу. Будто ему некуда спешить. Будто ждёт чего-то. Сомневается.
Я сомнениям этим не рад.
Это – я. Тот, которому вдруг стало необходимо обнять любимую женщину за талию в самом центре города и, выдержав короткую (если не сказать театральную) паузу, глядя ей с хитрым прищуром прямо в глаза, коротко произнести: «Чу!». Тот, которому вдруг стало важным, дождавшись первых аккордов, увидеть в её глазах абсолютное понимание. Вдруг приобрело ценность то, о чём бы никогда не догадался, не проживи он бирюком три года к ряду. Не повстречай он ту счастливую пару на набережной.
Не было такой и не будет.
Бросить всё и выбежать с ней на улицу – прямо в том, в чём она сейчас. В одних трусиках? Пускай так. Тем смелее решение. И – в пляс, разбрасывая нехитрые pas по улицам и набережным Петербурга под рок-н-ролл! И теперь уже это мы задеваем прохожих. Те шарахаются в стороны, полагая для себя всё то же. Да. Мы танцуем в дождь. И поём. И смеёмся. Всю жизнь.
Долгую, счастливую жизнь.
А потом я смахиваю с её кожи мурашки, обтираю огромным махровым полотенцем и, укутав в плед, ставлю чайник на плиту. Можно было бы объяснить эти мысли питерской сентиментальностью. Или вообще списать их на дождливое утро. На запах жаровни из открытых окон ресторана. На этот город вообще, если бы не сослагательное наклонение: не в первый раз. Значит, зреет правда в моей голове.
Мне выпал счастливый билет.
Стало быть, невские воды сеют в сердцах нечто. Затем оно всходит и множится, поражая своего носителя особенным взглядом на мир. Я бывал здесь ранее. Дважды, помню. И всякий раз – с ней. С той, о которой всё чаще думаю теперь. И – страшно от примеси неясных чувств в отношениях: а что, если она тебя купила? И этот как его маячок, который мерцает вдали: а ты продался. Летов вышел, громко хлопнув дверью. Борис Борисович из тех, кто ещё нет. Точнее, один-единственный. Остальные ссучились. Лажают в штаны и воняют в округу. Паразиты. И я паразит.
Не трать дыханье на моё имя.
Десять. Она наверняка уже не спит. Лежит в постели и ждёт, когда я вернусь. Надо было взять с собой телефон. Злится теперь. Вчера злилась, что ушёл, не разбудив. Не сердись, моя ласковая: я только спустился за кофе. Сошло с рук. Уже больше часа отсутствую. Почему меня так долго не было? Не хотел будить. Это правда. Второй день дождь с утра. В этот раз с погодой не угадали. Ни я. Ни ты. Ни те двое. Кто? Потом расскажу. Нет, просто танцевали на набережной Грибоедова. Совсем рядом. Искал кофе.
На рассвете без меня.
Стихла сирена. Стихли клаксоны автомобилей. Стихли голоса. И даже тот единственный, что всегда звучал внутри, зная наверняка и донося, что хорошо, а что плохо – он тоже осёкся вдруг. С её появлением стих. Стихла музыка. Её нет. Я тоже хочу не быть. Сейчас, если я сука. Или потом, если ссучиться мне только предстоит.
Я пришёл с войны, распахнул шинель, а под ней
Билось сердце, вторя сознанию: как много обрёл я этим утром на набережной Невы. Так много, что одному теперь не прожевать.
Через все запятые дошёл, наконец, до точки.
Звякнул колокольчик поверх входной двери. И – в другой раз, пропустив полотно обратно. По широкой лестнице парадной, игнорируя элеваторы, поднимаюсь на четвёртый этаж. Задерживаюсь на промежуточных площадках лестничной клетки. Затем по мягкому ковру коридора. У дверей номера забираю стакан в стакан, высвобождая правую руку. Из кармана брюк электронный ключ к считывателю; двойной сигнал зелёного диода в замке и – внутрь. Я говорю: «Привет!» и, уже шёпотом, в самое ухо её, не ослабляя объятий: «Выходи за меня».
Постой, преодолевший страх.
07.07.2019, пос. Новопетровский Тульской обл.
Буца
Короче, неожиданно для всех, для себя в особенности, Буца вернулся в ряды пустопорожних. Значит, цок, – и нет покупки. А была бутылочка поважнее веточки розмарина.
Сначала было «бух» на весь зал, и люди обернулись. Время утреннее, до семи ещё; я после смены слойку искал в какой-то круглосуточной забегаловке, а когда оплатил её, что-то бухнуло в соседнем зале. Редкий люд повернул головы, и я тоже повернул. Там, на кафельном полу магазина, лежали осколки зелёного стекла, и под уклон ползла вспененная жижа.
Пахло солодом.
Борис Ульяныч, старый и никому не нужный дедок, тихо выругался в прокуренные усы и понуро, с ускорением так, к выходу двинулся. У дверей задержался на секунду, вяло развёл руками, затем зло пнул полотно и вышел вон. Кассир тоже послал ему вслед непотребные слова, из которых я разобрал только «Буца».
Вот, как всё было.
Кому в этой жизни не хватает веточки розмарина, а кому бутылки семёрки. Можно было бы просто написать: дед разбил пиво. Но тогда б ни драмы, ни катарсиса, – одни только смех и слёзы.
А – почему разбил? Потому, понятно, что впопыхах стал открывать тару прямо у кассы, сразу же после оплаты. Да ещё и на ходу. Ясное дело, даже под ноги не смотрел. Леманн, когда на ту бутыль крышку сажал, о людя́х не думал; о Буце – уж подавно. Сам же Б.У. Цацаев с малых лет знал, что никому не нужен. И, возможно, единственным после родительницы думавшим о нём человеком была Вера Остаповна, по-нынешнему времени – жена его и мать троих совместно нажитых в лучшие годы детей.
Тоже есть объяснение: невтерпёж было Буце заглянуть под крышку. Бог его знает… может акцию там какую запустили на той неделе в Балтике, и дед уже почти набрал на портативную колонку, оставалось только зарегистрировать последний код, что под крышкой. Они ж как… они хитрые, точно лисы, эти пивоваренные заводы. Ты возьми, по-человечески, нарисуй код на этикетке, скажем, прямо с лица, чтобы народ не ронял твой продукт впопыхах. Пускай себе спокойно стоят у прилавка, переписывают информацию. А так, конечно, в погоне за барахлом и разбил.
Всякий дед, а уж Буца – вне всяких сомнений, прежде всего, был некогда весёлым мальчишкой, потому портативную колонку не исключаю. А седина в волосах… она от лютой жизни: в год по охапке. И оно растеклось, это его пиво. Рука, потому что, дрогнула.
Стало жаль его, ну, точно рубля на бирже. А, нет! Он же, как обронил своё счастье, сразу к выходу побёг, даже головы́ не поднял, а крышка осталась в жуже. Тьфу, блядь! в жуже пишу. В луже!
Это функция автозамены в гаджете такая. Она же поменяет вам негры на афроамериканцы, пидорасы на падишахи, а бабу на миссис – оттого, значит, что гаджет американский, а там нельзя называть негров неграми, пидорасов, соответственно, пидарасами, а женщин – женщинами. Сразу же происходит автозамена.
Уж мне не ведомо, по каким математическим алгоритмам эта штуковина распознаёт намерения юзера и, главное, подбирает релевантные варианты, но, думаю, что конкретно с пидарасами идея вышла от Самого Кука. У него бабы нет… – у Кука! у Буцы есть, говорено ужо – дело общеизвестное; на пидора оскорбляется, вот и поставил задачу айтишникам: де, пацаны, ежели кто будет набирать в заметках «пидарасы», меняйте на «падишахи». От чрезмерной, мать её ёб, толерантности всё.
Если там кто бабу бабой, например, назовёт прилюдно, то феминистки в течение часа собираются в кучу и меняют государственный строй. С гендером вообще засада. Скоро им ничего нельзя будет называть: так и будут мычать, что твой Юрец: «Мм.. мм!», а пока – одни неудобства. Чтобы без обиняков сообщить читателю мысль весомую, приходится лезть в настройки и отключать всякие функции, а затем по одной букве набирать «п», «и», «д», «а», «р», «а», «с» и «ы». Эка…
При чём тут жужа – не ведаю. Может, просто промахнулся пальцем мимо буквы; всякое случается… А я «автозамена», «предиктивный набор», «интеллектуальный ввод»… Хуйня всё это, слушай дальше:
Значит, просто выпить Буце хотелось. Залечить душевные раны. Бабка ли на него бранилась намедни, рыба ли вот такая (отмеряю по локоть) сорвалась с крючка, или ещё чего. Жаль деда. А то, может, кореш закадычный приказал долго жить. Я, мол, того… отмаялся. А ты это, живи. Слышь, Цаца? Живи долго.
– Дык… как? Это… Слышь, Юрец? – но Юрец не слышал. За всю свою жизнь покойник не отведал даже финика, – вот какая пресная судьба легла на полотно человеческого бытия.
Жил Юра этажом выше. По вечерам, нет-нет, за солью спустится, за воблочкой к пиву. А спустится за воблой, там, известное дело, и за кадык зальют по литру-полтора пенного. Оттого и закадычные.
Да пустое оно всё это, конечно. Вернётся Вера Остаповна поздно вечером из будки, что на Академической Калужско-Рижской линии метро (дежурной у эскалатора она там), разгонит сидельцев, да и сама, если повезёт, бутылочку перед сном опустит в измученное нутро.
И так, знаешь, спокойно всё: ни тебе скандалов, ни упрёков. Привыкла уже за сорок пять лет совместной жизни. Да и сказать тоже: любовь. Любовь и есть: взаправдашняя, без всяких этих твоих вот гламурных пендосов и прочей мишуры; всамделешняя. Через то и троих детей возымели.
А с двадцать пятого на двадцать шестое сентября, пока птица гадила с высоковольтных проводов на припаркованный внизу автотранспорт, оный кореш умер. Буца прознал о том от легавых: те нахрапом, не спрашиваясь, в хату заходили, топтали государственною подошвою палас в прихожей, понятым приглашали. Протокол осмотра составили – и по домам. Цацу отпустили.
Тот первым делом в продуктовую лавку Юру помянуть. И средства водились. Не свои, ясное дело. Старшего. Дай, сыночек, рублей пятьсот, я вечерком футбол посмотрю, пива попью, – это Буца к Ванькиной совести, старшего сына своего, взывает время от времени. Правда, исправно: в аккурат вечером четвёртого дня. Заблаговременно, то есть (а – как откажет!? мол, ехать, батя, недосуг, а пин-код от карточки забыл).
Тогда сам по льготе поедет на Бульвар Дмитрия Донского, одолжится (с глазу на глаз уж не откажет, сыночек; не посмеет, щен сопливый), и – обратно. Сложит купюру под подушку, и так спокойно сразу внутри! Завтра, думает себе дед перед сном, будет у меня праздник, а теперь – отдыхай. А в одну из таких ночей и отошёл Борькин кореш в чертоги небесныя.
В ту ночь голуби по естественной нужде засрали всё, что стояло под проводами ЛЭП (вот тебе и городской пейзаж), а на утро Буца нарисовался в подвале магазина.
Уж ему не до Барселона-Вильярреал 2:1 кстати выиграли Месси на шестой минуте навесил на ближнюю штангу, а дальше Гризманн дослал в ворота все кто ставил в том матче на андердогов оказались в плюсе там жуткие коэффициенты на Барсу букмекеры повесли никто не верил да дед о том уже из газеты узнал на следующей неделе, потому что в день матча весь в расстроенных чувствах ходил.
Почему Буца? Так повелось за ним ещё со службы. По инициалам, значит, и первым буквам фамилии. Да и с лица, признаться, вышел незаурядным: то ли кривое зеркало души, то ли истёртый каблук от левого кирзача, что салага носил на три размера больше потому что каптёрщик Матвеев пропил расхожие а теперь носи что дают сука следующий.
А Цацой он потом уже стал… когда бухгалтером начал работать после армейки в столичном кооперативе. Там и с Верочкой встретился, приглянулся. Гусар! Нос в двух местах сломан, слёг на бок; усы, будто щётка для ботинок; весь посечённый в дворовых драках – вот какой кавалер. И влюбилась она в бравого парня. Там и свадьба, и любовь до гробовой доски, и дети, и всё, как у людей…
Старший только истым москвичом вырос: гнида гнидой. Сам Буца не может объяснить такого результата: я, грит, деревенский, из-под Барсуков Кочубеевского района; жена вообще сибирячка. В Москве после службы остался, да и – прижился. По времени на грамотных бухгалтеров хороший спрос тогда пошёл. А этот выродок в кого – ума не приложу. Гадёныш столичный.
Если снова встречу его сегодня, пива куплю. Возмещу, так сказать, убыток. Вот, – скажу, – дед, пей на здоровье. Давай открою. Да хуй тебе, – сам! знаю я твоё сам.
27.09.2019, Метрополитен им. Ленина, Москва
В темноте
Как выяснилось много позже, мы предварили появление концепта Поля Гино для бренда «В темноте»; фишка этих ресторанов в том, что даже здоровые посетители там ничего не видят: эмпатия на практике к слепым от рождения или ослепшим по каким-либо причинам людям. Нам же случилось вычерчивать позиции противника на топографической карте при схожих обстоятельствах – в кромешной тьме. Итог проектируемой нами кампании подвёл тогда Синеоков: он просто отпиздил нас и выгнал на плац убирать снег.
До этого мы были на особом счету у начальства: Пашок – гениальный программист, я – смотритель бильярдной и прочих помещений с особо ценным имуществом. У меня ключи от самой заветной комнаты в казарме, круглосуточный доступ к чайнику и окуркам от Петра I, которые в огромном количестве оставлял майор Зубов в своей пепельнице. Со мной дружат, я – нужный человек. С восьми вечера ежедневно и до семи утра я обретал маленькое преимущество над одногодками. Власть эта нарушалась только визитами дежурного по части или черпаками, которые от скуки заходили поучить нас жизни.
И нас не трогали: я с Салом шестой день кряду готовил в офицерской бильярдной топографический план по исходникам Шкарлата в то время, как остальные четыре сотни первогодок ежедневно проходили строевую подготовку и убирали территорию.
На зелёном сукне лежала масштабно-координатная бумага, валялись цветные карандаши; на бортиках стола стыл чай в грязных стаканах; всё это было щедро посыпано пеплом сигарет – курили, не отрываясь от работы.
Я елозил линейкой Рейсшина по бумаге, наносил деревца, линию обороны, мосты и хвойные леса. В окна комнаты светило солнце, и ещё у нас был табак: служба на какое-то время показалась раем. Паша ковырял пластиковой вилкой в яичной лапше и таскал окурки из пепельницы майора Зубова.
Кроме нас были и другие шланги, но в целом – так: курс стойко переносил все тяготы и лишения воинской службы, мы – филонили (ничто так не радует, как горе товарища – Зубов любил повторять). И всё бы ничего, когда б однажды нам не случилось вычерчивать позиции противника в кромешной тьме.
А было так: в четыре утра выходного дня людей подняли по тревоге и выгнали на плац чистить снег; тот валил не переставая. Причину тревоги я выяснил у дежурного по роте, она мне не понравилась, поэтому я просто не вышел на построение: схоронился в бильярдной, постелил под стол бушлат и завалился спать. Сальников прибыл минутой позже. Так мы оказались в тепле, закрылись изнутри и заснули.
Поверку на том построении не устраивали – людей хватало, снег чистился. Однако комвзвода был зряч и безошибочно определял несоответствие фактического количества людей спискам.
Разбудил нас стук в дверь: офицер отрабатывал по дверному полотну, будто по боксёрскому мешку. Мы с Пашком выскочили из-под стола, в панике схватили в руки линейки, карандаши и, склонившись над картами, стали вычерчивать позиции противников. И так: очень скоро Синеоков вынес дверь с ноги вместе с коробкой, нащупал выключатель и включил свет. Мы даже голов не повернули.
– Ещё скажите, что наносите разметку, суки!
– Такточ, тыщ старшлетенант! – вытянулись мы зачем-то в струну.
– Пидоры, блядь! Бегом марш!!!
Тогда он прописал мне с ноги, а Пашке всыпал лещей, дослав оверхендом по почке. После этого мы оказались со всеми на плацу и до самой ночи не разогнули спин – чистили снег. Бушлатов надеть не успели; старлей выгнал нас по форме номер три. Да мы и не мёрзли.
Мы любили его и за глаза называли просто Синий. Часто перед строем он захлёбывался в крике, вдалбливая в головы первогодок, что мы даже не пыль придорожная. И это осталось. Всё другое – ушло, а это – осталось. Хорошие тогда были эти три года.
Нужные.
2018
Яшкины дети
Старший, – мальчишка года на два рослее, – всегда хаживал во главе; остальные, – погодки, – следовали сзади: сестра да брат лет четырёх. Друг за другом, на расстоянии вытянутой руки.
Так и запомнил их навсегда.
Утром, известное дело, в сад, да в школу, смотря по возрасту; вечером – обратно. Никто из них не улыбался. Не разговаривал. Не смотрел по сторонам.
Не по годам взрослые и самостоятельные люди. Люди – вообще можно ли так о детях? Никто из нас, живущих в том четырёхэтажном некогда общежитии, не помнит, чтобы Яшкины (а были они, несомненно, Яшкиными, что этажом выше) дети разговаривали с кем-либо. Что-то в полголоса старший мог отпустить по пути брату с сестрой, что-то получить в ответ: так же тихо и по делу. Но, чтобы, как остальные ребята, болтать пустое или проявлять интерес вслух – такого не было.
Может, не было.
Их папа и мама, по контрасту, появлялись на публике всегда порознь: как детей никто и никогда не видел по одиночке, так взрослые ни разу не были замечены четою.
Яшка, теперь знаю, работал монтёром в районной электростанции. И тоже всё молча: утром на службу, вечером – обратно.
Это много лет спустя уже, в зрелом возрасте, вспоминая этих троих, я проявлял интерес к той семье. Расспрашивал Крикунова старшего, что жил на одном с ними этаже, А. Ялового (по-тогдашнему – зам. главы администрации села) и соседей по дому. Тогда и узнал то, что узнал.
Имён не помнят. Может быть, Алексей – тот, кто старше, семи лет. Вот тот Алёшка всегда проследит за сестрой с братом: оденет в чистое, отведёт в сад и дождётся вечером, чтобы забрать обратно. Иногда, правда, не хватало его детских сил и времени, и младший пацан щеголял замарашкой.
Рано по утру выходного дня их можно было увидеть на базаре. До восьми, по обычаю, всё доброе с прилавков уже расходилось по рукам, а худое – оно могло пролежать и до обеда. По этой причине и моя мама, и другие сельчане старались управиться с провизией пораньше. Базар, конечно, – то был единственный доступный аттракцион в то время. Событие недели. В том закутке, например, мужичок со Степного зеркального карпа сбывает, – до трёх кило тушка. Под навесом у Саида всегда свежая баранина, – с курдюком, если повезёт. Овощи неизменно у мамы Армана, но та весь день на базаре, и с зеленью обычно проблем не бывало. На крайний случай я всегда мог зайти к ним в гости и нарвать в огороде кинзы, укропа и стручковой фасоли – всего этого было в изобилии и, что самое приятное, денег с меня в гостях не брали.
Клубника, всем известно, Воровсколесская, – самая сладкая, какой во всём союзе не сыскать боле; картофель – у заезжих из Казинки, что на горе. Они, по обычаю, торгуют в самых отдалённых рядах, зане ближние ко входу загребли местные. Остальное, кажется, и не отличалось между собой – бери, у кого хочешь: не прогадаешь. Молоко с творогом, масло сливочное, сметана, яйцо в подложках, птица тушками, кролики и нутрии – всего в изобилии было на стыке эпох.
И денег тоже, кажется, хватало.
Ходили люди от прилавка к прилавку, торговались по способностям, общались между делом – всё знакомые лица. Тут и Алёшка с выводком. Чуть свет, холщовые сумки через плечо: порожние – туда, с обузою – обратно.
Один за другим, будто утята без кряквы, шмыгают промеж рядов, высматривают в шумной толчее продуктов в дом. Сами ли, по своему разумению, обучились они хозяйству, или мамка обязала – то неизвестно. И, скажи, старший с деньгами обучен: знает цену всякой снеди, сдачу посчитает и в карман сложит.
А возвращаться не только далеко, но и в гору. Наберут кто чего, и – обратно: у Лёшки потяжелее, у девочки с младшим – по силам ноша. А и смех иной раз разбирал, как встречу: у мелкого (не знаю, как по имени) одёжа худая, сам – грязный, сопливый, а – тащит! Силится, – чуть ли не волоком по земле, но – ни слова старшему брату, мол, Лёша, помоги! Старшему и не до того: сам росту маленького, поджар, а словно муравей тянет непосильную обузу и, знай себе, подгоняет брата с сестрой: не отставай.
Так поднимаются они по улице к нашему дому. Молча, глядя себе под ноги, огибают угол, нередко сопротивляясь на этом участке особо ярым порывам ветра (край-то степной, – всем ветрам раздолье!) и тенью скользят ко входу. Вереницею пропадают в тёмной глотке подъезда, и уж каждый из нас знает: сегодня не выйдут.
Если только дождь не пойдёт: вон, вещи висят. У железобетонной ограды между металлических створок проволока натянута в восемь рядов – хозяйкам бельё сушить. И как дождь зачнёт накрапывать, женщины в спехе спускаются во двор снимать шмотки с верёвок. И эти трое среди них: там, во втором по счёту ряду, детские шортики, штанишки и футболки сушатся. Лешка снимает, передаёт младшим, – одну за другой. И – марш домой, пока дождь не промочил!
Стыдно бывало перед ними. Мне с друзьями – в войну играть, да в песке копаться, этим – взрослые заботы. Мы даже, как бы, преображались при их появлении во дворе. Стихал смех, громкие разговоры, и на мгновенье замирала жизнь.
А иной раз за мамкой по подворотням: «Идём домой, мама. Поздно уже». И – идут: старший под руку возьмёт (да еле дотянется ведь!), остальные – поодаль, друг за другом.
Яшка, видимо, вниманием не баловал их. А мамке мало заботы, у мамки что ни день, – то праздник.
Верно, слабенькая она была на мужика и на водку. Так сказывали. А как оно было на самом деле – не знаю. Но уж видел её не однажды с весёлою, необъяснимою тогда улыбкою на лице – это да. И походка нетвёрдая, и возвращается незнамо откуда.
Глупо выглядел на их фоне я, мои сверстники, а уж наши дети – избалованные, нужды не знающие, забот не по силам – тем более… задним числом как их сравнивать?
Шутка ли, старшая дочь моя, София, от каждого подарка недовольна: не угодил. А те ребята трижды в месяц в магазин сходят и всякий раз копейку отложат, чтобы на четвёртый раз сохранённое, бережно упрятанное у Алешки в кармане, выменять на конфеты. Да по дороге съесть – не то, кажись, достанется от взрослых.
Может, всё оно было иначе – детским умом как упомнить всё достоверно и непредвзято? Вот, скажем, тутовое дерево росло во дворе у Никиты, одноклассника моего, по-тогдашнему – лучшего друга. И плоды той шелковицы наливались медовым соком, а ягоды были – в рот не уместить! Ей же ей, – со средний палец тутовник. Белый – это самый сладкий из всех, что есть.
И как ждал я первого месяца лета, – там и каникулы, и купание на речке, да ещё в гости к другу хоть каждый день, пока тутовник не отцветёт. До тошноты, до одури обжирались. Прямо с дерева! усядемся на ветку поудобнее, и – один за другим, в две руки конвейером. И разговаривать было некогда.
Двадцать пять лет прошло с тех пор.
– Поедем, – говорю, – навестим друзей.
– Каких это?
– Никита, да два брата с ним: старший, Глеб, и младший, Данила. Дружил когда-то. Может, дома? Там дерево тутовое, а сам тутовник – с палец! Вот такой вот, гляди, – вытягиваю указательный, чтобы удивить жену.
Не оказалось их в тот день дома. Но – осмелился, прошёл во двор. Ещё покричал хозяина и, не дождавшись, стал осматривать дерево. И июнь, как надо, а тутовник – такой же, как и везде: с крайнюю фалангу пальца размером. Только что белый.
Разочаровался я тогда прямо не по-взрослому. А потом дошёл: он, думаю, детскими глазами, конечно, может и запомнился мне с палец, да и верно ведь запомнился – не обманулся я. С палец и есть! Да только ведь и палец у меня тогда был раза в три поменьше, – не то, что ныне. Оттого и не сходится в голове.
Так что и у Яшкиных детей, может, всё хорошо. И тогда было, и ныне. А всё гнездящееся в памяти о них – оно неправда.
22.09.2019, Москва, ул. Суздальская
Тропы
На двенадцать часов четвёртого дня текущей недели назначена последняя в рамках договора встреча. Если проект снова получит отрицательное заключение, уйду из профессии.
А детям расскажу о Китае. Это если они спросят меня когда-нибудь, как я решился выбросить в мусорное ведро профессиональный опыт, приобретённый в течение двадцати без малого лет. В конце концов, соглашусь я с их интересом, на четвёртом десятке сложно начинать с нуля. Меняться.