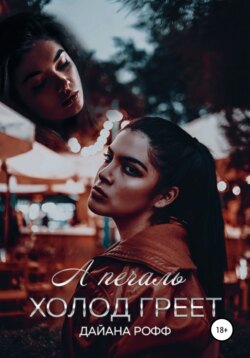Читать книгу А печаль холод греет - Дайана Рофф - Страница 1
ОглавлениеЧАСТЬ I. А прошлое всё угнетает
– Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста, хоть кто-нибудь! Кто-нибудь, помогите мне!
Я плакала. Бежала и плакала – слёзы текли по впалым щекам и, скатываясь с них, летели по туманному воздуху, пока не падали на чёрную твёрдую поверхность. Босые ноги оставляли кровавые следы на камнях – стопы были разодраны в кровь после долгого бега.
Бежать. Бежать. Бежать.
От чего? Куда? Зачем?
Плевать.
Просто двигаться, просто идти вперёд, просто быть живой. Неважно зачем – это всё равно не спасёт от боли. А она становилась всё ближе: дышала в спину, как несущийся с бешеной скоростью неконтролируемый поезд; прокладывала рельсы по полотну души, словно трещины пересекали сухую землю; неслась вперёд, как нёсся хищник к своей добыче. Так сильно хотелось боли уничтожить меня – раздавить под колёсами и умчаться в бесконечность.
Но я бежала, не смея останавливаться.
Бежала что есть сил. Бежала так отчаянно, быстро и нелепо – бег всегда был мне ненавистен.
Крик распирал глотку, когда мой вопль раздался на всю чёрную пустошь, но ничто не дрогнуло, ничто не шелохнулось для того, чтобы спасти меня, помочь мне.
Да и зачем? Пусть умирает в копоти собственного ничтожества.
Да и кому спасать? Вокруг на многие мили никого не было – ни в чёрной пустыне, ни в гнилом лесу, ни в сером тумане, ни в тёмных водах озера, где дна просто не существовало. Как и меня самой.
Мир, мир, мир…
Пустота.
Не имело значения, где я находилась. Ничто уже не имело значения – я сдалась. Упала на колени, до крови содрав с них кожу. Упала, как падала ваза – разбилась на множество осколков. И слёзы тому были примером: слетая с моих щёк, они падали на землю и, отскакивая от неё вверх, разделялись на множество других маленьких капель, прежде чем окончательно превратиться в мокрые следы на шершавой поверхности.
Следы слёз, а осколки – человека.
А человек ли я? Ха-ха, какая смешная шутка. Сгусток боли и обид – вот кто я.
Н-е-ч-е-л-о-в-е-к.
Меня била дрожь как от холода и сырости, ведь на мне ничего не было кроме чёрного старого платья, так и от хриплого, нездорового смеха. Смеяться и плакать – я делала это одновременно, как клоун, на котором была нарисована белая грустная маска, тогда как сам он заливался смехом. Или наоборот. Кто знал, где тут правда, а где ложь – легче было назвать меня сумасшедшей. А самой себе в этом признаться? Когда-нибудь.
Когда-нибудь…
Слёзы всё же стали сильнее, чем смех – я вся сжалась, вцепившись пальцами в свои плечи. Так холодно. Одиноко. Больно. Я рыдала, кричала и вновь рыдала. А затем снова кричала… Пока чья-то тёплая рука не коснулась моей холодной кожи.
– Эй, тебе нужна помощь?
Всхлипнув, я согласно замотала головой, всё так же продолжая смотреть вперёд и не видя там ничего, кроме размытой из-за слёз поверхности земли. Почему снова это случилось? Почему снова меня так нещадно мучили? Разве я сделала что-нибудь плохое? Да никогда в жизни. Мне ведь всего лишь семь лет. Я только недавно пошла в школу и так наивно мечтала, что по возвращении домой меня больше не будут ожидать очередные ужасы.
Как же я ошиблась.
Как же сильно я ошиблась.
– Я-я… не выдержу этого ещё раз. Я не смогу больше этого пережить ещё один раз…
– Я тебе помогу, – детский голос звучал удивительно спокойно и твёрдо. – Ты ведь хотела помощи, верно?
Я медленно обернулась и посмотрела на того, кто так ласково прикасался ко мне, словно и вправду желал добра. Это была девочка моего возраста с налысо выбритой головой, точно страдала раком. Большие очки прикрывали половину веснушчатого лица, на бледной коже которого ярко выделялись зелёные глаза – единственное что-то цветное в этом чёрно-белом мире.
– Т-ты…
– Я Мёрфи, – добродушно улыбнулась она. – И я не чувствую боли.
– А я её чувствую каждый день, – мой сиплый голос прозвучал в ответ.
– Знаю, – кивнула девочка. – Поэтому я и хочу тебе помочь. Ты ведь хочешь этого? Только назад пути уже никогда не будет.
Что-то нехорошее было в её последних словах, что-то опасное, разрушительное. Мёрф произнесла их серьёзно, выжидательно заглядывая в мои заплаканные глаза, и будто всем сердцем надеялась на мой отказ.
Но мне было слишком тяжело, чтобы отказаться.
– Хочу больше всего на свете.
I: А утро начинается с холода
Если мы не совершим правильные поступки, с нами не произойдут правильные события.
Джагги Васудев
Откуда мы знаем, что мы существуем?
Казалось бы, такой простой вопрос, но ровно до тех пор, пока мы не попытаемся ответить на него совершенно серьёзно, со знанием дела и пониманием. Откуда мы знали, что существовали на самом деле? И откуда нам вообще это было знать? В своей работе под названием «Размышления о первой философии» Рене Декарт пытался ответить на этот вопрос – такой очевидный, но такой разрушающий всё твоё сознание, все твои мысли и мнения, отчего надо было начинать строить заново, с самого фундамента.
Строить самого себя.
Все знания Декарта пришли от его чувственного восприятия мира, и так делали некоторые из нас. К примеру, смотря в окно и наблюдая там поющих птиц, мы видели их своими глазами, слышали своими ушами. Наши чувства показывали нам мир таким, каким он был. Они нас не обманывали, но иногда это случалось. Мы могли ошибиться в человеке, который показался нам сначала хорошим, или быть уверенным в том, что сейчас умрём, тогда как этого не произойдёт. Но когда мы что-то делали, когда наблюдали за процессом, мы ведь были полностью уверены в том, что всё перед нами – реальность. Твои глаза, твои руки, твои мысли, твоё тело – это ты сам. Только сумасшедшие могли это отрицать, но мы-то знали, что мы не сумасшедшие. Любой, кто сомневался в этом, должно быть, спал.
А что, если мы все спали? Сны порой казались слишком реальными. Мы могли полностью поверить в то, что плавали, летали или сражались с монстрами голыми руками, тогда как наши настоящие тела лежали в постели.
Нет, нет, нет.
Когда мы бодрствовали, мы знали, что мы бодрствовали. Но когда это не так, мы не знали, что это не так, поэтому мы не могли доказать, что мы не спали. Может быть, тело, которое мы воспринимали как самих себя, чтобы существовать, на самом деле не было. Да, вот так вот – просто не существовало. Может быть, вся реальность, даже такие абстрактные понятия, как время, любовь, разум – обман, что устроил нам злой гений.
А вдруг?
Декарт спрашивал, могли ли мы опровергнуть мысль о том, что злой гений-демон обманом втянул нас в это дело. Вера в реальность – реальна. Или нет? Возможно, это дьявол обманул нас: и мир, и наше восприятие о нём, и о самом нашем теле. Мы не могли опровергнуть идею, что всё это просто выдумано, как и согласиться с ней – ведь мы не знали, что из этого на самом деле правда, а что ложь. Порой даже самая нелепая идея могла быть самой правдивой. Кто знал.
Мы не могли быть никем, если мы думали, что являлись чем-то, даже если мы думали, это «чем-то» – ничто, потому что на самом деле неважно, что мы думали. Мы – мыслящие вещи, или, как выразился Декарт: «Я думаю, следовательно, я существую».
Как и каждый из нас.
Но возникало из всего этого одно небольшое сомнение… А как насчёт простых предметов? Ведь они не могли мыслить. И, следовательно, не существовали, если следовать идеи Декарта. И что же тогда? Где мы тогда жили, что ели, что носили каждый день? Да, мы мыслили и существовали, но что насчёт всего остального?
Существовал ли мир вообще?
Порой я в этом сомневалась. Как и в своём собственном существовании. Вот, к примеру, как сейчас, когда от ледяной воды онемело всё тело и даже синяки не болели. Оставался нетронутым разум – один на один я сейчас с ним была. Тот самый момент, когда я остро ощущала реальность, будто могла её потрогать, но в то же время она от меня ускользала, исчезала в прохладном воздухе ванной. А затем исчезло всё: зажмурившись, я с головой скрылась под водой. Несколько секунд блаженной тишины и пустоты – словно я текла по реке, как безвольный осенний лист, упавший на воду с дерева.
– Хватит там купаться! В школу опоздаешь!
Голос матери окутал мою голову, как только я наконец-то вынырнула из ледяной воды. Такой бывала душа человека, когда тот всё потерял и смирился со своим поражением. Тогда дальнейшее существование превращалось в одну большую ледышку: куда ни посмотри, всюду сплошная полупрозрачная поверхность, и даже смертельно острых краёв не видно. А так было бы хорошо – подойти к ним и спрыгнуть. Куда? А какая разница, где умирать.
Только бы не чувствовать боль.
Убрав затычку, я спустила воду, а вместе с ней свои мысли и чувства. Не стоило сейчас перегружать своё сердце, когда тому и так было тяжело. Пора отдохнуть. А ещё один учебный день прекрасно для этого подойдёт.
После того, как оделась и высушила голову, я пошла на кухню, где меня ждала мама: невысокая худая женщина лет пятидесяти с нечёсаными светлыми волосами. На её осунувшемся лице появилась натянутая улыбка, когда она увидела меня и, чмокнув в макушку, поставила передо мной на стол овсянку – зимой она всегда на завтрак готовила только кашу, словно та могла согреть окоченевшее тело. Но после долгого лежания в ледяной воде даже каша и уж тем более горячий чай не смогли меня отогреть – оно и к лучшему.
– Как будем праздновать в этом году Рождество?
Вопрос вырвался почти сам по себе – лишь бы не слушать эту угнетающую тишину и не видеть, как мама, делая вид, что пила чай, на самом деле в очередной раз запивала своё горе пивом.
– А есть смысл его вообще праздновать? – хмыкнула она с болью в голосе.
Я сжала челюсти, так и не донеся до рта ещё одну ложку каши. В груди всё болезненно сжалось при одном только воспоминании о том, что раньше было лучше. Что раньше всё было по-другому, а в квартире не так остро ощущалась пустота, будто чего-то не хватало. Или кого-то. Что раньше… да, раньше. Когда-то. Но не сейчас, к сожалению.
– От одной потери сам смысл жизни не теряется, – сдержанно сказала я, прямо смотря на мать. – Просто думаю, что надо хотя бы немного отвлечься от воспоминаний и отпраздновать Рождество.
Она в неприязни скривила лицо.
– Это надо снова столько готовить, всем позвонить и всех поздравить, дарить подарки, кого-то даже пригласить… Я слишком не в настроении это всё делать.
– И не обязательно всё это делать, – я успокаивающе коснулась её руки и поразилась, насколько она была горячей. – Мы можем провести этот день вместе, что-нибудь приготовить лёгкое или просто выпить. Побыть вместе… как мама и дочь.
– Одни? – дрогнувшим голосом спросила мать и подняла на меня свои заплаканные глаза. Они были такие же, как у меня – тёмно-зелёные, как впитавшая в себя дождь трава, по которой я никогда не бегала.
И никогда не побегаю.
– Да, одни.
Я надеялась на мамино благоразумие, на её врождённую жизнерадостность и доброту, на её понимание и силу духа, на оставшиеся в ней остатки тепла – как тлеющие угли среди снежной пустыни. Мне хотелось верить, что мама когда-нибудь оправиться от горя и предательства, что нанёс ей отец, когда тот полгода назад ушёл из наших жизней.
Ушёл и никогда больше не собирался возвращаться.
Однако ничто не напоминало нам о том, что когда-то он жил в нашей квартире: его вещей всегда было крайне мало, носил он почти одну и ту же одежду каждый день, никаких бумаг или мелких вещей он не хранил в доме. Но его тень так и блуждала по двум комнатам квартиры, как призрак, не знающий где ему остановиться и как вновь начать жить. Да я и сама не знала, как жить. Стены ещё помнили одеколон отца, скрипучие доски пола скучали по шаркающим шагам, а в воздухе так и не хватало привычного бормотания, особенно в те моменты, когда он зачитывался очередной научной книгой. Пожалуй, только книги после него и остались: целый шкаф, что стоял в углу моей комнаты и маячил перед глазами каждый раз, когда я садилась делать уроки. Потёртые страницы, многочисленные закладки, вложенные бумажки – всё напоминало о родном мне человеке, отзывалось тупой болью в груди.
А потом… вспыхивала злость.
Невероятная злость, обида и гнев за то, что отец так беспричинно бросил нас. Просто взял и ушёл – ни с того, ни с сего. И куда ушёл? Любовниц у него никогда не было, как и интереса к женщинам. Наука, наука, наука… эти вечные эксперименты. Только этим он и жил. Так и зачем тогда было уходить? Ведь ему никто не мешал: все терпели его выходки, бормотание, чтение вслух, высказывание своих мыслей и весёлое насвистывание при хорошем настроении. Так что оказалось не так? Я была уверена, что он ушёл чисто из эгоистичных побуждений, просто так ему захотелось. И была неимоверно на него зла.
– Я не знаю… – наконец тяжело вздохнула мама. – У тебя такие холодные пальцы.
На секунду она замерла, а затем резко отдёрнула свою руку и спрятала её под столом, словно так могла избежать неведомой мне опасности. Я с хмурым лицом наблюдала за её странной реакцией, но ничего не сказала и лишь молча встала из-за стола, чтобы продолжить собираться в школу. Несколько минут – и я уже держала туда путь, идя по снежному городу. Тот был, как всегда, невероятно холодным, синим и отчуждённым: типичные пятиэтажки в разном порядке тянулись тут и там, большие сугробы снега мешали спокойно проходить во дворах, хвойные деревья пышными столбами тянулись вверх, лица окон покрылись причудливыми узорами мороза, но ещё грустнее были настоящие лица людей – такие потерянные, бездушные, холодные, как сегодняшнее утро. Многие жители Колдстрейна1 почти никогда не были способны на проявление теплоты: казалось, город уничтожал своим вечным холодом светлые чувства каждого, кто здесь жил.
В том числе и у меня.
Я это уже давно поняла, насколько позволяла моя плохая память. Всё во мне отмёрзло, всё заледенело, и лишь иногда под толстым слоем льда в сердце что-то могло зажечься – так ярко и непривычно и от этого так болезненно. Не всегда тепло могло принести радость – порой было лучше остаться в своём холоде, чем выйти под опеку солнца. И именно так я и поступила: закуталась под снег, как под одеяло, и спала, пока… пока что? Пожалуй, пока любовь не пробудит меня. А будет ли такое?
Посмотрим.
Внезапно я почувствовала чьё-то нежное прикосновение к оголённому участку моей кожи: к царапине, что торчала из-под короткого рукава моей клетчатой рубашки, кто-то приклеил лейкопластырь с жёлтыми смайликами. Я удивлённо уставилась на свою одноклассницу, которая бесшумно подсела ко мне за стол, тогда как мы находились в шумной столовой. Нахмурившись, я наблюдала за этой «причудой», которая, слушая громкую музыку в наушниках, подпевала вслух и разрывала упаковку ещё одного лейкопластыря, чтобы приклеить его мне.
– Филис? – настороженно позвала её я, когда ещё один разноцветный пластырь прикрыл царапину.
Она подняла на меня свои фиолетовые глаза и, на мгновение замерев, хихикнула.
– Прости, мне казалось, что я сплю.
Её голос казался удивительно чистым, лёгким и тёплым в отличие от моего – грубого, низкого и слегка хриплого. Когда она улыбалась, то всегда показывала свои белые ровные зубы, только два передних в верхнем ряду немного торчали вперёд, как у кролика, отчего её лицо становилось ещё милее. Да, моя одноклассница выглядела очень мило: светло-русые кудрявые волосы доходили до груди, на латино-американской коже выделялись покрашенные в тёмно-коричневый цвет большие губы, кончик носа был слегка приподнят, что было ещё милее. Но ничто из этого не шло с тем, во что она одевалась: джинсовый комбинезон хорошо подчёркивал её гибкую талию; из-под шорт тянулись плотные колготки, разрисованные самыми разными цветочками; короткие рукава радужной футболки открывали вид на тонкие длинные руки, покрытые браслетами и всевозможными фенечками; заколки с Kitty cat были не только в волосах, закрепляющих кудрявую чёлку, но и просто прикреплены к одежде; пару странных амулетов висели на шее и такие же были серьги, а на ноги надеты розовые на толстой подошве ботинки, делающие её и без того немалый рост ещё больше.
Филис всегда была яркой и тёплой, совершенно не сочетающейся с холодной и недружелюбной атмосферой Колдстрейна. И уж тем более со мной.
– Как видишь, это не сон, – ехидно усмехнулась я.
– А жаль, – как ни в чём не бывало пожала плечами девушка и убрала наушники в карман своего комбинезона.
– А если это был бы всё же сон, что я тогда делаю в твоём сне?
Не знаю, зачем я задала этот вопрос. Но сидеть и молча наблюдать за тем, как Филис неспешно ела столовый суп, не хотелось. Почему-то, когда я находилась рядом с ней, мне хотелось тут же разговаривать – и неважно о чём. И как бы я ненавидела пустые разговоры, но именно ни о чём важном не говорить так и тянуло в такие моменты, когда рядом была Филис.
– Сидишь, – весело улыбнулась она, посмотрев на меня.
Я недовольно нахмурилась.
– Я имею в виду, почему я вообще нахожусь в твоём сне? Зачем?
– Знаю ли я? – коротко рассмеялась девушка. – Никто не знает.
– А должен знать кто-то ещё? – в недоумении выгнула я бровь.
Филис подняла глаза к потолку и пару секунд так сидела, будто о чём-то думала.
– Даже мудрецы в моей голове не знают…
– Ты ведь понимаешь, что со стороны кажешься сумасшедшей? – не удержалась от ядовитых слов я.
Она как-то странно на меня посмотрела, а потом вновь засмеялась, хотя ничего смешного я не сказала. Да и вряд ли что-то смешное сказали её «мудрецы».
– А я и не отрицаю. Кстати, я Филис ди Уайт.
Я заторможено глядела на неё в ответ.
– Ты издеваешься? Мы знакомы с тобой уже как два года.
– Да? – глупо захлопала длинными ресницами она. – А мне казалось, что ты не знаешь меня.
– Тебе так же казалось, что ты спишь, – мрачно изрекла я. – Мы с тобой не раз выполняли совместные проекты, садились вместе на уроках, я часто давала списывать тебе домашние задания или контрольные.
– Я помню, – беззаботно сказала Филис. – Просто проверяла тебя.
– Зачем? – недобро спросила я.
– А вдруг это всё же был сон?
И вновь она хихикнула, а потом облизала ложку с супом. Я хладнокровно следила за ней, будто ожидала от неё ещё каких-нибудь причуд, ни к чему не относящихся слов или желания приклеить на меня третий лейкопластырь. Филис всегда была странной, с ней было почти невозможно делать совместные проекты: она вечно отвлеклась, предлагала совершенно безумные идеи, включала музыку и танцевала, тогда как мне всё приходилось делать за неё. Не сказать, что меня это сильно злило, ведь в такие моменты я чувствовала, как между нами по крупицам зарождалась дружба… но ровно до тех пор, пока надо было делать проект.
А дальше – треск. Дальше – одиночество. Дальше – вновь одна, в своём мраке, в гордости и в пустоте.
Я отдалялась от Филис: специально или просто так складывались обстоятельства? Иногда мне казалось, что был верен первый вариант, а порой была твёрдо уверена во втором. Но, так или иначе, дружба между нами так и не складывалась – чего-то не хватало, что-то не могло склеить трещину, соединить мосты, разрушить все стены. Но, пожалуй, стены тут были только мои… Ведь я не хотела никакой дружбы.
А чего же тогда хотела? Понятия не имею.
– Вода решает буквально всё, – заговорила вдруг Филис, смотря на свой стакан воды, которой она запивала суп. И какой нормальный человек будет запивать суп? – Хочешь похудеть? Пей воду. Хочешь чистую кожу? Пей воду.
– Устали от человека? Утопи его, – меланхолично усмехнулась я.
– Я тебе надоела? – казалось, соседка была удивлена. Или обижена?
– Нет, что ты, я просто пошутила, – неожиданно с нотами неуверенности в голосе ответила я, занервничав. – Топить человека всё равно слишком сложно.
– Легче отравить его, – согласно кивнула головой Филис и перевела взгляд на свою тарелку, – да хоть этим супом.
– Тогда не ешь его.
Мы обе одновременно посмотрели на источник полного презрения голоса – это оказалась Тория Сартр с двумя своими вечными хихикающими подружками, имеющими такую же единственную клетку мозга, как у самой Тории – ко всем всегда лезть. Лезть и доводить до бешенства. Однако, пожалуй, только меня она раздражала, потому что другие чуть ли не сохли по ней: покрашенные в голубой цвет волосы, доходящие до лопаток, и такой же цвет у её линз, накрашенные губы и глаза, стрелки, всегда в короткой юбке, чёрных колготках и бледно-розовой блузке, две верхние пуговицы которой были специально расстёгнуты, чтобы открыть вид на большую грудь. Природа наделила её сногсшибательной красотой взамен на душу и человечность. И ум, кстати говоря.
– Сама ешь, – зло сказала я, сверля Торию гневным взглядом.
Та нарочито рассмеялась.
– Я слишком богата, чтобы есть подобный мусор. Такой мусор должны есть такие же люди, похожие на мусор, не так ли?
В следующую секунду она плюнула в тарелку Филис, которая вся сжалась на своём сиденье и выглядела какой-то напуганной. Шум в столовой внезапно утих, кто-то напрягся от сложившейся ситуации, другие с интересом наблюдали за дальнейшим развитием действий.
– Зачем ты это сделала? – я взяла на себя главную роль, раз Филис не собиралась никак реагировать на проступок Тории.
– Эта ничтожная засранка из совсем небогатой семьи. Хочу посмотреть, станет ли она доедать или будет голодать, – с самым самодовольным видом сказала она и подняла гордо подбородок. – Но если хочешь, можешь сама доесть. Насколько я знаю, ты тоже с трудом сводишь концы с концами. И настолько, что ты даже ничего не взяла себе на обед в столовой. Неужели нет ни копейки? Или просто не хочешь отравиться? Хотя тут, наверное, еда лучше, чем на улице. Не упускай такой шанс, дорогуша, я тебе разрешаю.
С каждым её словом моя злость становилась всё сильнее, но смех её подружек стал последней каплей. Я вскочила со своего места и, взяв тарелку в одну руку, резко вылила суп прямо в лицо наглой девушки. Та в полном шоке уставилась сначала на меня, а затем на свою одежду и на голубые волосы, с которых скатывалось пару кусочков картошки. Даже внезапно испугавшаяся Филис улыбнулась на это зрелище, как и многие другие.
– Ну как, вкусно? – гадко ухмыльнулась я. – Небось, с твоим плевком вкус стал в разы лучше.
Тория зашипела от злости и выставила перед собой руки, намереваясь вцепиться мне в волосы, но я тут же перехватила их и в одно движение уложила её на пол лицом вниз. Чётко, профессионально и быстро – на протяжении долгих месяцев я оттачивала этот приём, чтобы безболезненно, но как можно быстрее обезвредить противника. Удачно, не правда ли?
– Отпусти меня, бешеная дура! – прохрипела Тория, наполовину мокрая лежа подо мной.
– А ты разрешение сначала вежливо попроси, – победно усмехнулась я, но в следующую секунду вздрогнула от тёплого, но уже знакомого прикосновения к своей коже.
Я встретилась с большими, полными мольбы глазами Филис.
– Отпусти её, пожалуйста. Прошу.
Не знаю почему, но её просьбу я выполнила сразу и только потом задумалась над тем, а зачем и почему Филис попросила меня так поступить, ведь Тория на глазах у всех унизила её. Доброта? Пожалуй, это самое маленькое, что я видела в душах людей. Но если это и вправду была доброта, то у Филис она была самая большая, на которую вообще был способен человек. Однако я не стала ничего спрашивать, потому что меня это не сильно сейчас волновало: я больше наслаждалась своей гордостью за то, что смогла отомстить за обидные слова, что в очередной раз были брошены в меня, как мясо с гвоздями дворовой собаке.
– Ты больная, – пытаясь привести себя в порядок, прошипела сквозь зубы Тория, вся пунцовая от злости.
– Здоровее тебя буду, – ядовито ответила я и, не обращая внимания на направленные в мою сторону взгляды, направилась к выходу из столовой.
В своём кабинете меня ждал директор.
II: А проблемы ждут за дверью
Правильного выбора в реальности не существует: есть только сделанный выбор и его последствия.
Эльчин Сафарли
– Почему ты заступилась за меня, если мы даже не подруги?
Филис поджала под себя ногу, когда уселась на длинную деревянную скамейку и закинула в рот Чупа-чупс. Она вся выглядела непринуждённо, свободно и с полным равнодушием к тому, что о ней подумают другие. А ведь в том, что о тебе думали другие, не было смысла. Люди видели тебя через свою призму восприятия мира, их мнение всегда было субъективным. В конечном итоге их волновали только они сами. Тогда какой к чёрту смысл переживать по этому поводу? Всем ведь плевать. Плевать на тебя, на твою внешность, на твой характер или оболочку. Бросить обидные слова – и тут же об этом забыть. Так люди поступали изо дня в день, ведь им было всё равно на то, что чувствовали другие, что сломали в тех, кого обидели. Загоняться по собственным проблемам – всегда пожалуйста, но с полной серьёзностью и ответственностью отнестись к проблеме чужого – никогда.
Даже если взять друзей… Случись у тебя трагедия, ты будешь страдать день и ночь, тогда как твой друг, попечалившись вместе с тобой, уже через несколько дней будет звать тебя тусить на вечеринке. А если наоборот? Ты, как бы ни переживая за своего друга, в той или иной степени остаёшься эгоистом и не желаешь полностью погружаться в чужие проблемы. Почему? Потому что собственных дел хватает. Потому что искренне сопереживать – это как влезть в чужую шкуру и почувствовать боль. Потому что каждый из нас жил в своём чёртовом мире: вот только где-то цветов и света было больше, чем гнили и трупной вони.
– А кто мы? – я кинула на девушку холодный взгляд и вновь посмотрела на дверь, ведущую в кабинет директора. – Мы с тобой больше, чем одноклассники, потому что проводили в разные периоды жизни много времени, но мы с тобой и не подруги, потому что между нами так и не возникло ничего общего, даже нет никаких шуток, которые бы понимали только мы с тобой. Мы знаем друг о друге очень многое, но в то же время не знаем ровным счётом ничего. Лишь какие-то поверхностные впечатления. Пожалуй, так живёт большое количество людей: знали друг о друге поверхностно, так, чтобы меньше надо было запоминать и лишний раз не мучиться, вспоминая, у кого какие проблемы. Но порой бывали и те, кто знал самого себя не менее поверхностно. Очередная пустышка этого мира, как не гниющая бутылка из-под кока-колы – такие люди тоже не гнили, но и не цвели. Просто существовали, как воздух – пусто, бессмысленно и совершенно бесполезно.
Филис с некоторым удивлением глядела на меня, явно не ожидая такой большой речи от меня и с таким глубоким смыслом и правдой. Большим пальцем руки она теребила свои фенечки и задумчиво посасывала Чупа-чупс, временами громко причмокивая на весь пустой полутёмный коридор.
– Да, ты права, – улыбнулась после долгого молчания она. – А ты бы хотела, чтобы мы наконец-то стали подругами?
– Не знаю, – я с подозрением покосилась на неё, вспоминая её сегодняшнее причудливое поведение. – А ты сама хочешь?
– Давно уже, – откровенно ответила Филис, и её улыбка стала ещё шире. – В моих снах мы уже давно как подруги.
– Так часто я тебе снюсь? – недоверчиво усмехнулась я и подошла к скамейке.
– Представь, что вещи умеют разговаривать, – сказала вдруг девушка как раз в тот момент, когда я садилась. – «Пожалуйста, сядь мне на лицо…»
– Лучше не представлять, – нахмурилась я, невольно поёжившись от её слов.
– Ты так и не ответила на мой вопрос, – Филис вынула леденец изо рта и стала с интересом разглядывать меня, отчего стало как-то неловко.
– Накрашенная морда Тории давно не встречалась с полом, – злорадно ухмыльнулась я, вспомнив, как уложила соперницу в одно движение.
– А на самом деле? – нетерпеливо спросила соседка.
– Она меня уже давно раздражала. Эти её обзывательства, сломанные из-за неё жизни, у кого-то вообще самооценка упала из-за неё, другие разочаровались в любви и вообще в людях. Тория плохой человек, однако не стыдно быть плохим.
– Почему? – внимательно меня слушая, задала новый вопрос Филис, всё так же рассматривая меня.
Я прикрыла глаза, прислонившись затылком к холодной стене.
– Знаешь… каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с буллингом, как это сейчас модно называть. Кого-то оскорбляли, унижали, заставляли чувствовать тебя слабаком и ничтожеством, избивали или просто оставляли в одиночестве. Люди постоянно стыдят кого-нибудь и это совершенно естественно – никто из нас не идеален. Но даже так не стыдно унижать человека, к примеру, за его лишний вес, не стыдно оскорблять кого-то, наплевать на него, не стыдно обманывать, предавать и лицемерить. Знаешь, почему всё это не стыдно? Потому что потом люди учатся на своих ошибках, ведь им совершенно свойственно стремиться к идеалу. Кто-то кого-то унижал или избивал, но потом понял, что был не прав – через день, месяц, год или вообще несколько лет. Взять хотя бы того же самого лиса из «Зверополиса»…
– Обожаю этот мультик!
–… который в детстве всё время издевался над Джуди и другими, – говорила я, не останавливаясь. – Что он первым делом сделал, когда увидел через много лет Джуди? Правильно, извинился и показал, каким он стал – другим. С возрастом многое что меняется: кто-то становится добрее, кто-то злее, кто-то извинится за содеянное, а кто-то навалит тебе ещё дерьма. Нет людей, которые всегда совершали только добрые поступки. Человек становиться лучше только когда признаёт свои ошибки – такова его природа. Лишь понимание того, что раньше ты был не прав, уже может направить тебя в правильную сторону, и ты начнёшь поступать правильно. Но знаешь… в некоторых случаях быть плохим и вправду очень плохо, стыдно. Чаще всего это тогда, когда кто-то поступает плохо и сам же обвиняет в этом других. Есть поступки, которые не прощаются, есть люди, которые никогда не смогут осознать свою гнилость души. К таким я и отношу Торию: думаю, вряд ли когда-нибудь она сможет измениться, стать лучше, перестать всех унижать.
– А мне кажется, что она может стать лучше, – возразила Филис, неопределённо пожав плечами. – У каждого ведь из нас есть выбор: осознавать собственную неправоту или продолжать поступать плохо. Каждый может ошибиться, и в этом нет ничего страшного.
Я слабо улыбнулась на её такую умную, но простую мысль, и, открыв глаза, посмотрела на неё.
– Я согласна, но…
– Вот видишь, наши мысли уже сходятся, а значит, между нами уже есть что-то общее! – радостно воскликнула вдруг девушка. – А значит, что мы уже на полпути к дружбе.
Я нахмурилась, совершенно не ожидая от неё таких слов, но говорить по этому поводу ничего не стала, потому что ещё сама не поняла, хотела ли этой дружбы или нет. Но тоска в сердце… так и хотелось её чем-то вылечить.
– Возможно, – сдержанно ответила я. – Но меня вообще удивляет то, что ты так по-доброму относишься к Тории после того, как она плюнула тебе в тарелку.
– Я быстро прощаю людей и совершенно не умею держать зла на них.
Не знаю, правда было это или нет, но за своей улыбкой Филис определённо что-то скрывала или не договаривала. Но расспрашивать у неё я ничего не стала. Я никогда не лезла к другим с расспросами о личной жизни или проблемах, о боли или о том, что причинило много страданий, но мне казалось, что Филис что-то хранила в себе, но было ли это как-то связано с Торией? С одной стороны, мне было интересно узнать, но с другой стороны, когда Филис будет готова мне что-то рассказать, тогда я её и выслушаю. А будет ли такое когда-нибудь? Вряд ли. Надежда на будущую дружбу во мне таяла слишком быстро, как бы мне ни хотелось этой дружбы. Я не привыкла рассчитывать на чудо, не привыкла вообще на что-либо рассчитывать, только на себя.
А я… порой саму себя же и подводила.
– А откуда у тебя все эти царапины и синяки? – Филис коснулась одного из лейкопластырей, которые приклеила мне.
– Да так, подралась, – махнула я рукой.
– А откуда у тебя этот шрам?
Я ещё давно заметила, что Филис любила всего коснуться, когда её вопрос или просто предложение касалось чего-то материального или даже человека. И так же было сейчас – она коснулась моей острой правой щеки, по которой, ближе к носу, от глаза до подбородка тянулся уродливый шрам. Не знаю, от чего я содрогнулась больше: от чужого, но такого ласкового прикосновения, или от ужаса воспоминаний.
– Это больная тема, – я сжала её пальцы и отодвинула их от себя, но отпускать не стала: нужна была хоть какая-то поддержка после всего пережитого.
– Ой, извини, ты, наверное, не хочешь об этом говорить? – Филис как-то странно склонила голову на бок, смотря на меня.
– Не хочу, – мрачно сказала я.
– Конечно… А почему это больная тема?
– Я не хочу об этом.
– Да-да, прости… – она улыбнулась, как сумасшедшая. – Видимо, что-то плохое случилось, да?
– Не. Хочу. Об. Этом. – Выделяя каждое слово, зло проговорила я.
– Да, я помню. Больная тема. Кстати, а почему?
– Да ты сама больная совсем, что ли?!
Я резко выпустила её руку и вскочила со своего места вне себя от злости и негодования. Филис вся содрогнулась от моего крика и, казалось, только сейчас наконец-то пришла в себя. Она в ужасе уставилась на свои пальцы, а затем перевала такой же полный паники взгляд на меня. В её фиолетовых глазах как будто впервые появилось непонятное ей до этого чувство – страшное, пугающее своей чернотой и мерзкое, как слизень, ползущий по лицу. Прижав к груди руки, девушка вдруг вскочила с места и быстро скрылась в конце коридора, убежав к лестнице. И мне оставалось только гадать, что в этот раз пришло ей в голову и почему она умчалась от меня как от настоящего монстра.
А была ли я монстром?
Ха-ха, смешно.
Определённо да.
Я всегда чувствовала, что во мне жил маленький демон, и за каждый мой плохой поступок, за каждое грубое слово он рос. Рос, рос и рос. И ведь вырастет до таких размеров, пока от меня самой ничего не останется. Чем я лучше Тории? Разве что только тем, что не лезла к другим без причины. А в остальном я была даже хуже: настолько вспыльчива, что вместо ссоры сразу шла драться, настолько гордая, что никогда не принимала помощи, настолько грубая, что мои слова порой ранили больнее кулаков, настолько жестокая, что на моём теле не осталось почти ни одного целого места, где никогда бы не было синяка, царапины, шрама или перелома. Быть жестокой не только к людям, но и к самим себе – так я жила, так выживала в этом мире монстров, сама не замечая, как становилась монстром.
Конечно, мне хотелось стать лучше. Извиниться, простить, не повторять ошибок – я всегда старалась что-то из этого сделать, но не всегда получалось. А порой становилось лишь хуже. Наверное, именно поэтому со мной почти никто не дружил. Но вот именно, что почти. Однако лучшей подруги или даже просто подруги у меня никогда ещё не было. А Филис…
В груди неприятно защемило, на душу словно вылили ведро отходов – так гадко и пахуче там стало. А ещё так одиноко и темно. Так черно… Мрак внутри человека был настолько естественен, что не было смысла ему противиться. Принять его – ведь рано или поздно всё равно придётся окунуться в самые тёмные бездны своего сознания и именно там будет спасение и покой…
– Как жаль, что мы так и не смогли от неё избавиться.
Высокий тонкий голос Тории тут же отвлёк меня от мрачных мыслей. Возмущённо цокая каблуками, она вышла из кабинета директора, а вместе с ней был ещё кто-то: высокий молодой парень со светлыми волосами и тёмными глазами. Мне не удалось его как следует рассмотреть, как он, кинув на меня хитрый взгляд, скрылся в конце коридора вместе с о чём-то говорящей Торией, которая даже не обратила на меня внимания, а всё продолжала о чём-то возмущаться. Видимо, из-за меня.
Тяжело вздохнув, я зашла в уже до омерзения знакомый кабинет директора, а точнее директрисы: та сидела за своим большим столом и внимательно изучала меня взглядом маленьких глаз. Светлые волосы были коротко пострижены, на лице тонны косметики, чтобы выглядеть моложе, пиджак и юбка подчёркивали её сохранившуюся за долгие годы фигуру – ничем непримечательная женщина, но и ничем не отталкивающая. Самая обычная, что мог сотворить этот мир – каждый из нас был самым обычным, и лишь некоторым удавалось хоть как-то выйти за рамки обыденности. Но таких… крайне мало.
И я совершенно не одна из них.
– Перейдём сразу к делу: вы вновь избили мою дочь, – перешла сразу в наступление директриса.
– Избила – слишком громко сказано, – я скривила в неприязни лицо. – Скорее просто немного проучила.
– Родителям вашим явно не хватает проучить вас, – резко сказала мисс Сартр, сжав от негодования руки в кулаки. – Уже в который раз вы поднимаете руку на мою дочь, в который раз вы приходите ко мне и грубите тут вместо того, чтобы осознать свои ошибки и наконец-то отстать от Тории. Но каждый раз я вас не выгоняю из школы, не исключаю…
– И почему же, интересно знать? – нетерпеливо спросила я, скрестив руки на груди и слыша эти слова уже далеко не в первый раз. – Почему за последние несколько лет вы так этого и не сделали?
– Неважно, – сдержанно отчеканила женщина. – Но этот раз последний, когда я вас оставляю в своей школе. Больше я не потерплю подобного издевательства над своей дочерью и не только над ней, ведь вы устраивали драки и с другими учениками.
– Да, бывало, – равнодушно согласилась я, не видя в этом ничего страшного.
Мисс Сартр смирила меня хитрым взглядом.
– Но в следующий раз я уже ничего сделать не смог, да и не от меня это теперь зависит. Наш мир меняется, и теперь в нём нет места сильным чувствам. Вижу, вы не в курсе этого, раз устроили очередное представление в столовой, поэтому поясню: нельзя испытывать сильные, неконтролируемые и агрессивные эмоции. И дело даже не в этом, что это может причинить другим боль, а в том, что вам самой от этого хуже будет.
– Почему же? – недоверчиво сощурила глаза я, смотря прямо в лицо директрисы. – Как видите, я сегодня проявила сильные эмоции и от этого ещё не померла.
– Возможно, скоро и помрёшь, – безразлично пожала плечами она. – Такое распоряжение вступает с начала следующей недели: если ученик проявляет сильные эмоции, то… скажем так, об этом стоит сообщить одному важному человеку. Вы ведь наверняка слышали о многочисленных пожарах, вспыхнувших по всему миру за последние несколько дней. Не думаете ли вы, что это просто так? От мира скоро не останется и пепла, а от людей – тем более.
– К чему вы ведёте? – никак не понимала я, вся напрягаясь от её слов.
– Скоро всё сама увидишь, если доживёшь. Просто будь осторожнее и… равнодушнее. Возможно, только равнодушие и спасёт весь наш полыхающий мир.
От директрисы я вышла в полном недоумении. Я понятия не имела, о чём она говорила за последнюю минуту, что хотела донести до меня своими загадками, какой смысл вкладывала в свои, казалось бы, бредовые слова. Мерзкое чувство тревоги так и забралось под кожу, как инфекция, что собиралась заживо содрать с меня кожу и не оставить ни капли жизни. Невероятно темно мне казалось в самой себе, а на фоне этой черноты так и вспыхивали бледно-серые сигналы беспокойства, словно вот-вот – и что-то произойдёт, нечто поистине ужасное, жуткое и… бесчеловечное. Мне не хотелось об этом думать, но мозг как назло всё прокручивал и прокручивал в голове слова мисс Сартр: «Возможно, только равнодушие и спасёт весь наш полыхающий мир». Да, на планете и вправду творилось что-то странное, непонятное и пугающее своей разрухой, но что именно – никто понять пока так и не смог. Но как можно было спастись с помощью равнодушия? Ведь это наоборот только погубит всех нас.
Бред. Что за бред.
Нельзя было быть безучастным к тому, что происходило. Нельзя было просто так наплевать на всех и вся и ни о чём не думать. Надо было спасаться… да, спасаться. Но от кого или от чего? И куда бежать? Где искать спасения? И зачем?
Слишком много вопросов. Слишком много непонимания.
Слишком…
Чувство потерянности в самой себе, в своём сознании, в своей душе, медленно подкрадывалось сзади, как смерть, и так же медленно расплывалось в безумной улыбке – вот-вот можно было забрать с собой очередную жертву. И возможно, так оно и было бы, если бы меня вновь не отвлёк чей-то голос:
– Джозеф сказал, чтобы ты довела меня до дома.
Передо мной словно из ниоткуда появился мальчик десяти лет с лохматой копной кучерявых каштановых волос. Его тёмно-карие глаза глядели на меня снизу вверх из-под больших очков, тёмные веснушки рассыпались по круглым щекам, словно кто-то просыпал шоколадную стружку, неопрятный джемпер обтягивал его полноватое ещё совершенно детское тело. Он держал в пухлых руках Кубик Рубика, который всё пытался научиться собирать полностью, а не только один цвет, его пытливый взгляд скользил по моему мрачному лицу.
– И тебе тоже привет, Хэмф, – слабо улыбнулась я и побрела в сторону раздевалки.
– Я вообще-то сказал тебе привет, но ты никак не отреагировала, – поджал губы мальчик.
– Да? – мне было всё равно. – Прости, я задумалась.
– А о чём думала?
Этот вопрос Хэмфри уже задал на улице, когда мы оделись и вышли из школы. Морозный воздух Колдстрейна тут же неприятно защекотал в носу и забрался в лёгкие, белый вид полностью окружил нас: снег падал на вытоптанные тропинки медленно, плавно, словно кто-то вытряхивал в сероватом небе перьевую подушку; всё скрипело от мороза, как старые половицы заброшенного дома; птицы радостно пели проходящим мимо редких деревьев людям, которые были вновь ко всему равнодушны и холодны, как сам наш безликий город.
И так всегда.
Сколько себя помню – безэмоциональные лица, лица, лица… А в них – абсолютно ничего. Холод. Безразличие. Бездушие. И самое главное – усталость. Жители Колдстрейна всегда выглядели уставшими: даже отпуск на месяц или две недели каникул не придавал им бодрости. Утро, завтрак, работа или учёба, перекус – глядишь, уже вечер и пора спать. Серая, скудная рутина, которая оказалась словно комнатой из четырёх стен, куда заперли каждого из нас и никогда не позволяли выходить. Везде преследовал холод: на улице, в домах, в душах. Даже лето всегда выходило настолько дождливым и морозным, что, казалось, вот-вот – и пойдёт снег в середине июля.
Ни капли блеска, ни капли солнца, ни капли загара или радости – всё меркло во тьме.
Выбраться?
Если бы только это было возможно…
Колдстрейн не отпускал, тот, кто заезжал сюда, оставался уже навсегда: появлялись совершенно из ниоткуда проблемы, события, боль и даже смерть. Город хоронил своих же жителей под натиском морозов и несчастий, нещадно бил их холодным потоком и не важно чего – ветра или равнодушия дорогого человека. Гроб, что словно находился в Антарктиде, – так можно было коротко описать Колдстрейн. Не открыть крышку, не выцарапать её ногтями, не докричаться до помощи – ничего не оставалось сделать, как смириться со своей жалкой участью и умереть.
А умирать придётся долго, мучительно и невыносимо болезненно.
– О том, что сказала директриса? – не дождавшись моего ответа, напомнил о себе Хэмфри.
– Откуда ты вообще узнал, что я была у неё? – тут же отвлёкшись от очередных мрачных размышлений, кинула я на него резкий взгляд.
– Слухи о том, что ты в очередной раз уделала Торию, быстро разлетаются, – серьёзно ответил он, будто отвечал на не менее серьёзный вопрос.
– Не поспоришь, – мрачно усмехнулась я, заправляя локон длинных чёрных волос за ухо.
– Так о чём же ты думала? – с любопытством, присущим не столько детям, сколько от природы всем интересующимся людям, вновь спросил Хэмфри.
Я задумчиво нахмурилась.
– В твоём классе случайно ничего не говорили о том, что происходит в мире?
– Ты про пожары? Да, сегодня мы сегодня обсуждали это. Многие считают, что во всём виноваты тайные группировки, которые хотят запугать весь мир и добиться власти. Но я считаю, что тут что-то другое, более серьёзное. Мне кажется, на мир движется тотальная катастрофа и поэтому надо как можно скорее бежать и где-то спрятаться… но куда и от чего?
– Вот у меня такие же мысли, – вздохнула я.
– Правда? – наивно обрадовался мальчик. – Я очень рад, что мы одинаково мыслим! Это делает меня ещё умнее.
– Ты и так умный, куда ещё умнее?
Я потрепала его по кучерявой голове, и он, к моему удивлению, не стать противиться, как обычно это бывало.
– Но ты умнее меня!
– Только потому, что старше. Уверена, у тебя будет ещё целая жизнь впереди, чтобы в сотню раз обогнать меня в силе ума. Веришь мне?
– Тебе всегда верю, – уверенно улыбнулся Хэмфри, что делал с такой редкостью, что сердце в груди дрогнуло.
Ему было всего десять лет, а учился он уже в шестом классе: в шесть лет пошёл в школу, а один раз перескочил через класс, так как был слишком умным. По всем предметам пятёрки, даже по физкультуре, хотя он никогда её не любил, особенно когда одноклассники насмехались над ним из-за лишнего веса. Но мне удалось его вовремя успокоить, сказать, что не стоило обращать на этих дураков внимание, а лучше вообще дать им сдачи – я и сама не заметила, как взрастила в нём первые семена жестокости. Хэмфри оказался не только умным, но и беспощадным к своим врагам: несколько раз он сам устраивал драки, когда его начинали слишком сильно доставать одноклассники, которые на два года старше его. В нём словно скапливалось нечто тёмное, но порой я задумывалась над тем, откуда всё это в нём взялось? Ведь не могла же только я быть причиной его порой чрезмерной… злости.
Но сейчас он казался таким милым и собранным, что я вновь засомневалась в том, как этот ещё маленький мальчик мог творить не только добро, но и зло.
Но ведь мог же.
По пути Хэмфри увлечённо рассказывал, как единственный из класса получил пятёрку по сложной контрольной работе, как им восхищались учителя и записывали его на разные олимпиады, как он отвечал на уроке и спорил с историком насчёт каких-то данных. Я же могла только внимательно слушать его и временами что-то вставлять, тогда как в глубине души помимо гордости и восторга за Хэмфри я испытывала чувство вины за то, что случилось между мной и Филис. Мне хотелось ей написать и попросить прощения, но почему-то думала, что правильнее будет сказать это лично при встрече. И как дожить до этой встречи? Я ведь могла и не выдержать этой многотонной тяжести вины.
Впервые в жизни я испытывала такое разрушающее чувство.
– Вот мы и пришли. Зайдешь к нам?
Хэмфри дёрнул за рукав моей тёмно-бежевой кожаной куртки, в которой я умудрялась не замёрзнуть в такой мороз. Его большие глаза смотрели на меня с мольбой, словно просили о помощи, что могла спасти его жизнь. А хотела ли я этого? Я не знала. Но оставаться один на один с чувством вины на душе мне совершенно не нравилось.
– Да, почему бы и нет?
Хэмфри был неимоверно рад: достав ключи, он открыл парадную дверь и, дав мне пройти вперёд, последовал за мной к своей квартире. Я знала эту лестницу как свои пять пальцев, знала эти стены, могла с закрытыми глазами указать, где находилось пятно от белой краски, засохшей ещё со времён первого ремонта; где была какая трещина, какого цвета дверь попадалась по пути, пока не окажешься у нужной: сделанная из сосны с золотистым номером квартиры. Столько воспоминаний скрывалось за этой дверью, столько слёз, смеха, радости, печали и… любви. Да, любовь тут была самая главная.
Когда Хэмфри открыл дверь, на пороге нас уже ждал его старший брат и, соответственно, мой парень – Джозеф Филдинг.
III: А семья бьёт по больному
Сила семьи, как и сила армии, в верности друг другу.
Марио Пьюзо
Мир, в котором запрещены сильные чувства…
Как можно было жить в таком мире, если один только взгляд на Джозефа у меня вызывал целую бурю эмоций? Он ведь такой красивый: тёмно-голубые, как дно кристально-чистого озера, большие глаза; длинные волнообразные кудри, которые лохматыми прядями падали на лицо и чуть ли не касались плеч – за последние полгода каштановые волосы заметно отрасли; на шее висел деревянный крестик, который по цвету подходил под белые пятна, неровно покрывавшие не только часть его квадратного лица с чётко-выраженными скулами и подбородком, но и всё его не слишком высокое сильное тело – он болел Витилиго. Но это делало его только более красивым, даже каким-то особенным.
Но для меня он всегда был особенным.
Хэмфри тут же ушёл на кухню, даже ничего не сказав брату или мне, но я почти не обратила на это внимание: расстояние между мной и Джозефом быстро сократилось, когда мы крепко обнялись, словно пытались спастись от бури на одном спасательном круге. Обниматься при встрече – как маленькая традиция или даже привычка, выработанная за много лет дружбы, а затем – и любви. Мы встречались где-то год, но казалось, что всегда – так я не могла уже представить себе жизнь без этого удивительно доброго и заботливого человека. Уже родной запах привычно защекотал ноздри: шампунь с крапивой и с лесными ягодами, пряность свежей выпечки, старые фотографии и солнечное утро, которое бывало в Колдстрейне настолько редко, что этого было почти не вспомнить. Но рядом с Джозефом хотелось вспоминать абсолютно всё хорошее и светлое, в том числе и летние утра, когда мы просыпались в одной кровати в его большой квартире.
Когда мы были вместе.
– Привет, – я шумно выдохнула, когда отстранилась от его тёплой фигуры и вновь почувствовала холод, – давно не виделись.
Джозеф нахмурил свои толстоватые, слегка пышные брови над небольшим носом – ровно так же делал Хэмфри, и, видимо, это было у них наследственное.
– Мы встречались с тобой ещё вчера, – сказал он наконец тёплым, неимоверно спокойным голосом, словно медленное плавание облаков по голубому небу.
– Да? – растерянно моргнула я, снимая верхнюю одежду и вешая её на крючок в стене. – Вчера ведь была среда, ты в этот день обычно работаешь.
– Вчера был четверг, – внимательно глядя мне прямо в глаза, заметил парень. – Разве ты не помнишь?
В груди тут же засело до безобразия пакостное чувство – что-то между диким страхом и стыдом, от которого хотелось провалиться под землю. А страх ведь был в том, что я и вправду не помнила вчерашний день. Ещё минуту назад я была твёрдо уверена, что сегодня четверг, но оказывается, сегодня пятница. Как же так? И даже расписание уроков меня не смутило: каждый день у меня почти одинаковые предметы кроме понедельника и субботы. Тогда почему я не помнила вчерашний день? Что случилось?
А ведь самое страшное заключалось в том, что так случалось уже не один раз.
– Конечно, помню, – улыбнувшись, быстро соврала я, будто вчерашний день вовсе и не выпадал из моей памяти, как многие другие дни. – Ты как себя чувствуешь? Выглядишь… уставшим.
И это ещё было слабо сказано. Кожа Джозефа побледнела, из-за чего края белых пятен чуть ли не сливались с нормальным цветом кожи; под потускневшими глазами залегли глубокие тени, словно кто-то размазал тушь; волосы совсем спутались и казались ещё более растрёпанными. Он как будто только что встал из постели или вернулся после бешеной суматохи: таким безжизненным, усталым и остывшим ко всему он выглядел. И это безумно меня тревожило: в отличие от меня, Джозеф никогда не был похож на типичных жителей Колдстрейна, но сейчас именно так оно и было.
– Я… приболел немного. А ты как себя чувствуешь? Не поранилась из-за мелкой драки в столовой? – вымученно улыбнулся он и тут же объяснился на моё нахмуренное лицо. – Я сегодня не был в школе, но сестра мне всё рассказала.
– Да от Тории даже боевого шрама не останется – она слишком слаба для меня, – не без высокомерия ухмыльнулась я.
– Тебе и так достаточно шрамов.
Взяв моё лицо в руку, он ласково, со всей своей нежностью поцеловал меня в висок. И это было так привычно, так приятно, что я счастливо улыбнулась – без смущения, но с благодарностью. С благодарностью за то, что только Джозеф делал меня не абсолютно одинокой в этом грязном, мёртвом бытие. Что он делал этот мир теплее, а вместе с миром – меня саму.
– Останешься с нами пообедать? Я приготовил зажаренную курицу с рисом.
Джозеф, как и его брат, смотрел на меня с той же самой мольбой, точно был утопающим и протягивал мне руку: осталось только решить, взять мне её или нет. Спасти или не спасти? Разумеется, я никогда не собиралась обрекать любимого на мучительную смерть.
– Конечно, я останусь! Тем более так вкусно звучит. И пахнет.
С широкой уверенной улыбкой я посмотрела ему в лицо, а он – в моё. Юноша был таким красивым, несмотря на свои белые пятна, таким сильным как внешне, так и внутренне – я всегда восхищалась его твёрдостью и волей характера. И это восхищение я выразила в своём поцелуе: буквально немного вытянув вперёд шею, я сначала медленно, но затем более уверенно коснулась его губ своими. Джозеф почти сразу же ответил на поцелуй, приобняв меня за талию и щекоча кожу своими отросшими кудрями.
– Я люблю тебя, – тихо прошептала ему в губы я, когда нехотя от них отстранилась с громко стучащим в груди сердцем, что было переполнено всевозможными эмоциями.
– Я тебя тоже, – расцвела на нём наитеплейшая улыбка, что Джозеф дарил только мне.
Только мне…
Сцепив руки, мы наконец-то вошли в кухню, где уже сидели за большим столом Хэмфри и его сестра – Олин, которая была на два года старше. Как у всех Филдингов, у неё были кудрявые волосы, но немного светлее, чем у остальных – цвета варёной сгущёнки, а не мокрой коры дуба. Серо-карие, как драгоценные камни, глаза всё время светились энергией и весельем, несколько родинок расположились на её милых щеках, в ушах блистали серьги, тогда как всё лицо ещё было полно детской красоты: круглый носик, мягкие губы, нетронутая косметикой гладкая кожа. Олин была красивой и в будущем могла стать ещё красивее, вот только её характер… порой желал оставлять лучшего.
– Мы вас уже заждались, – с неприязнью в голосе, будто нас отчитывала, сказала Олин и начала совершенно не осторожно нарезать себе курицу.
– Давай я тебе помогу.
Джозеф с присущей ему заботой и аккуратностью взял из рук сестры нож, тогда как она, казалось, хотела лучше случайно порезаться, чем снова терпеть помощь от старшего брата, но ничего не сказала: её взгляд был прикован ко мне и красноречиво сообщал о том, что только из-за меня девочка не устроила разборки.
Но худшее было ещё впереди.
– Как дела с учёбой? – непринуждённо спросила я у Олин, лишь бы она так с укором на меня не смотрела. – Хэмфри рассказывал, что вы писали какую-то сложную контрольную работу. А ты как написала?
Мне было совершенно плевать на это. Мне никогда не нравилась Олин, а я – ей. Между нами так появлялось напряжение и какая-то даже злость друг на друга, но я всегда была терпелива и равнодушна к её выходкам. Но вот она порой меня даже ненавидела. И из-за этого… я иногда сравнивала её с Хэмфри – оба в чём-то жестокие, словно некая наследственная связь. Но про их родителей я знала очень мало: их отец погиб, когда Хэмфри не было и года, а мать после этого стала вечно пропадать на работе, словно самое меньшее, чего она хотела – возвращаться домой и видеть своих детей. Поэтому Джозефу, как старшему брату, приходилось заботиться о них – в день и в ночь, в хорошее и плохое настроение, когда угодно и где угодно. Вот так и сейчас – несмотря на своё нездоровое состояние и даже лёгкую дрожь в руках, он помогал Олин с такой любовью, какую я ещё ни у кого никогда не видела.
Тем более у себя.
– Как всегда на низшую оценку, – недовольно скривила лицо Олин. – Уж ты-то знаешь, как плохо я учусь.
– Я же тебе помогал с уроками, почему же ты так нехорошо написала? – по-доброму спросил Джозеф, словно пытался очаровать своей невинностью сестру.
– Да не понимаю я эту тупую математику! – возмутилась она, всплеснув руками. – А Хэмф даже не собирался мне помогать!
Сам же Хэмфри ничего на это не ответил: с удивительной собранностью он поедал рис и тщательно жевал курицу, словно решал таким образом сложнейшие задачи. Еда была вкусная, и я вновь затосковала по тому, как раньше готовила мама, пока отец не ушёл из нашей семьи и она не начала чаще выпивать, чем готовить. А я… у меня, к сожалению, почти никакого навыка в приготовлении пищи не было. Да и ничто не могло сравниться с тем, как готовил Джозеф – только он так умел. Потому что всегда готовил с любовью, в каком бы состоянии ни был.
– Я тебе помогу во всём разобраться, – как всегда спокойно сказал парень и улыбнулся. – Понимаю, тебе не подходят точные науки, поэтому я как всегда буду с ними тебе помогать, хорошо?
– Лучше от этого всё равно не станет, – вместо благодарности зло фыркнула Олин.
– Ну-ну, не стоит так расстраиваться, – Джозеф потянулся рукой к её голове, чтобы потрепать по волосам, но девочка ещё сильнее вспыхнула:
– Да не расстраиваюсь я! Меня просто бесит, что ты вечно мне помогаешь, тогда как Хэмфри ты ни разу не помогал с уроками! Знаю-знаю, он у нас умный и поэтому сам со всем справиться, но я на два года старше его, а ты всё равно нянчишься со мной, как с маленькой! Я сама могу справиться. Вон, лучше к Хэмфри приставай. Да, Хэмф? Да? Да-да? Хватит меня игнорировать, Хэмф!
Она вдруг пристала к младшему брату, схватив его за руку и начав его трясти, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, но тот упорно делал вид, будто её не существовало. Пустое место. «Очередная пустышка этого мира, как не гниющая бутылка из-под кока-колы – такие люди тоже не гнили, но и не цвели. Просто существовали, как воздух – пусто, бессмысленно и совершенно бесполезно», – меня передёрнуло от моих же недавно сказанных слов: неужели настолько это было правдой? Как бы плохо я порой ни относилась к Олин, мне всё же в тайной глубине души хотелось верить в то, что она чем-то отличалась от других, чем-то… светлым, добрым.
Но так ли это?
– Олин, пожалуйста, перестань, – вежливо и терпеливо попросил Джозеф, кладя руку на плечо сестры. – Видишь, Хэмф не в настроении сейчас разговаривать, поэтому не надо к нему приставать, пожалуйста.
– Да он всегда не в настроении со мной разговаривать! – ещё больше возмутилась она, видимо, решив в этот момент выплеснуть всё, что накопилось за долгое время. – Он постоянно называет меня глупой и совершенно бесполезной! А я ведь порой пытаюсь ему помочь, защитить его от одноклассников, но он никогда не только меня не благодарит, но и вообще мне ничего не говорит! А ты, – она наконец-то посмотрела на старшего брата, – ты вообще не интересуешься мной по-настоящему! Только спрашиваешь, как у меня учёба и как дела, помогаешь с уроками и со всем остальным, но на меня саму тебе ведь наплевать! Совершенно пофигу тебе на то, что я не переживаю насчёт какой-то там тупой математики, а переживаю насчёт своих отношений!
– Каких отношений? – растерялся Джозеф, словно и не услышал всех других слов.
– Вот, ты даже не знаешь, что у меня есть парень!
Забавно.
Иметь парня в двенадцать лет – очень опрометчиво, наивно и совершенно бессмысленно. Разве продержится такая любовь надолго? Вряд ли. Может быть, с кем-нибудь такое и прокатило бы, но точно не с Олин – слишком вспыльчивой и ревнивой она была. А ещё очень мстительной: помню, она чуть не поссорила нас с Джозефом из-за того, что я рассказала о том, что она на самом деле делала со старшеклассницами на вечеринке. И вспомнить подобное можно было очень многое… Вот только разбитое сердце – это всегда больно. А мне не хотелось, чтобы Джозеф волновался за свою порой слишком глупую сестру.
– Как я должен был этом знать, если ты ничего мне не рассказывала? – мертвецки спокойным голосом задал вопрос Джозеф.
– А спросить у меня, нет? – развела руками Олин, делая вид, что будто ни в чём не виновата. – Ты ведь только с уроками ко мне и пристаёшь! А поинтересоваться моей личной жизнью тебе нет никакого дела!
– Я даже предположить не мог, что у тебя в таком возрасте может уже появиться кто-то, – возразил молодой человек.
– У неё одни мальчики в голове, какая учёба? – неожиданно вдруг подал голос Хэмфри, до этого молчавший с самого прихода.
– И ты туда же! – совсем разозлилась Олин. – Все одинаковые! Никто меня не понимает! Пошли вы все в задницу! – она резко встала со стола и уже только в проёме двери обернулась ко всем нам лицом. – И не подходите ко мне больше! Особенно ты, Джозеф.
И скрылась в своей комнате, хлопнув дверью.
Подумать я ни о чём не успела, как послышался новый скрип отодвигающегося стула: это Хэмфри тоже встал из-за стола и молча, кинув напоследок на меня виноватый взгляд, вышел из кухни. От собственного тяжёлого вздоха я вздрогнула – даже не заметила, как всё это время неподвижно сидела за столом и слушала спор, что вновь разрушал семью Филдингов.
Как же больно.
Чертовски больно.
Больно смотреть на Джозефа. Тот сидел ошеломлённый, с пустотой в груди вместо сердца и лёгких. Плечи опущены, глаза покраснели, будто он плакал; в бледном свете, что шёл из окна, юноша казался чуть ли не белым, как лист бумаги – таким являлся только что стёртый рисунок семьи. Джозеф выглядел ещё более устало и болезненно, чем был до этого, отчего моё сердце переполнялось ещё большей тревогой за него.
Чёрт.
– Может, у неё сегодня был плохой день, поэтому Олин так…
«Разозлилась на тебя?..» – я не смогла договорить. Замолчала. Так будет правильнее.
И менее… плохо.
Джозеф любил тишину. И особенно её любил, когда было так невыносимо больно. Тихо, но не пусто – потому что я рядом. Согревала этот холод квартиры, которую не мог отогреть даже Джозеф своим тёплым характером. Я знала, что была для него неким «якорем» – тем светом, ради которого стоило подняться с колен и жить дальше. Вот только я никогда не чувствовала в себе свет – лишь мрак и полная безнадёжность ситуации. Но ради любимого… я старалась быть лучше. Добрее. Нежнее.
Светлее.
Я прижалась к его хрупкой груди, положив голову ему на плечо. Джозеф крепко обнял меня в ответ. Я слышала стук его сердца, что перекачивало обиду и яд ссоры по венам, и прижалась сильнее, пытаясь перелить в себя всю отравленную его кровь, переманить на себя плохие мысли, унять бушующую боль. Мне отчаянно хотелось вылечить его от неведомой мне болезни душевного беспокойства. Это тяжело за всех всегда переживать: за мать, за брата и сестру, за меня, за друзей, за всех. Я до сих пор не представляла, как Джозеф мог выдержать такое, буду очень впечатлительным и ранимым, как неокрепший птенчик, брошенный своими родителями. И брошенный вовсе не на произвол судьбы, а на съедение своего самого главного страха – остаться совершенно одиноким.
Самым одиноким во всём мире.
Не знаю, сколько мы простояли так в объятиях, вслушиваясь в тяжёлую тишину и думая каждый о своём, пока я осторожно не отстранилась от возлюбленного:
– Давай выйдем на улицу. Там… тебе может стать легче.
Он ничего не ответил, лишь молчаливо пошёл переодеваться, тем самым давая понять, что согласен с моей идеей. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним, взволнованно смотря в его спину, покрытой белой тканью футболки. Меньше всего на свете мне хотелось видеть Джозефа таким разбитым – ведь в такие моменты я не могла ему ничем по-настоящему помочь, что бы там ни говорила и как бы его ни утишала.
От чувства собственной беспомощности мне самой становилось больно.
Колдстрейн встретил нас как всегда молчаливо и равнодушно, словно всем своим снежным видом хотел нас оттолкнуть или похоронить в минус двадцать. Но мне почему-то было удивительно тепло: одной кожаной куртки было достаточно, чтобы не чувствовать мороза. И это было странно – раньше я всегда куталась в пальто, боясь заболеть, а сейчас расхаживала в совершенно лёгкой одежде и никак не мёрзла. Удивительно. Или забавно?
А лучше страшно.
– Мне кофе.
Когда официант ушёл, я удивлённо вскинула брови, посмотрев на Джозефа.
– Ты же не любишь кофе.
Тот лениво пожал плечами и ничего не ответил на мои слова, лишь пусто уставился перед собой. Вздохнув, я положила ладонь на его сцепленные слегка дрожащие руки и осмотрелась: мы сидели за круглым столом в уличном кафе под названием «Дорога в небеса», куда дошли от дома Джозефа. Всё было сделано в светло-коричневом цвете дерева: стулья в идеальном порядке располагались вокруг столов, которые образовывали круг между собой, а между ними тут и там в деревянный пол были воткнуты большие белые зонты, закрывающие собой от снега; красивые лампочки, как гирлянды, освещали всё помещение и делали его немного теплее; хвойный лес, часть которого была увешана в такие же гирлянды, окружал с двух сторон два небольших домика, где готовили еду, делали горячие напитки и продавали всевозможные рождественские сладости. Но самое красивое помимо всей этой яркости и радости, которыми было наполнено кафе, был открывающийся вид на залив Аляски: тёмные воды лениво касались не заледенелой поверхности, в небольших волнах отражалось серое небо и вечерняя сине-ледяная атмосфера. Снег уже не шёл, дав перерыв жителям города, но все знали, что это не надолго.
К сожалению?
Вряд ли.
Когда шёл снег, то казалось, что это было единственное живое явление в нашем мёртвом городе.
– Наверное, я должна извиниться за то, что именно я начала тот разговор на кухне.
Я решила наконец нормально поговорить с Джозефом только тогда, когда нам принесли напитки. Я больше не могла вынести его молчание – кто знал, о чём он думал? Что творилось в его лохматой голове? И хоть кудри мило и даже смешно торчали из-под его вязаной шапки, сам парень выглядел самым печальным человеком на свете.
– Всё равно что-нибудь бы случилось, – тихо возразил он, медленно попивая кофе, которое до этого момента всегда терпеть не мог. А тут…
Что же с ним случилось?
– Наверное, – я поморщилась от слишком горячего глинтвейна, который по привычке взяла в этом кафе. – Но сам посуди… когда тебе было двенадцать лет, ты вёл себя почти так же. Ну, по крайней мере, уж я-то точно. В таком возрасте всё кажется несправедливым, злым, жестоким и равнодушным к тебе. Хочется внимания и не важно какого – негативного по отношению к тебе или нет. Лишь бы кто-то заметил тебя, кто-то заинтересовался или разозлился на тебя. В таком возрасте внимание очень важно, как и собственная значимость: будь то любовь или ненависть. После начальной школы всё кажется необычным, хочется быть круче, знакомиться со старшеклассниками, иметь отношения и вести бурную жизнь, совершенно наплевав на учёбу. Да и на всё остальное тоже – только ты сам себе важен. В двенадцать лет… я ужасно хотела, чтобы со мной обращались как с взрослой, чтобы с уважением относились ко мне, чтобы прислушивались к моему мнению и интересовались мной так, будто интереснее меня человека не существовало. Это такой возраст, когда хочется всего и вся, и очень трудно сохранить в себе… уважение к другим.
– И надо что-то с этим делать, – вдруг твёрдо сказал Джозеф. – Я согласен с твоими словами. Да, ты права, что в двенадцать лет надо не забывать об уважении и, думаю, это определённо относится к Олин. Хэмф почти со мной никогда не ссорится: то ли потому что умный, то ли потому что ещё маленький, то ли просто потому что он мальчик. Но Олин… она капризничала даже тогда, когда ей было всего пять лет. Мне кажется, просто с самого рождения у неё такой характер: так сыграли в ней гены, а не только не самое лучшее воспитание…
– Ты заботился о ней как мог, – я положила вторую ладонь ему на руки и сжала его пальцы, которые только сейчас наконец-то перестали трястись. И вовсе не от холода. – Ты всегда очень любил её и сейчас сильно любишь. Конечно, не во всём виноват её возраст, но во многом. Так что…
– Остаётся надеется на лучшее, – договорил за меня он и благодарно улыбнулся. – Спасибо тебе, Делора.
Он преподнёс мои руки к губам и нежно поцеловал, словно касался губами самой чувствительной кожи, тогда как мои руки уже давно были полны шрамов, вечно разбитых костяшек и грубой кожи, стёртой в некоторых местах до мозолей, а один палец вообще был кривой. Совершенно не женские руки. Но Джозеф любил их такими, какими они были – как и меня саму. А я – его.
Идиллия, не так ли?
Как же мне хотелось, чтобы наши отношения длились как можно дольше.
Навсегда?
Навсегда.
– Ты – вся моя жизнь, Джозеф. Ты ведь знаешь это?
На мгновение в его тёмно-голубых глазах промелькнуло что-то странное, но он тут же расплылся в ещё более широкой улыбке. В ещё более счастливой.
– Знаю. И люблю тебя за это ещё больше.
Мы поцеловались – так, словно нуждались в этом больше, чем в воздухе. Так, словно не могли жить ни секунды друг без друга – и сейчас мне это казалось как никогда правдой. В груди громко стучало сердце, руки отчаянно сжимали широкие ладони, дыхание сбилось от такого большого количества эмоций: от трогательной любви до неистового желания защищать его любой ценой.
И я была уверена, что Джозеф сделает ради меня то же самое.
Крепко держась за руки, мы шли уже обратно домой, когда заметили горящий дом, вокруг которого столпились не только пожарные, но и просто прохожие. Пламя рассекало холодный воздух, в небо поднимался столб чёрного, как сама тьма, дыма, огонь расползался от одного этажа к другому, постепенно охватывая весь небольшой пятиэтажный дом. В последнее время пожары настигали как Колдстрейн, так и весь мир всё чаще и чаще – вот и сегодня мы стали свидетелями этого неугомонного бедствия. Но из-за чего всё это было на самом деле?
– Там моя дочь! Пожалуйста, кто-нибудь спасите её! – захлёбываясь в слезах, надрывно кричала женщина, но никто её не слышал: пожарные пытались справиться с пожаром, а все остальные либо были только что спасены из огня, либо слишком трусливы, чтобы пойти на помощь.
Но Джозеф не был таким.
Он вдруг сорвался с места, и я даже пискнуть не успела, как он уже скрылся в горящем здании. Сердце вмиг оборвалось в груди. На несколько секунд всё застыло, а меня будто оградили матовым стеклом: всё казалось размытым, несуществующим, нереальным. Как и то, что Джозеф только что кинулся прямо в яростный очаг огня. Но вот ещё мгновение назад его рука держала мои пальцы, как уже сейчас его спина скрылась там – в столбе пламени и дыма. Я не знаю, закричала ли я, когда упала на колени и в ужасе смотрела на безжалостные красные языки, пожирающие всё на своём пути.
Мира вокруг не существовало.
Только мой полный паники взгляд и горящий дом, что весь трещал и скрипел от огня.
Где-то там что-то громко рухнуло, а вместе с ним – и моё сердце.
Страх.
Как же до боли страшно.
Страшно. Страшно. Страшно.
Меня всю трясло, а с каждой секундой всё больше – так я боялась больше никогда не увидеть Джозефа живым. Никогда не услышать его чистый смех, рассудительный голос, умные речи. Никогда не увидеть его красивых глаз, не потрогать его мягких кудрей, не ощутить его запах. Никогда…
Даже думать об этом было невыносимо.
Я чувствовала, что хочу заплакать, но у меня не было слёз. Я понимала, что глотку рвало от крика, но я не кричала. Я знала, что вот-вот моё сердце надорвётся от смертельного ожидания, ведь с каждой секундой шанс на выживание всё уменьшался и уменьшался…
До абсолютного нуля.
До полной…
Нет, не смерти. Нет!
Нет – потому что вот он, Джозеф! Бежал из огня с пятилетним ребёнком на руках. Бежал вперёд, ещё не до конца осознав, что перед глазами уже не стоял красный свет гибели, а была земля – мокрая от растаявшего из-за жары снега, но не опасная. А Джозеф – живой.
Живой.
Эта мысль вывела меня из транса и заставила кинуть ему на шею, когда тот отдал ребёнка в руки матери, которая ещё больше разревелась. Я счастливо обняла любимого, не в силах поверить в то, что свершилось чудо, в которое я никогда не верила. Но вот он, Джозеф – был в моих руках живой, горячий и почти невредимый, лишь одежда его стала чёрной от копоти, а в некоторых местах даже сгорела. Но сам он не был ранен. Только его сердце.
– Я не спас её, – всё шептал он в мои волосы и шептал, как мантру.
Медленно осознавая его слова, я в ужасе посмотрела на рыдающую мать ребёнка, который оказался мёртв: глаза на бледном лице пусто уставились в вечернее небо, руки раскинуты в стороны, футболка пропиталась слезами матери, что безутешно надрывала голос в отчаянных воплях. И никто теперь не сможет ей помочь.
Никто.
– Ты сделал всё, что мог.
Совершенно никчёмные слова, но я считала это правдой. Но Джозеф этому не верил.
– Я услышал её голос, схватил и попытался как можно скорее вынести из дома… Но она умерла у меня на руках. Я не спас её.
Он вновь сказал это – и вновь разодрал себе сердце в клочья. А вместе с ним – и моё. Так невыносимо снова было смотреть на его мучения, так невыносимо снова осознавать, что я ничем не могла помочь ни ему, ни погибшему ребёнку, так невыносимо видеть его таким… разбитым.
Невыносимо. Невыносимо. Невыносимо.
Но я держалась. Смотрела. Осознавала. Видела.
Я сильная.
И я помогу Джозефу любой ценой.
– Ты выжил, Джозеф, – мой голос хриплый, тихий. Сорванный. – И это… не менее важно. Зачем ты… зачем ты пошёл спасать ребёнка?
Он покачал головой, взяв со своего лица мои ладони в свои руки и смотря прямо перед собой, будто вновь и вновь переживал весь огненный кошмар.
– Ты не понимаешь, Делора, – я вздрогнула от его настолько сломанного голоса. – Я подумал… а если бы на месте этой девочки оказался бы Хэмфри или Олин? Или мама? А если бы… если бы там оказалась ты? Ведь ты, как и кто-либо другой, мне не менее сильно важен и дорог, чем дочь этой матери, – он кинул печальный взгляд на рыдающую женщину. – А если бы я точно так же кого-то из вас не успел бы спасти?..
– Пожалуйста, не думай об этом, – дрожащим от с трудом сдерживаемых слёз попросила я. – Никто не умер из твоих родных и друзей. Я жива. Все живы. Всё… всё будет хорошо. Только не думай о смерти, пожалуйста. Прошу…
В глазах Джозефа отражался огонь, как во мне отражался весь пережитый ужас, смешанный в грязи с радостью за любимого. За то, что тот оказался живым.
Но был ли он жив внутри?
– Я не могу не думать о смерти, – сокрушённо сказал он, вытирая моим пальцем слёзы со своих щёк. Но на место старых появлялись новые. И всё текли и текли… – Я так устал, Делора, так устал. Эти ссоры, полное наплевательство на то, что я делаю каждый день для Хэмфри и Олин… Я… я так устал от этого, что уже нет никаких сил. Я… я бросился в огонь просто потому, что в глубине души хотел там сгореть… Умереть, как эта девочка…
Я смотрела на него со слезами на глазах. Жизнь во мне на мгновение исчезла. Исчезла, как всякая надежда на то, чтобы собрать парня по осколкам: его душа разбилась вдребезги – слишком далеко, слишком давно, слишком сильно, слишком больно. Невозможно починить то, что всегда было сломанным.
Если сломленность – это вид искусства, то Джозеф был наглядным примером самого гениального шедевра.
– Ох, Джозеф… Джо… Я всегда буду рядом. Всегда. Как и всегда с тобой была.
Но как оказалось – не всегда.
IV: А глаза полны печали
Мне жалко, что люди забыли простую истину: в твоем последнем костюме не будет карманов.
Вигго Мортенсен
Удар – отскочить.
Удар – и вновь увернуться.
Удар, удар – и ещё один удар.
Я дралась чётко, профессионально, каждый раз используя новые приёмы, чтобы противник не смог ожидать от меня чего-то определённого. Сложно, но вполне реально, если подходить к делу с умом. И, разумеется, не без любви к своему делу. А я очень любила драться: только так могла по-настоящему вместить всю скопившуюся за несколько дней злость, сорвать с петель дверь, за которой хранились все самые тёмные чувства. А за ними далеко ходить и не надо: моя душа была подобно кладбищу, вот только гробы все лежали не под землёй, а на поверхности.
Открываешь крышку – и ложишься на место трупа. Закрываешь – и теперь ты уже труп, в котором вместо пустоты и гнили определённая эмоция.
Я сама выбирала, куда мне лечь на съедение собственных чувств. Как червяки они пожирали меня – тут и там из кожи вылезали розовые головки мерзких тварей, что всё ели, ели и ели. Меня, органы или копоть сердца – плевать. Одно лишь важно, что после этого я уже не была собой.
Умирала?
Только в самой себе.
– Давай, Делора! Уделай её!
– Ричи, не сдавайся!
Весь подземный бар «Рога Дьявола» шумел, сотрясался от пьяных выкриков, столы дрожали от кулаков, как дрожала Ричелл Снэй – моя соперница, с которой я в очередной раз вышла на импровизационный ринг в этом баре. Её постриженные под каре белые волосы уже совсем растрепались, миндальные глаза были полны ярости, мелкие веснушки почти не были видны на раскрасневшемся большом лице, широкоплечее, не слишком высокое тело всё покрылось потом, который пропитал её топик и шорты. Я прекрасно видела то, как девушка устала, но она упорно держалась на ногах и крепко сжимала пальцы с разбитыми в кровь костяшками.
От бушующей в ней злости Ричелл продолжала драться со мной, но на победу было рассчитывать смешно: я почти не чувствовала боли от её ударов и была удивительно мрачна в этот раз. Как ни странно, сейчас бой не приносил мне особого удовольствия, не хотелось выплеснуть все эмоции, не было никакого желания выигрывать или проигрывать. Надеть маску и танцевать под крики поддерживающих меня людей, что вновь делали ставки: кто победит, а кто нет, – вот что я делала. Постоянные посетители бара знали, что меня ещё никто никогда не одолевал, так что всегда голосовали за меня. Те, кто любил риск и пойти против всех, – за Ричелл.
Но та проиграла уже через пару минут, когда я с силой вмазала ей в лицо, тем самым повалив на пол. Душный зал взорвался аплодисментами и воплями, многие выкрикивали моё имя, чтобы поддержать и показать, как они рады за меня.
Но мне было плевать.
Сегодня оказался не тот день, чтобы радоваться победе. Сегодня я чуть ли не потеряла Джозефа, чуть ли не лишилась всего, поэтому пришла сюда только для того, чтобы стать сильнее. Не морально, так физически. Я не могла просто взять и пойти домой после того, как проводила Джозефа – мне хотелось что-то сделать, что-то решить, на что-то отвлечься. И единственный способ – пойти подраться. Как раз это и было ответом на вопрос Филис: откуда у меня появились раны, синяки и шрамы. Ходить в «Рога Дьявола» стало привычкой ещё год назад: по чистой случайности однажды я забрела сюда, напилась в стельку и предложила устраивать драки. И всем это понравилось.
Хоть что-то понравилось от меня.
– Почти победила, – усмехнулась я, подавая руку помощи для Ричелл.
Та лишь плюнула мне под ноги, кулаком вытерла кровь из разбитого носа и, злобно сверкнув взглядом в мою сторону, сама встала с пола.
– Я тебя не просила о помощи, – прорычала она и, ещё раз вытерев кровь с лица, резкими движениями слезла с ринга, чтобы направиться в сторону примитивной раздевалки.
Передразнив девушку у неё за спиной, я пошла за ней, чтобы тоже переодеться. Несколько людей пытались встать у меня на пути, чтобы подбодрить или выразить своё восхищение моими ударами, но я лениво отмахивалась от них, не желая сейчас никакого внимания или веселья. Почему-то так и хотелось от всех скрыться, забиться в угол и долго-долго ни о чём не думать – просто смотреть перед собой, словно ничего не было интереснее точки на полу.
Это было странно.
Странно для меня: я всегда любила как следует отпраздновать свою победу, напиться в хлам и быть всеми обожаемой. Но сейчас… тревога после произошедшего до сих пор преследовала меня, а мысль о том, что Джозеф хотел заживо сгореть в доме, лишь бы больше не переживать каждый день одно и то же… выбила меня из колеи. Мне никогда в голову не приходила мысль о том, что этот жизнерадостный и очень добрый человек захочет умереть. Эгоистично? Только с его стороны. И с моей тоже – ведь я представить себе не могла жизнь без Джозефа. А он бросился в огонь ради какой-то девочки… и чтобы умереть. А бросился так быстро, так рьяно, словно не желал себе дать ни секунды на размышления. Или он уже давно всё решил? Тогда… знаю ли я вообще своего любимого?
Этот вопрос одним взмахом косой Смерти окончательно отрезал мне ноги – сейчас я лежала в луже собственной крови и всё никак не могла умереть от её большой потери. Тело не хотело умирать, а вот душа – пожалуйста.
Вот только я уже давно была мертва. Просто этого ещё не знала.
– У тебя с каждым разом получается всё лучше и лучше. Если будешь больше тренироваться, то сможешь одолеть меня. Правда. Но не только в силе дело – порой надо следить и за собственными чувствами. Иногда ярость не приводит ни к чему хорошему, лишь ослепляет, даёт противнику вывести тебя ещё больше из себя. Умей контролировать свои эмоции. «Если сегодня я не найду слабость моего врага, завтра он найдет мою» – так я всегда твержу себе перед тем, как выйти на ринг и вновь начать бой. А затем и выиграть.
Я говорила совершенно без сарказма, хотя в любой другой день могла бы чуть ли не издеваться над Ричелл. Сказать обидные слова, показать свою мощь, возвышаться на троне и с высокомерием смотреть прямо в лицо – я всегда так делала при ней и никогда не чувствовала какой-либо вины за это. Растоптать, засмеяться и уничтожить своей порочностью. Ха-ха, а кто из нас идеален? Верно, никто. Никто и никогда.
Но сейчас, видя её отчаянное положение, я почему-то захотела помочь Ричи.
Доброта?
Её у меня нет. Только к Джозефу. Даже ни к матери, ни к самой себе.
Пальцы непроизвольно коснулись лейкопластырей, что до сих пор остались на мне после того, как их приклеила Филис. Доброта от неё? Некая… болезнь, которой она меня заразила?
Возможно.
А может, меня просто так убивал страх потерять самое дорогое в этой бесполезной жизни – Джозефа…
Не слишком ли я привязалась к нему? Я только сейчас об этом задумалась: до этого не случалось таких опасных ситуаций, даже ссоры были не в счёт. Но чтобы так ясно представить в один момент, как я могла потерять любимого… этого ещё никогда не было. И как теперь жить с этой мыслью? Как теперь смириться с тем страхом, что я могла потерять Джозефа? Раньше я ничего не боялась. Но сейчас… я словно теряла свой внутренний стержень, становилась медленно, но верно трусливой и слабой. И это всего лишь из-за одного события. А что будет дальше?
Что за смерть меня ждала?
– Никто не знает твоей слабости, – жёсткий голос Ричелл вернул меня в реальность. – Как можно узнать твою слабость, если тебя ещё никто ни разу не побеждал?
Она изучала меня миндальными глазами, стоя напротив дешёвых старых шкафчиков и сжимая в окровавленных руках свою футболку. Тусклый свет окружал её широкую фигуру, за белыми волосами виднелись серые потрескавшиеся стены и маленькое окошко в самом углу раздевалки.
– Внимательно за мной понаблюдать? – пожала я плечами, садясь на низкую скамейку и вытаскивая из рюкзака джинсы, чтобы их надеть.
– До сих пор не помогло, – в недовольстве скривила рот Ричелл. – Только если круглым сутками за тобой следить. Или стать близкими подругами…
– Что невозможно, – закончила я за неё и гадко ухмыльнулась. – Даже не пытайся.
– И не хотелось, – враждебно отрезала девушка, отвернувшись от меня. – Я уважаю твою силу, твою стойкость и волю. Уважаю тебя саму. Но твой характер порой бывает невыносим.
– Поверь мне, это взаимно, – цокнула языком я, чувствуя медленно поднимающееся настроение.
– Ты не уважаешь меня.
– А я и не про уважение говорила.
Ричелл всё же злобно посмотрела на меня.
– Ты невыносимее меня.
– Значит, признаёшь, что ты тоже невыносима? – ядовито сказала я, показав ей язык.
– Ты меня бесишь!
Она громко захлопнула дверцу шкафчика, который чуть ли не развалился от её силы, и нависла надо мной, словно собиралась меня ударить. Я тут же насторожилась, но показывать своего напряжения не стала – пусть Ричи не знает, как меня порой заставала врасплох её неконтролируемая вспыльчивость. Она и так была неимоверно зла после очередного провала в бою со мной, хотя ей было чем гордиться: она занимала второе место по силе в этом баре, тогда как я, естественно, первое. Но Ричелл этого всегда было мало, как и всего остального – чего бы она ни добьётся, она плюнет на гордость своими достижениями и будет всячески доказывать, что ничего в этой жизни ещё не достигла.
И эта ненависть к самой себе лишь убивало Ричелл.
Она не стала меня бить, лишь швырнула в мою сторону свои штаны и уселась на холодный пол в угол маленькой комнаты. Держа в руках шприц, девушка медленно ввела иголку под кожу, а затем и само странное прозрачное вещество, после чего положила уже пустой шприц рядом с собой и расслабилась.
– Не знала, что ты принимаешь наркотики, – заметила я, продолжая переодеваться и кидая настороженные взгляды в сторону Ричи.
– Это не наркотик, хотя раньше я имела с ними дело.
Я застыла от того, насколько её голос оказался пустым. Словно что-то доносилось из глубин сгнившей грудной клетки мумии. Ни капли жизни – лишь бесконечная человеческая нагота – гибель. Смерть всем чувствам, смерть всем мыслям, смерть всем проблемам.
Смерть самому себе.
Смерть. Смерть. Смерть.
– Тогда… что это? – спросила я, невольно пялясь на Ричелл и её полное безэмоциональное состояние.
– «Сыворотка равнодушия» – так это вещество называют в народе, – идеально ровным голосом ответила она. – Позволяет совершенно ничего не испытывать. Ни капли чувств. Абсолютный ноль.
Это даже звучало жутко. Ничего не чувствовать? Как так можно? Ведь человек с самого своего становления что-либо чувствовал, как и любое другое животное. И неужели после нескольких тысяч лет человечество гордится тем, что наконец-то избавилось от эмоций? Что оно собиралось этим достичь? А главное…
– Зачем? – спросила я уже вслух.
– Пожары, – вынимая пачку сигарет и закуривая, глухо сказала Ричелл. – Весь мир в пожарах. Многие стали считать, что это не специальные поджоги или взрывы. Что это болезнь.
– Болезнь? – нахмурилась я, застыв окончательно со своей бежевой курткой в руках и внимательно следя за Ричи.
– Да, болезнь, – совершенно равнодушно подтвердила она, словно говорила о чём-то максимально незначительном, и выдохнула дым. – Непонятно, как она распространилась на все континенты и откуда вообще взялась. Вообще мало что известно, многие до сих пор думают, что это выдумка.
– А ты считаешь, что это не так?
– Разве не видно, что именно я считаю?
Ричелл подняла на меня безликий взгляд, и я покрылась мурашками: так было непривычно видеть её без ярости, злости, враждебности – без каких-либо чувств. Словно кукла, на которую натянули кожу, как колготки на ноги, и дали одежды, чтобы согреть то, чего не существовало – сердца и души. Точнее, что исчезло под воздействием этого некого «наркотика». А было ли там вообще хоть что-нибудь до этого? Кто знал.
– Я не понимаю, причём тут чувства.
– Они мешают, их сложно контролировать, как ты и говорила, – Ричелл безучастно смотрела на тлеющую сигарету. – А ещё они помогают болезни развиваться в теле своей жертвы. Сильные эмоции теперь запрещены, понимаешь?
«…нельзя испытывать сильные, неконтролируемые и агрессивные эмоции. И дело даже не в этом, что это может причинить другим боль, а в том, что вам самой от этого хуже будет», – слова директрисы как яд впитывались под корку сознания и никак не выходили из головы. Меня пробила дрожь от осознания того, насколько оказалось всё серьёзным, тогда как я до этого момента относилась к этому не так, как положено – без ужаса и страха перед тем, что нас ждало впереди.
А что там? Что?
Демон огня смеялся нам в лицо.
– «Возможно, только равнодушие и спасёт весь наш полыхающий мир», – тихо повторила я слова директрисы, задумчиво глядя в окошко, где на фоне чёрного неба вновь шёл снег.
– Верно, поэтому и стоит заглушать эмоции таким способом, – Ричелл потушила сигарету о своё запястье, даже не поморщившись от боли, и закурила новую, щёлкнув зажигалкой. – Боль – иллюзия чувств, отчаяние – иллюзия разума. Всё иллюзия. Человек сам создал в своей больной голове мир, который потом же он и обвиняет. А ведь во всём виноваты мы, только мы. И в проявлении чувств – тем более. Всё желало нам смерти: от ураганов до войн. Но мы до сих пор не сдохли. Так может, именно сейчас наступит наш конец? А мы так отчаянно не хотим этого признавать, что прячемся за дамой равнодушия, боясь посмотреть смерти в лицо. Как и всегда боялись.
Её слова доносились до меня как завывания ветра: дули прямо в ухо, но были нечёткими, нереальными, словно кто-то говорил из сна, а когда проснулся – в голове остались лишь обрывки, как в гневе разорванная ткань. Ничто не хотелось задерживаться в моём сознании, как бы самоотверженно я ни пыталась зацепиться хоть за какое-то предложение. Мне просто не хотелось верить. Истина… впервые я яростно отказывалась знать правду.
Нет, нет, нет, этого не может быть! Нет!
Человечество не умрёт. Никто не умрёт. Ни мама, ни Хэмфри, ни Ричелл, ни я, ни кто-либо другой, ни тем более Джозеф. Особенно Джозеф.
Он не мог умереть. Не мог.
Я вышла из раздевалки в тот же миг, когда эта мысль сформулировалась на кладбище моего сознания. Сердце колотилось о рёбра так, словно я только что отправила в нокаут ещё одного своего противника. Руки – дрожь. Мысли – хаос. Сердце – кровь. Чувства… распирали горло, будто меня заживо сжигали на костре посреди гробов моей чёрной души.
Что это? Страх? Снова страх?
Чёрт.
Почему я снова боялась? Что сломалось во мне, отчего я впервые стала чего-то бояться? Почему… так страшно? Почему?
Чёрт. Чёрт. Чёрт.
– Хэй, Делора, у тебя всё в порядке?
Весёлый, ещё довольно детский голос привёл меня в себя. Не стоило показывать свою слабость, не стоило. Надо стать сильнее. Но разве не для этого я сюда пришла? Для этого. Тогда что же пошло не так?
Всё.
– Разумеется, – я через силу усмехнулась, пытаясь успокоиться и остановить такой непривычный поток вопросов.
– Ты побледнела, – Ченс подошёл ко мне ближе и протянул бутылку. – Я взял тебе вино, как ты и любишь.
– О, ну с вином мне ещё лучше станет.
Благодарно кивнув, я взяла из его рук алкоголь и, открыв бутылку, сделала несколько блаженных глотков. Жадно, чётко и быстро – я и не заметила, как страдала жаждой после нескольких боёв. Спирт ударил в голову почти сразу, но я привычно не обратила на это внимание и посмотрела на Ченса. Тот глядел на меня со своей «супер соблазняющей» улыбкой, хотя только он сам считал, что так красиво улыбался, и поправил свою красную шапку, которую носил в любое время года, какая бы погода ни стояла. Из-под головного убора торчали чёрные непослушные волосы, на узком, довольно маленьком лице ярко выделялись в темноте коридора светло-зелёные глаза, кожа так и не стала загорелой, а низкорослое тело более накаченное или высокое, как бы он ни старался выглядеть «свежее и круче». Ему было всего пятнадцать лет, а познакомилась я с ним ещё очень давно: как-то один раз надрала зад его обидчикам, а затем мы стали чаще видеться в барах или в клубах.
Друг? Возможно. Однако так таковым мне никогда не хотелось называть Ченса.
– Я тут забрал все ставки, как и всегда. В этот раз получилось даже больше, чем в предыдущий, – он протянул мне пластиковый стакан с деньгами в прозрачном мешочке, который я взяла и кинула себе в рюкзак.
– Неужели люди решили расщедриться? – криво усмехнулась я, выходя с Ченсом на улицу через чёрный выход.
Удивительно, но я не осталась на празднование своей очередной победы, не стала напиваться до беспамятства. И вовсе не из-за того, что завтра надо было в школу – с оценками у меня никогда проблем не было – а скорее из-за едкого осадка на душе, который стал ещё больше после разговора с Ричелл, словно кто-то наваривал из моих чувств ядовитое зелье для наивных людей. Взять и убить их всех.
Ха-ха, забавно.
– Сейчас деньги мало кому нужны, как бы дико это не звучало, – весело сказал Ченс, прыгающим шагом идя чуть впереди меня. – Такая херня сейчас творится в мире, что экономить на будущее не особо-то хочется. Хрен его знает, будет ли это будущее вообще.
– Ты о пожарах? – мне не хотелось в очередной раз говорить на эту тему за этот очень длинный день, но надо было выяснять подробности, чтобы попытаться спасти себя и… Джозефа.
– Да, и о болезни тоже, – улыбнулся юноша, совершенно не задумываясь над своими словами. – Знаешь, говорят, что сейчас люди горят чуть ли не как Человек-факел из «Фантастической четвёрки».
– Или ты просто насмотрелся опять фильмов, – не поверив ему, мрачно сказала я и сделала ещё несколько глотков вина.
Уже слегка пошатывало, а в голове закружилось: так и казалось всё странным, особенно этот унылый снег и чёрные, как дёготь людских мыслей, участки неба, виднеющиеся между толстыми облаками, из которых даже в глубокий вечер падали снежинки. Собственно, как и всегда. Ничего нового для Колдстрейна. Ничего нового в этой никчёмной, совершенно бессмысленной жизни. Так и зачем так отчаянно цепляться за неё? Страшно не умереть – страшно знать, как будут страдать от этого те, кто тебя любит.
Вот поэтому человек так и боялся умереть.
– Ну, и это тоже, – не стал отрицать Ченс, ухмыльнувшись. – Но от Ричи и не такого наберёшься. Она пока не вышла с тобой на ринг, постоянно разговаривала со мной на эту тему. Типа говорила, что сама заразилась этой некой «болезнью».
Я вспомнила её абсолютное безразличие ко всему, это чистой воды равнодушие. Глядя тогда на неё, так и хотелось сказать, что если бы у эмоций были цвета, то они стали бы серыми. Блеклыми. Нечёткими. Не невидимыми, но выцветшими.
Как наш грёбаный мир.
– И ты в это веришь? – я заторможено глядела в его красную шапку, пытаясь сохранить трезвость.
– Чисто по приколу верю, надо же как-то разнообразить свою жизнь, – совершенно ни к чему рассмеялся Ченс, чем напомнил мне Филис. А воспоминание о ней и о том, как я ей сегодня нагрубила, отозвалось в груди острой болью. – Я бы хотел стать Человеком-факелом! Хотя летать вряд ли смогу, но вот огнём было бы круто управлять! А ты сама в это веришь?
– Не знаю, – честно призналась я.
Болела голова – то ли от алкоголя, то ли от непонимания происходящего. А скорее от того и другого. Представляю, как сейчас выглядела: на сухие длинные волосы падал снег, под тёмно-зелёными глазами синяки от недосыпа, нос с горбинкой и кольцом в левом крыле весь в засохшей крови, потому что я не вытерла её; на тёмном фоне одежды бледная кожа казалась почти белой, из-за чего терялись на сильном, немного широкоплечем теле многочисленные шрамы, в том числе и тот, что тянулся на правой щеке; красноватые сухие губы совсем потрескались, уши, на одном из которых не хватало мочки, покраснели от холода, который я наконец-то ощутила в полной мере. Да, было до оледенения холодно, как бы жутко это ни звучало, всё металлическое жгло из-за того, что было холодным, в том числе и мой двойной пирсинг через правую бровь.
Красавица? Разве что в чьём-то кошмаре.
– Вот и я не знаю, во что верить, а во что нет, – добродушно пожал плечами Ченс. – Так или иначе, надо быть осторожным, хотя в этом сейчас нет особого смысла. Всё равно умирать.
– Даже из твоих уст это звучит слишком пессимистично, – нервно усмехнулась я.
– От тебя набрался.
Он вновь рассмеялся, хотя ничего смешного абсолютно не было, и, пихнув меня в бок локтём, достал пачку сигарет, чтобы уже через секунду закурить.
– Ты раньше не курил, – с подозрением заметила я.
– А ещё не так часто пил алкоголь, – добавил Ченс, кивнув подбородком на мою полупустую бутылку вина. – Сегодня я изрядно выпил.
– Но у тебя же не так много денег на сигареты и тем более алкоголь, – я ещё больше насторожилась от его слов.
Почему вот уже второй человек за этот вечер оказался совершенно не тем, каким я себе его представляла? Сколько бы я ни знала Ченса, он никогда близко не подходил ни к чему тому, что могло бы разрушить организм – он слишком сильно хотел накачаться, стать очень сильным и сохранить здоровье. Но сейчас он так ловко курил, словно делал это не первый год, и вполне крепко держался на ногах, почти ничем не выдавая свою нетрезвость.
Нет, я не волновалась за него. Скорее мне было просто интересно узнать причину его саморазрушения.
– Да вот отца повысили в должности, так что теперь он больше зарабатывает, – Ченс с каким-то возбуждением сложил губы в дудочку и назло выпустил дым прямо мне в лицо.
– Ага, и прям-таки ничего не случилось, – поморщившись от едкого запаха, фыркнула я.
– Ну, смерть матери не такая уж и потеря, – улыбнулся он.
На мгновение я замерла.
– Что?
– А что в этом такого? – невинно сказал Ченс, точно говорил о какой-то ерунде. – Не вижу смысла горевать по этому поводу, потому что мама была не первой, кого я потерял. Не первой и далеко не последней. Так что давай, не умирай.
И прежде, чем я успела бы хоть что-нибудь сказать, он быстро ушёл, точно не желал слышать моих слов, что могли его ещё сильнее ранить. Ведь его глаза были полны печали.
V: А счастье таится где-то рядом
Жить надо сегодняшним днём. Здесь и сейчас. Уже через минуту можно упустить счастливый случай, который только что подвернулся. И всё. Больше он никогда не повторится. Так что живи и не бойся совершать ошибки. Мы прощаем ошибки другим, так давайте прощать их и себе.
Олег Рой
– Знаете, в чём самая главная странность мира? В том, что он существует. Да, это не кажется таким странным, когда мы живём изо дня в день и занимаемся всякой бесполезной рутиной. Однако сами подумайте, нет, тщательно вдумайтесь в следующие слова: мира могло бы и не существовать. Вот так легко и просто. Пух! – и ничего нет. Учёные до сих пор бьются над тем, что могло быть до Большого взрыва и было ли вообще что-то. Это вообще непостижимо для человеческого разума представить, что абсолютно ничего нет… это жутко, понимаете? Но ведь Большого взрыва могло бы и не быть. И что тогда? Мира не существовало бы. Не было бы ни денег, ни работы, ни планет, ни звёзд, ни тем более каких-то там людей. Ничего бы не было. Абсолютно. И это пугает, верно? Сложно представить, невозможно. Однако мир создался, к счастью или сожалению. Как и зачем? Тот ещё вопрос. Но я против того, что всё это произошло «по воле Божьей», считаю это неимоверно глупым. Хотя нет, не так, я придаю этому малую субъективную вероятность. А иначе как объяснить, куда потом делся Бог после того, как якобы создал нас? Конечно, можно предположить, что Он нам якобы тайно помогает и по сей день, но это тоже маловероятно. Я считаю, что происхождение Вселенной связано с законами физики, что всё можно объяснить с научной точки зрения. Просто человеческий мозг на данном этапе развития ещё недостаточно умён, чтобы сформулировать новые законы или объяснения того или иного явления, в том числе и возникновение Вселенной, хотя, казалось бы, мы и так довольно неплохо знаем о Большом взрыве. Но этого не достаточно. Нам нужно время. Уверена, люди ещё многого добьются в будущем, откроют занавес на те тайны мироздания, которые нас мучают сейчас. Кто знает, что нас ждёт в будущем – и тотальные пожары могут когда-нибудь закончатся, и люди, оправившись после произошедшего, будут и дальше в какой-то степени процветать. Или хотя бы совершенствоваться. Всё возможно. Всё…
Сегодня впервые за несколько зимних сезонов солнце выглянуло из-за облаков. Снег непривычно ярко сверкал в лучах солнца, как бисеринки, что насадили на деревья и колючие ветки кустов вместо проволоки. Небо насыщенного тёмно-голубого цвета, как глаза Джозефа, смотрело на меня сверху вниз и приветствовало меня в этот светлый день пением птиц и почти незаметным шумом машин. Хвойные деревья медленно протекали мимо меня, когда я неспешно шла по небольшому парку из школы и с наслаждением подставляла лицо лучам, которые брали в свои тёплые рукавицы мой подбородок и нежно гладили по чёрным волосам. Я говорила неторопливо, делая паузы между предложениями и задумчиво глядя по сторонам, а иногда и в камеру телефона, с которого я в очередной раз вышла в эфир в Instagram.
Разумеется, как и все подростки, ведь мне было всего семнадцать лет, я часто сидела в социальных сетях. Я вела блог в Instagram, выходя в эфир несколько раз в неделю и говоря всякие философские мысли, которыми мне порой хотелось хоть с кем-нибудь поделиться. И это дало свои небольшие плоды: помимо большого количества подписчиков я имела такое же большое количество вопросов от самых разных людей, всех возрастов и национальностей. Иногда вопросы превращались в длительные дискуссии, что меня всегда радовало – хотелось как можно больше общаться с умными людьми. Многие меня знали в сетях не только по болтовне о мире и его смысла, но и по дракам – кто из посетителей «Рогов Дьявола», а кто просто восхитился моей очередной стычкой с Торией или с кем-нибудь другим. Становиться популярной мне никогда не хотелось, но миру плевать на то, что ты хотел и чего не хотел. Таково самое главное правило бытия – всем абсолютно плевать на тебя.
И с этим оставалось только смириться.
Как только я отключила эфир, телефон тут же задрожал от звонка с тяжёлым роком.
– Привет! – радостный голос раздался в трубке. – Ты сегодня была просто потрясающей! И такие мысли невероятное высказывала, что у меня невольно голова закружилась. Реально, это очень сложно представить, чтобы совершенно ничего не существовало. Вот так смотреть в одну точку и вдумываться в эту мысль… моя жизнь теперь никогда не будет прежней!
Я рассмеялась этой быстрой от возбуждения речи и глубоко вдохнула колкий воздух.
– Я тоже очень счастлива тебя слышать, Мэйт, – непривычно весело сказала я, радуясь возможности услышать такой родной голос.
– А я тем более! – рассмеялся он прямо в трубку. – Неужели у вас там солнце появилось?
– Да, представляешь! – улыбнулась я, жалея, что Мэйт не мог увидеть моего поднявшегося благодаря ему настроения. – Я сама в шоке.
– Это что-то новенькое для Колдстрейна!
– Конечно, теплее от этого не стало, но зато светлее и на душе тем более.
– А мы вот в Сан-Диего почти каждый день наслаждаемся солнышком! – не упустил свой шанс похвастаться парень.
– Ой, иди ты к чёрту! – насупилась я сквозь смех.
– Только если чёртом будешь ты, – хихикнул Мэйт.
– А ты кем будешь? Ангелом?
– Для тебя – да.
Я глупо улыбнулась, не зная, как правильно отреагировать на это, тогда как на сердце стало неимоверно тепло, словно кто-то прижал его к своей груди и грел чуткой добротой.
– Ты же знаешь, что у меня…
– Есть Джозеф, я помню, – совершенно без обиды закончил за меня Мэйт. – Но это не мешает мне подкатывать к тебе! Я же знаю, что тебе это нравится.
– Ты вообще очень много что обо мне знаешь, – ехидно заметила я.
– Как и ты, так что мы в расчёте. Кстати, как там Джозеф?
Я закусила губу, вспоминая вчерашний вечер, и вздрогнула от всплывшего перед глазами горящего здания – так жутко это казалось теперь. А то, как выглядел чудом выживший Джозеф, вновь и вновь разбивало мне сердце. И поэтому я не стала держать это в себе. Я рассказала Мэйту все свои переживания и страхи, потому он был единственным человеком, с которым я могла поделиться подобным. Почему? Потому что Мэйтланд Тьенда – мой лучший друг из интернета. Да, друг. Единственный для меня. Единственный в своём роде. Только с теми людьми, с которыми ты никогда не встретишься вживую, но всегда будешь с ними общаться в интернете, можно быть открытыми, откровенными. Они тебя никогда не используют в дурных целях, никогда не обманут, не станут лицемерить и будут искренне помогать. Не объятиями, так словами.
И Мэйт был для меня именно тем человеком, способным всегда мне помочь морально.
Даже сильному человеку нужна помощь.
– С моей стороны мне кажется, что Джозеф поступил довольно жестоко и как-то безрассудно, – после недолгого молчания наконец сказал Мэйт, когда я закончила делиться своими проблемами. – Реально, это удивительно, что такой крепкий орешек, как он, вдруг захотел… покончить с собой, – было понятно, что ему не хотелось говорить последние слова вслух. – Но его семья по отношению к нему тоже жестоко обходится, что может сломать защиту любого человека. И я понимаю твои страхи потерять Джозефа. Это и вправду очень и очень страшно. Но зная твоё стремление защищать его любой ценой, я могу с уверенностью сказать, что ты сможешь поставить его на ноги и сохранить в этом мире живым. Ты ведь сильная, помнишь? Не давай страху завладеть твоим разумом. Просто помни об этом в самую тяжёлую минуту. Будь как снег: красивой, но холодной.
– Спасибо тебе, Мэйт, – искренне поблагодарила я, тщательно запоминая каждое сказанное им слово.
– Всегда обращайся за помощью, ты же знаешь, – я представила, как он улыбнулся, и мои губы тоже изогнулись в дуге.
– Да, знаю.
– Слушай, – в его внезапном шёпоте вдруг появились ноты страха. – Помоги мне, Делора. Помоги мне!
Я ещё больше нахмурилась, когда в телефоне вдруг послышался шум, какая-то возня резала слух, что-то громко застучало прямо в ухо. В груди всё застыло от напряжения и плохого предчувствия, пока на протяжении нескольких секунд шуршание раздавалось в трубке.
– Мэйт?
– Бу! – от громкости его голоса я вздрогнула. – Испугалась?
– Не делай так больше, – тяжело сказала я, пытаясь понять, что это сейчас было. – Что случилось?
– Разыграть тебя хотел, – беззаботно заявил Мэйт. – Как вижу, получилось.
– Не видишь, а слышишь.
– И это тоже, – рассмеялся парень. – Прости, больше так не буду.
– Прощаю, – вновь улыбнулась я, хотя на душе осталось неприятное ощущение опасности.
– Тогда давай, пока, люблю тебя.
Я отняла от уха телефон и проговорила в его экран перед тем, как отключиться:
– И я тебя.
Конечно, это было сказано в шутку. Я давно выяснила, что Мэйт не был в меня влюблён, тогда как я сама всегда оставалась верна только Джозефу. Я не знала Мэйта в живую, видела лишь несколько его фотографий, звонили мы друг другу не так часто, поэтому всё обычно сводилось к переписке в Instagram – от пары слов в день до очередной дискуссии на ту или иную философскую тему. Мэйтланд был для меня другом вот уже почти два года: хороший, добрый, надёжный, весёлый и всегда поддерживающий. Он был чем-то похож на таблетку от головной боли – облегчал мучения, делал этот мир не таким серым, позволял жить дальше, чем-то радоваться, к чему-то стремиться.
Я замерла, когда увидела знакомую макушку с русыми кудрями, прикрытыми совершенно детской розовой шапкой с какой-то принцессой от Disney. Длинная куртка в разноцветную клетку совершенно не сочеталась с полосатыми толстыми колготками и длинными зимними сапогами, но Филис никогда не волновал её пёстрый, сумасшедший и слишком яркий вид, как у попугая, – она одевалась так, как хотела. А ещё на что позволяли небольшие деньги. Даже издалека я слышала звуки какой-то быстрой мелодии, что доносилась из старых голубых наушниках Филис, которая нелепо танцевала под музыку, размахивая как руками, так и ногами и совершенно не обращая внимания на то, что могла кого-то задеть из прохожих.
– Филис?
Я осторожно подошла к ней, не зная, чес привлечь её внимание и как остановить поток её самых разных движений, словно кукловод то тут, то там дёргал за ниточки и повелевал куклой – так поступало с Филис её сумасшествие. Она вдруг резко обернулась ко мне, будто почувствовала мой взгляд затылком, и громко рассмеялась.
– Однажды я умру… и заберу вас всех с собой.
Я несколько раз моргнула, совершенно не понимая, к чему она это сказала.
– Что?
– Солнце, – пояснила девушка, вынимая из ушей наушники. – Я говорила о солнце. Когда-нибудь оно умрёт.
– Мы всё равно этого не увидим, – мрачно изрекла я.
Филис вдруг виновато потупила фиолетовые глаза и начала теребить многочисленные фенечки, что выдавало её волнение.
– Прости, я вчера пристала к тебе… Просто порой когда я не могу отделаться от ощущения, что всё происходит во сне, отчего я начинаю нести всякий бред и не замечать, как людям от этого может быть больно.
Я наблюдала за её милым лицом, пока она говорила: покрытые маленькими снежинками ресницы слегка дрожали, рот как-то нервно двигался, два выпирающих зуба всё время кусали нижнюю губу, щёки покрылись лёгким румянцем от мороза. Филис была красивой. Правда. Очень красивой. От её нежного, как черничное мороженое, голоса так и теплело на сердце, точно кто-то открыл перед тобой двери, ведущие в отдельное царство Лета. Уютно, солнечно и цветочно – белые лица ромашек улыбались, бабочки порхали не только в воздухе, но и в животе, луч света, что падал на мягкую траву, указывал дорогу к счастью. А впереди – лесная фея, что могла убаюкать плачущую боль в сердце, а сам орган хрусталём приложить к груди – к собственному сердцу.
И навсегда его сберечь.
– Ничего страшного, я на тебя не обижалась, – смело заверила её я, чувствуя щемящий свет в груди, точно одинокий светлячок забрёл в тёмный лес мыслей.
– Правда? – искренне изумилась Филис.
Я решительно кивнула, решив не упускать свой шанс и наконец-то снять с себя вину.
– Да, правда. Я и сама вчера к тебе была слишком груба, за что тоже хотела перед тобой извиниться…
– Спасибо! – она вдруг крепко меня обняла, обвив руками мою шею. – Ты не представляешь, как я переживала по этому поводу! Я так рада! Просто во снах ты никогда на меня не держала зла… а тут реальность, как-никак.
Тепло.
От девушки исходило самое настоящее тепло. Не физическое – моральное. Её лучи света словно сконцентрировались на одном месте и проникли в меня – глубоко, сильно, надёжно. Открыли неизвестные мне сундуки, пощекотали рёбра белым пёрышком своих крыльев, крайне осторожно коснулись сердца и вытерли все слёзы, что оно пролило за долгие-долгие годы.
Я удивлённо моргнула, чувствуя, как щёки становились красными. И вовсе не от холода.
– Ты опять подумала, что это был сон? – прошептала я в её волосы, наконец-то узнав, какими они были на ощупь: точно клубок шерстяных ниток.
– Только в них ты по-настоящему могла держать меня за руку, – совершенно без смущения улыбнулась вдруг она.
Я вспомнила, как сжала тогда её пальцы, и на щёки словно вылили кипяток – так стало жарко. Я никогда не краснела, ни при Джозефе, ни при ком-либо ещё. Но Филис каждый раз вгоняла меня в краску, раскрывала во мне совершенно новые стороны, показывала мне мир под иным, причудливым углом, делало моё существование более светлым, весёлым. Она как котёнок, что дарил любовь пожилой женщине, или любимая игрушка, с которой не расстаёшься с самого детства. И Филис умело игралась этой игрушкой, точнее её чувствами – моими. Покраснеть, извиниться, рассмеяться – она управляла мной как хотела. Сопротивляться или нет? Порой я могла противостоять этому, но чаще всего не видела в этом смысла.
Зачем, когда становилось так хорошо?
– Мы…
– Я видела вчера, как ты шла с каким-то мальчиком со школы, – Филис не дала мне ничего сказать, отстранившись и бодро идя дальше по аллее. – Кто это?
– Ты следила за мной? – подозрительно покосилась я на неё.
– Да, а что? – та была так удивлена этому, словно не понимала, в чём проблема. – Ах, да, прости, я забыла, что у людей не принято следить друг за другом.
– Ты так говоришь, будто сама не являешься человеком, – против воли улыбнулась я.
– Ах, да, прости, я забыла, что сама я человек.
– Ах, да, прости, ты забыла, что не надо начинать каждое своё предложение с «ах, да, прости, я забыла».
– Так что это был за мальчик? – тут же переключилась девушка, будто мы сейчас ни о чём не спорили, что на мгновение ввело меня в ступор.
– Хэмфри Филдинг, – ответила я, не видя смысла скрывать.
Филис на мгновение замерла, странно посмотрев на меня, точно что-то знала, но уже в следующую секунду привычно улыбнулась.
– Что это за мальчик такой?
– Брат моего… парня, – никогда ещё не говорила, что у меня был парень.
Вновь странное выражение лица, а затем – улыбка.
– У тебя есть парень?!
– Да, а что?
– Ты мне казалась почему-то очень одинокой, словно тебе не хватает любви, – Филис склонила голову на бок, пристально изучая меня, отчего я ещё больше занервничала. – И как его зовут?
– Джозеф.
От его имени, так легко произнесённого вслух, я почувствовала ещё большое тепло, а вместе с ним – нежность и доброту. Это имя наполняло меня всевозможными запахами леса, ночного города и тишины. Это имя – одинокий горящий фонарь, а я – мотылёк, что летел к нему, дабы уничтожить одиночество. Смешать свой мрак со светом.
– А зачем он попросил тебя проводить Хэмфри до дома? – с любопытством вновь задала вопрос Филис, чуть ли не прыгая на месте от возбуждения.
– Я ему всегда во всём помогаю, что бы он ни попросил у меня, – искренне заявила я.
– Даже если это убить человека? – рассмеялась она, а затем резко стала серьёзной. – Прости, это вышло глупо.
– Но и ты не самое умное существо на свете, – ядовито сказала я, оскорблённая её словами.
Девушка вдруг остановилась, её лицо стало умоляющим, как в мультиках со «щенячьими глазами», ноги немного подогнулись в коленях, словно она хотела стать ниже, а взгляд устремился вверх.
– Ну, я не хочу, не хочу!.. Ну, пожалуйста, мам, пожалуйста! Купи мне, купи! Я не заболею, обещаю! Пожалуйста, купи мне! – она выпрямилась, сделала лицо пафосно-недовольным, закатила глаза. – На, подавись, лишь бы ты отстала от меня.
Наблюдая это странное представление, я вздрогнула от последних слов, догадавшись, что Филис копировала сначала маленькую девочку, а потом её мать, которая так грубо и жестоко отнеслась к собственной дочери. Но сказать я ничего не успела, как девушка продолжила копировать бабушку: наклонилась, сгорбившись в спине, и сделала вид, что идёт с тростью:
– Пенсия маленькая… жить совсем не на что, налоги большие… пойти работать некуда, никуда не возьмут… да и старая я, слепая и кривая. В наше время всё было по-другому, лучше… Ты бы пошёл, внучек, работать. На одной моей пенсии и сумме в банке мы долго не проживём… Слышишь, а, внучек? – она вновь выпрямилась, согнула руку так, словно держала телефон, и сделала совершенно равнодушное лицо. – Да слышу я, ба, слышу, не глухой в отличие от тебя. Не пойду я работать, я учусь, – и тут же Филис согнулась, изображая снова бабушку. – Меньше играть надо в свои компьютеры и телефоны! Совсем от них отупеешь и разленишься! И уважать старших тоже надо…
Я восхищённо наблюдала за ней, ожидая продолжения, но ничего не последовало. Она просто вновь выпрямилась, её лицо выражало глубокое сострадание и искреннее желание всем помочь. Я никогда ещё не видела Филис такой – опечаленной и беззащитной, точно старая боль прошлась чувствам, добавляя в каждую чашку немного слёз, немного яда, немного тьмы. Немного – но так существенно для загрязнения холста души.
– Зачем ты…
– Эти люди… люди, люди, люди, – собеседница покачала головой. – Они всё ходят здесь и ходят… А я их порой слушаю. Хочется знать, о чём они говорят, чем живут. А везде всё одинаково: от маленьких детей до старушек. Кто-то кого-то любит сильнее, поэтому не проявляет агрессию или грубость, но чаще всего все живут этой лживой любовью, скрывая своё безразличие ко всему… Когда-нибудь мы состаримся и будем отчаянно ждать своей смерти. Будем мечтать, как наши близкие оплакивают скользкое тяжелое тело. Дрожащей рукой будем писать завещание какому-то очень любимому человеку, которому на нас наплевать, и будем скорбеть по тем, кого однажды безвозвратно потеряли.
Она обвела взглядом зимний парк, где в такт её словам качались деревья и сверкал снег на солнце, и привычно улыбнулась, встретившись со мной взглядом.
– Не знаю почему, но я уже чувствую себя старой. Меня как магнитом притягивают добрые старые люди, мне нравится пряный запах старой книжки, нравится провожать в одиночестве закат и обращаться к богам, когда что-то идёт не так. Нравится писать в тетради своими совершенно разными почерками, нравится танцевать у телевизора под ламбаду. Мне нравится прошлое, нравится ностальгия по тем временам, когда меня не было даже в планах. Когда пересматриваю фотографии своих далёких-далёких родных, мир вокруг приобретает краски. Такие же жёлтые и тёплые оттенки, меня словно окутывают уютом Высшие Силы, они заставляют меня чувствовать душевность людей двадцатого века сквозь время. Время тает на кончике моего языка. Я будто бы живу в тех восьмидесятых или девяностых годах, словно становлюсь маленькой частичкой той системы, где в моде была любовь, но точно не было меня.
В горле пересохло от её откровения, которое так внезапно проявилось после такого же внезапного причудливого копирования других людей. И главное к этому ничего не шло – только что мы разговаривали о Джозефе и Хэмфри, как Филис неожиданно переключилась на совершенно иную тему. Она была как волна во время бури: от эмоций и бешеных мыслей её бросало то туда, то сюда. Но даже после её слов я не понимала, почему с ней так происходило. Что с ней случилось когда-то далеко в прошлом?..
– А что же сейчас? – тихо спросила я, боясь нарушить ту печально-светлую атмосферу, что создалась только между нами. – Что сейчас с нашим миром?
– Прогнил, – горько выдавила из себя Филис. – Люди возненавидели отражения в зеркалах, обесценили чужое мнение и безвременные тёплые фотографии. Они так гордо заявляют о безразличии к остальным, но так горько рыдают по ночам «о тех самых», что никогда не вспомнят наши имена. Люди стали такими злобными, потерянными… другими? Да, именно другими. Помощь друг другу стоит денег. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли, плати или раздевайся. Все хотят чего-то взамен. И это неправильно, совершенно неправильно, так жить нельзя. Стало бессмысленно пить за здоровье в праздничные дни, ведь они ежедневно давятся дешёвым алкоголем. Люди перестали мечтать…
– Грёбаные реалисты, – согласилась я, внимательно слушая каждое её слово и про себя удивляясь, что в этот раз говорила длинные речи не я, а… моя подруга? Надо было над этим подумать.
– Но все мы дружно позабыли, что однажды состаримся, наденем маску недовольства и будем учить молодежь манерам. Тоже станем говорить эти избитые словечки: «А в наше время-то такого стыда не было! В наше время…» Однажды мы все начнём врать больше, чем раньше, начнём замечать первые морщины, задумаемся о смысле своей жизни и заплачем навзрыд. Однажды в зеркале увидим не того человека, которого знали десятки лет назад. Однажды ты умрёшь, даже не осознав ценности своего бытия, не попробуешь исполнить мечту в реальность, не узнаешь о смерти своего питомца, который не выдержал твоей внезапной смерти. Однажды ты сравняешься с землёй. Исчезнешь. Даже не поняв, как сильно хотел жить на самом деле.
«Но это же только к лучшему, ведь когда ты мёртв, поздно уже что-то менять», – хотелось сказать мне, но лишь прикусила язык и в порыве взаимной боли крепко обняла Филис. Мы словно поменялись ролями: она скрылась в ночной тьме, а я, бегая по тёмному лесу, фонариком пыталась найти её тлеющий свет.
Найти, найти, найти – лишь бы найти.
И я нашла – одно моё присутствие для неё уже было чем-то светлым. Как? Почему? Понятия я не имела.
Но теперь моя очередь настала её обнимать, слушать откровенные речи, копаться в её скелетах, случайно задевая оголёнными участками тела выпирающие кости и царапая ими кожу. Но это не больно. Не больно. Куда больнее преодолеть себя, чтобы помочь другим. Помочь Филис ди Уайт.
– Ай! Холодно!
Я резко отпрянула от неё, когда что-то мокрое попало мне за шиворот. В панике я засунула руку под куртку и пыталась как можно быстрее убрать со спины таявший снег. Громко смеясь своей проделке, что вновь внезапно всплыла после долгого молчания, Филис решила добавить ещё снега и кинула мне его прямо в лицо.
– А теперь ещё холоднее? – заливалась смехом она, беря в тёплые рукавицы ещё один снежок.
– Ну всё, тебе не жить! – чувствуя азарт, я побежала тоже набирать свои «снаряды».
– Если умирать, то от твоей руки!
Одна снежная битва за другой – мы как маленькие дети носились по парку, совершенно забыв обо всех проблемах, о разговоре, о вчерашних происшествиях. Так весело мне было в последний раз только летом вместе с Джозефом, когда мы устраивали водяные битвы и догонялки в озере в один из самых жарких дней. Никогда не думала, что зима могла быть такой волшебной, как о ней говорили в самых разных сказках: радостно, солнечно, белоснежно, морозно – от красных щёк до мокрых рукавиц. Останавливаться совершенно не хотелось, как и обращать внимание на недовольных прохожих – только мы вдвоём.
Только я и Филис.
Мы в очередной раз со смехом повалились в сугроб, шапка слетела с головы Филис, позволив русым длинным кудрям рассыпаться золотыми линиями на белом фоне. Её грудь тяжело поднималась, что было видно даже через большую толстую куртку, колготки стали насквозь мокрыми: так часто она падала в снег сама по себе или когда её специально толкала я. Лица раскраснелись, глаза полны счастья, мокрая одежда, улыбки до ушей – мы лежали рядом друг с другом на снегу и смотрели прямо в глаза друг друга. У Филис – удивительно красивые, как фиалки, что когда-то моя мама выращивала на подоконниках, пытаясь не забыть о тёплом лете. А мои – та трава, по которой дети носились друг за другом, играя в догонялки, как и я с Филис сегодня.
– А теперь… – пыталась отдышаться она. – А теперь… мы… мы подруги?
– Да, – не давая себе ни секунды на размышления, заверила её я.
Так легко и просто. Всего лишь одно слово – а счастье на всю жизнь. Всего лишь одно слово… а существование обрело смысл.
Глаза девушки стали ещё больше от переполняемого счастья.
– О боги! Боги, мои боги! Всемогущие мудрецы! Это… это так круто! Надо отметить! Срочно… срочно надо отметить!
Я тут же вспомнила своё любимое уличное кафе.
– Знаю я одно место…
– Тогда бегом туда!
Филис энергично встала с земли и, протянув руку, помогла встать мне. Только секунду я могла наслаждаться теплом её пальцев и нашей близостью, как всю красочно-волшебную атмосферу прервал резкий вой пожарной машины, что ехала по соседней дороге и пыталась подобраться к новому горящему зданию. Словно почувствовав беду, солнце тут же скрылось за гигантской тучей, привычный мрак окутал Колдстрейн, точно кто-то накинул на город чёрную шаль. И на потемневшем фоне ярко выделялся очередной пожар: горело несколько верхних квартир девятиэтажного дома.
– Они не проедут.
Я это заметила, как только Филис договорила: чтобы повернуть к горящему зданию, нужно было пересечь небольшую парковку, где прямо на пути стояла машина, мешающая пожарной.
– Надо оттолкнуть!
Видимо, эта идея пришла не только ко мне, потому что когда я добежала до мешающей машины, вокруг уже собралось приличное количество людей. Упёршись двумя руками в бампер, мы начали толкать её, чтобы пропустить пожарников. Кто-то кричал на помощь, кто-то пыхтел прямо мне в ухо, другие согревали своим присутствием, третьи усердно пытались отодвинуть машину.
– Скорее!
Ещё один рывок – и мы все вместе отодвинули препятствие и тут же поспешили убраться с пути пожарной машины, которая как можно быстрее подъехала к горящему дому. Никогда бы не подумала, что жители Колдстрейна с таким пониманием и переживанием за чужую жизнь станут кому-либо помогать, никогда бы даже представить себе не могла, что мы и я вместе со всеми сможем кого-нибудь спасти. Я была уверена, что пожарники тщательно сделают своё дело и вытащат из огня пострадавших. Сейчас, в этом горящем мире, пожарники были как никогда нужны.
Приободрённая этой мыслью я повернулась к Филис, собираясь что-то сказать, но увидела рядом с ней до радости любимую фигуру.
– Привет, Джозеф.
VI: А горечь жизни даёт о себе знать
Жизнь человека подобна шоссе, которое проходит по тоннелю в горах – оно бесконечное число раз пронизывает мрак и вырывается на свет.
Фэн Цзицай
– Вот про это место я тебе говорила.
Уличное кафе «Дорога в небеса» встретило нас всевозможными красками, с жаркими объятиями и яркостью гирлянд с лампочками. Так выглядело поистине тёплое, уютное и светлое местечко – единственный такой маленький уголок во всём Колдстрейне, который сам по себе имел мало ресторанов и кафешек, словно не желал, чтобы его угрюмые жители виделись друг с другом в тёплых местах. «Дорога в небеса» всегда же была рада новым гостям или постояльцам, как мы.
Без солнца стало сразу мрачно, но главное привычно, словно только после того, как всё вернулось на круги своя, ты понимал, что до этого всё было неправильно, что-то не так. В груди засело раннее чувство ностальгии: по летнему времени, когда я была с Джозефом, и по недавним снежным битвам с Филис – что-то между двумя этими событиями было общее, согревающее душу теплом, но разбивающее её тоской, будто на осколки стекла пролилась свежая горячая кровь.
Удивительно, но только рядом с нашим кафе залив не покрылся льдом, точно всё тепло, исходящее от этого яркого места, способно было греть холодную гладь воды. Не знаю, так это было или нет, но вид на тёмные воды открывался красивым: волны неспешно омывали твёрдый берег, с таким спокойствием накрывая камни, точно кто-то укладывал детей спать, укутывая их в тёплые одеяла; множество чаек низко летало над поверхностью, белыми скользящими пятнами выделяясь на фоне депрессивного серого неба. Мрачно, но захватывающе и красиво – словно смотришь на чёрно-белую фотографию даже не своего прошлого, а какого-то человека и не важно, родственник это или нет, и ощущаешь чужие воспоминания, чужую ностальгию, чужие чувства. Но в то же время всё это кажется твоим: таким же личным и тёплым, таким же близким к сердцу, таким же любимым. Одно место соединило судьбы многих, одно место подарило столько света, сколько его не хватало нигде, одно место добавило в испортившийся кисель души капельку добра и надежды в лучшее – осталось теперь это хоть как-то сохранить.
А там дальше – океан. Там дальше – другие страны, другие люди, другие жизни. Другое всё.
А тут – такое родное кафе и не менее родной залив. Тут всё родное – чайки, белые барашки волн, сизое небо, солёный запах свободы и успокаивающий шум волн. Окраина города с хвойным снежным лесом оказалась куда роднее, чем сам город.
Родина?
Только если само это место. Этот уголок мира, где привычный мороз таял от пряной атмосферы, а умеренное качание воды вызывало желание не искупаться, а любоваться этим видом долгие минуты, точно в ожидании чего-то. Чего? Пожалуй, счастья.
И сейчас даже после всего произошедшего я чувствовала себя вполне счастливой: рядом со мной за круглым столиком сидели Джозеф и Филис – два дорогих мне человека. И в компании обоих я ощущала себя почти полноценной. Почти. Что же тогда не хватало? Я не знала.
Ибо не знала саму себя.
– Здравствуйте, можно, пожалуйста, средний капучино без сахара, – когда до него дошла очередь, вежливо попросил Джозеф подошедшего официанта.
Тот на несколько секунд словно выпал из жизни, а затем, придя в себя и смутившись, нервно улыбнулся.
– Вам большой капучино?
Джозеф слегка нахмурился, недоумевая.
– Мне средний капучино.
– Средний? – продолжал задавать глупые вопросы официант, только чтобы подольше полюбоваться моим парнем: я это сразу заметила.
– Да.
– Вам добавить сахар в ваш капучино без сахара?
– Нет, мне не добавлять сахар в мой капучино без сахара, – улыбнулся Джозеф. – Мне нужен капучино без сахара, который… без сахара.
Переглянувшись, мы с Филис тихо смеялись над этим маленьким глупым спектаклем, прикрывая улыбки ладонями. Когда официант понял, что задавать больше нечего, он неловко кивнул головой и неохотно ушёл от нашего стола. И только после этого мы втроём смогли вволю посмеяться.
– Это было забавно, – хихикнула Филис, раскрасневшись от смеха.
– А я сначала даже не понял, – улыбнулся Джозеф и пожал плечами. – С кем не бывает. Надеюсь, у этого бедолаги всё выйдет в будущем.
Вот она – искренняя доброта, выраженная в желании помочь и в надежде на хорошую судьбу чужого человека. Вот именно, что чужого: порой мне казалось, что Джозеф желал другим людям счастья больше, чем самому себе. И от этого ему было только больно, хотя сейчас он выглядел намного лучше, чем вчера: под глазами уже не было мешков, взгляд весёлый и бодрый, каштановые волосы аккуратно уложены, на плечах уже не сидела обида, а кожа не казалась такой бледной. Он снова стал невероятно красивым, солнечным, нежным и очень добрым мальчиком, словно юный эльф из детской сказки.
Мой эльф.
– Ты сегодня не пришла в школу, – я повернулась к Филис, медленно попивая виски, который мне недавно принёс уже другой официант. – Почему?
– Так и не дошла, – беззаботно развела руками она, на мгновение кинув странный взгляд на Джозефа. – То песню заслушалась, то там дедушка играл в шахматы, отчего я решила составить ему компанию, то там воробушки так классно пели, что я не могла никак их покинуть! Да и кому захочется учиться в такую солнечную погоду?
– Как видишь, мне захотелось, – отмечая новые странности своей подруги, сказала я.
– Я тоже сегодня пошёл в школу, потому что и так вчера пропустил занятия, – кивнул головой Джозеф, грея руки о стакан своего капучино.
– Вы ведь не были до этого знакомы, верно? – нахмурилась я, смотря на друзей.
Те переглянулись друг с другом, словно проверяли, правда ли они сейчас сидели рядом или нет.
– Пару раз наверняка виделись, – спокойно ответил Джозеф, почёсывая сквозь шапку затылок.
– Но лично ещё не знакомы, – бодро заверила меня Филис. – Давайте сыграем в двадцать вопросов, чтобы узнать друг друга получше?
– Хорошая идея, – кивнула я. – Тогда я начинаю. Какой твой любимый цвет, Филис?
– Радужный, – смело заявила она и повернулась к своему соседу лицом. – Тебе нравятся парни?
Джозеф поперхнулся своим напитком, но быстро взял себя в руки.
– Я натурал.
– Точно?
– Да, точно, – скрыл улыбку он. – Натуральнее натурала, но натуральные этого только цвет моих волос, – и, не дав сказать что-либо девушке, быстро перевёл взгляд на меня. – Ты… не злишься на меня за вчерашнее?
На мгновение внутри меня, казалось, всё застыло. А сама я исчезла, растворилась в воспоминаниях о вчерашнем вечере – несоизмеримая боль от ожидания наихудшего исхода, когда я до дрожи во всём теле боялась потерять Джозефа. А затем – отрава страхом, этот отвратительный напиток ужаса, что спящим монстром ворочался в желудке. Мне не хотелось его будить, но яд от страха заставил меня это сделать, заставил беспощадно, жестоко и безвозвратно разбудить зверя, что с прошлого дня неугомонно терзал сердце и разрушал гробы чувств одним взмахом когтистой лапы.
Скоро от меня совсем ничего не останется… даже сгнивших костей.
– Как я могу за такое на тебя злиться? – недоумённо спросила я.
– Просто… – Джозеф сжал мои пальцы своими, отогретыми с помощью чашки капучино, – я только сегодня утром осознал, что чуть ли не обрёк тебя на губительное одиночество, на губительную… боль. Я правда об этом не подумал, когда помчался спасать ребёнка, я даже не задумывался над этим и раньше, когда просто глотал эти ядовитые слова Хэмфри и Олин, а затем мучительно пытался их выплюнуть. Но они пожирали меня, пожирали не только сердце, но и мозг. И я порой не в состоянии это выносить… что хочется умереть. Но я понимаю, что помимо семьи у меня ещё есть друзья, одноклассники, ты… И я всем дорог. Я знаю об этом, прекрасно знаю. Но одного знания порой недостаточно, чтобы стерпеть всю жгущую изнутри боль.
– Но ведь Хэмф и Олин тоже тебя любят, они иногда делают для тебя подарки, проявляют к тебе любовь и уважение, – сказала я мягко, медленно водя большим пальцем по таким любимым рукам своего парня. – Они просто маленькие, не доросли до того ясного осознания того, как важно любить и поддерживать своих родных, как важно их ценить. Где-то в глубине души они это понимают, но не могут этого показать не только из-за своего характера и своих проблем, но и просто из-за того, что так устроен сейчас мир. Дети теперь быстро взрослеют, но их разум всё ещё остаётся таким же детским, постепенно развивающимся. И этот резкий контраст, эта борьба лишает их самостоятельно думать, сбивает с толку и сливает с общей грязью, из которой они так тщетно пытаются выбраться. Даже десять лет назад, когда нам с тобой было по семь лет, жизнь была другой, детство было совершенно иное. И дело даже не только в том, что тогда не было телефонов и постоянного потока всевозможной информации, но и в том, что со временем меняются интересы поколений, меняется само их восприятие мира, и сам мир тоже меняется. Всё меняется. И жаль, что не всегда в лучшую сторону.
– Да, ты права, – тихо проронил Джозеф. – Ты всегда во всём права.
Мне нестерпимо сильно хотелось его обнять, прижать к груди и нежно целовать в ладонь, в макушку, в шею, в лицо. Мне вспомнились наши первые поцелуи, когда от непривычки я не умела сдерживать такие порывы любви, когда целовала его когда угодно и где угодно, что бы он ни делал и как бы ни был занят. И тогда, казалось, мы были счастливее, чем сейчас. Целый год – а такое чувство, что прошло всего несколько дней, как наша любовь начала медленно увядать. Я чувствовала это каждой клеткой своего тела, каждым движением Джозефа, каждым произнесённым нашим словом.
Что же не так? Почему всё так медленно и мучительно умирало?
Я смотрела на нас, на наши отношения, на наши характеры, на наши жизни. И понимала, что у нас всё отлично, всё подходящее друг для друга, всё… идеальное. Но чего-то не было. Да, как будто чего-то не хватало между нами, словно для полноценного вечного двигателя не хватало одной маленькой, но невероятно важной детали, без которой сам двигателем никогда не сможет быть вечным. Но чего именно не хватало?
– Твой капучино стоит два доллара, – отвлекла нас от раздумий Филис, и на мгновение у меня в голове словно что-то щёлкнуло.
Но понять, что именно это было, я не успела, потому что заговорил Джозеф.
– А ты думала, как живут бонжуры?
– Кто?
– Так, стоп, – он на мгновение задумался над своими словами. – Я хотел сказать мажоры.
– Теперь буду называть тебя бонжуром, мой ты француз, – тихо засмеялась я вместе с Филис, но парень уже через секунду перестал даже улыбаться.
– А на самом деле я не вижу смысла в том, чтобы экономить сейчас деньги. Какая разница, если в мире всё горит? И как бы нам ни обещали скорого спасения, я чувствую, что оно будет далеко не для всех, потому что уже мало кто сможет выжить к кому времени… Скоро от всех домов останется лишь уголь, а от людей – пепел. У всех нас осталось совсем немного времени, чтобы провести остаток жизни в счастье, поэтому нет смысла больше экономить на чём-либо. Может быть, уже через пару недель забудутся все обиды, все ипотеки, налоги, проблемы, поэтому почему бы не потратить всё, что есть? Как я читал у Павла Корнева: «Время – это то, чего всегда не хватает. Что – деньги? Деньги – тлен. Очень многие располагают состояниями, которые им при всем желании не промотать до конца жизни, но никто не имеет в своем распоряжении столько времени, сколько действительно необходимо».
Я только сейчас осознала, что мы втроём до этого момента словно пытались говорить обо всём, лишь бы не касаться того, что произошло совсем недавно, лишь бы не говорить о том, что так много ранило многих людей. И не менее многих убило.
Пожары. Много смертей. И вновь пожары.
А там – снова смерть.
Смерть. Смерть. Смерть.
Везде она. Везде оставляла после себя кровавый след, а сейчас – пепельный с запахом горящей плоти. Её сопровождали полные мучения крики и пламя, на яростном фоне которого темнели её пустые глазницы. Чёрный балахон сгорел – теперь это уродливый скелет, пожирающий не менее уродливые души.
Скелет Смерти.
– Люди думают, что у них есть время, – продолжал рассуждать Джозеф, смотря то на меня, то на Филис. – Думают, что могут потом признаться в любви, поговорить с человеком, извиниться перед тем, кого ранили. Но на самом деле это ошибочное суждение. У нас нет этого времени в принципе, но никто этого не понимает и не хочет понимать. Да и зачем, когда есть надежда на то, что мы можем ещё прожить долго и счастливо? Мы видим по новостям, как пожилая пара умерла в возрасте девяноста пяти лет, и непроизвольно про себя думаем, что хотим прожить так же долго с любимым человеком и умереть в один день. Но времени плевать на то, что мы хотим. Мы опаздываем, откладываем, забываем, взрослеем и стареем, а затем – умираем. Время – это существо, которое редко приходит. Оно чаще убегает, чем наступает. Мы можем ранить человека и подумать, что извинимся когда-нибудь потом, что с ним ничего страшного не произойдёт. Но жизнь… чертовски коварная. С этим человеком может произойти всё, что угодно. В конце концов, его может настигнуть внезапная смерть, а мы перед ним так и не извинились. Так и будем жить с чувством вины. Или же наоборот: мы умираем и жалеем, что столько всего не сделали в своей жизни, столько всего не успели. А ведь так хочется всё успеть, всё увидеть, всё познать. Но время…
– «Время – великолепный учитель, но, к сожалению, оно убивает всех своих учеников», – сказала вдруг Филис чью-то цитату, когда парень сокрушённо покачал головой.
– «Потом» может никогда и не настать, – согласилась я с ней, задумчиво уставившись в свой стакан охладевшего виски.
Мир вокруг приобрёл мрачные цвета: лес, казалось, потемнел, залив сделался почти что чёрным, небо – насыщенного серого цвета. И даже моё любимое кафе будто перестало так ярко светить во мгле Колдстрейна. Тьма ждала своего часа, ждала, чтобы затопить всех людей своим бесконечным океаном, чёрные волны которого лениво лизали холодные камни. Протянуть руку и войти в него – прогуляться вдоль кромки, пройти так далеко, насколько хватит сил…
А что потом? Что случится дальше? Никто не знал.
Могла затянуть воронка внезапно налетевшего шторма, можно было оступиться и рухнуть с головой в развернувшуюся под ногами бездну, настойчивое сопротивление волн могло остановить на середине пути – всё хотело нас погубить. А если зайти слишком глубоко – тьма безжалостно раздавит, не обращая внимания на душу, происхождение или толщину кошелька.
Прощай, человечек.
Не знаю, от чего я больше вздрогнула: от своих мыслей или дрожи телефона, когда Ченс написал мне сообщение. Несколько раз моргнув и попытавшись прийти в себя после лицезрения залива, я прочитала сообщение и встала из-за стола.
– Мне пора.
– Ты куда? – подняла свои толстоватые брови Филис.
– Зарабатывать деньги, – мрачно бросила я, совершенно не желая ни с кем разговаривать.
– Не ходи, – Джозеф вдруг схватил меня за рукав куртки и, коснувшись пальцем моих разбитых костяшек, полным доброты взглядом посмотрел на меня. – Мне… мне никогда не нравилось то, что ты постоянно с кем-нибудь дерёшься.
– Мне надо как-то получать деньги, – угрюмо возразила я.
– Так разве не об этом мы сейчас разговаривали? – вымученно вздохнул он. – Когда-нибудь твои драки могут довести до чего-то плохого, не может же вечно всё так длиться…
– Боишься, что меня кто-то забьёт до смерти? – слишком резко спросила я.
Пальцы Джозефа с силой сжали рукав – так он испугался за меня.
– Всегда. Постоянно об этом думаю, когда ты ходишь… туда.
– Как видишь, почти за два года ничего не случилось.
– Но ведь может что-то случится, – так же упрямо заявил парень, что начинало меня уже раздражать.
– Почему только сейчас ты мне об этом говоришь? – вспылила я, почему-то чувствуя жжение по всему телу. – Раньше тебя это не волновало? Или задумался над этим только потому, что сам чуть ли не погиб?
Резко. Грубо. Жестоко.
Я понимала, что это было излишне. Что это было слишком. Но ничего поделать с собой не смогла – рёбра сжирали червяки ярости, кожа словно горела, а горло жгло от яда, выплюнутого прямо в лица друзей. Вырвав руку, я быстро развернулась, не желая больше никого видеть и чувствуя себя до омерзения паршиво, и вышла из кафе. Я даже не пыталась успокоиться, лишь ещё больше разозлилась, когда ехала на автобусе до своего бара, а меня кто-то толкнул в спину. Я плохо понимала, из-за чего именно так разозлилась, однако знала, что не только переживания Джозефа за меня заставили так гнусно поступить. Что-то было ещё: то ли общая обстановка, то ли собственные мысли, то ещё что-нибудь – не важно, это всё равно подлило масло в мой персональный котёл в аду. Джозеф не был ни в чём виноват – только я. А он – никогда. Никогда и ни за что.
Ни о чём не думать. Ничего не вспоминать. Ничего не испытывать.
И только последний пункт я никак не могла выполнить: невероятная злость так и распирала грудную клетку, выжигала клеймо амазонок на руке – ещё немного и я возьму копьё в руки и кого-нибудь убью. Вот просто так, ни за что. Из-за своей поганой натуры.
Вот такой вот я монстр.
– Привет!
Ченс радостно помахал мне рукой, когда я встретилась с ним взглядом и тут же прошла мимо, направившись в раздевалку так быстро, что даже шум бара и запах алкоголя не успели привычно прилипнуть ко мне. А вот парень пристал ко мне, как банный лист к попе: зашёл вместе со мной в комнату и совершенно без стеснения начал наблюдать за тем, как я переодевалась.
– Кто в этот раз? – сухо спросила я.
– Да один какой-то худой парень, – махнул рукой Ченс, давая понять, что я быстро одолею противника.
– Даже я смогла его победить, – из угла подала равнодушный голос Ричелл, рядом с которой лежал уже пустой шприц.
На мгновение я замерла, вспомнив её прошлое апатичное состояние, и вздрогнула.
– Не будешь со мной сегодня драться? – так же бесцветно спросила я, потому что мне было и вправду без разницы на это.
Ричи прикрыла глаза и закурила.
– Как видишь.
– Не нравится мне то, что она с собой делает, – Ченс это сказал мне, когда мы уже вышли из раздевалки.
Стоя в темноте коридора, я плохо различала детали, но одно заметила точно – в его светло-зелёных глазах мелькнула самая настоящая тревога.
– Это её дело, – пожала я плечами, совершенно не интересуясь этой темой. Сейчас мне было не до того.
– Ты не понимаешь, – юноша коснулся моей руки, останавливая, – если это и вправду болезнь, то даже такой способ, как совсем ничего не чувствовать, не поможет спастись. А значит, рано или поздно Ричи умрёт.
– И что? Неужели она оказалась важнее, чем твоя мама, раз ты так тревожишься о Ричи?
Слова – хуже ударов. Хуже разбитого носа. Хуже фингала под глазом. Хуже собственной крови, текущей из ран.
Я видела, что мои слова ранили Ченса глубже, чем думала. Разумеется, он вчера говорил так легко о смерти своей матери лишь потому, что умело скрывал свои чувства, но я забыла об этом сейчас. Наплевала на его состояние и так же плюнула ему гадкие слова прямо в сердце. Уже во второй раз за последний час. Второй раз, когда я так жестоко обходилась с людьми.
Мерзко.
Как же мерзко от самой себя.
Хоть сейчас иди бить себе морду. А лучше – сорвать с себя кожу и сломать челюсть, чтобы никогда больше не говорить эти гадкие слова, которые как чернила впитывались в бумагу души совершенно безвинных людей.
Уродина.
Какая же я уродина. Что снаружи, что внутри – одинаково ужасная.
Так какая разница, стану ли я ещё уродливее или нет?
Эту мысль я прокручивала в голове до тех пор, пока худой парень не был уложен нокаутом. Удары, кровь, крики, поддержка, запах алкоголя – всё это чёрным плащом воительницы сопровождало меня, пока я побеждала одного противника за другим. Я точно превратилась в самую настоящую амазонку: одерживала победу беспощадно, коварно и с великим удовольствием. Каждой клеткой тела я хотела, чтобы на меня смотрели, мной восхищались, обожали меня. Забыть обо всём – и стать королевой крови, что каждый в этом месте подпитывал своими пороками и грехами.
Вот такая вот я злая, да?
Определённо да.
Любить – невозможно. Простить – никогда. Подружиться – тем более. Я богиня печали и разрушения, ненависти и гнева. Я питала людей страхами и кошмарами, я доводила их до забвения и смерти. Нет им пощады, нет пощады и мне. Жестокая сказка, где я – ни герой и ни злодей. Всего лишь предатель, что не определился со своим местом в этом угасающем мире.
Забавно, не так ли?
– Пей до дна! Пей до дна!
Люди бушевали, поддерживали меня, хлопали по плечу и всевозможными способами восхваляли мои способности. Раз глоток, два глоток и три – я осушила большой стакан пива и, широко улыбнувшись, вытерла рукой рот. Аплодисменты и смех послышались со всех сторон, но даже среди них я расслышала чей-то вкрадчивый, бархатный голос, что позвал меня по имени. И что самое главное – этот голос был мне знаком. Как и знакомо это бледное лицо, которое внезапно всплыло передо мной. И дело даже не в том, что я видела его вчера с Торией, выходящей из кабинета директрисы, а в том, что само по себе это лицо, этот молодой человек лет девятнадцати, казался мне до разбитого сердца знакомым.
Веселье от празднования своих побед вмиг улетучилось, когда незнакомец представился:
– Элрой Сартр, приятно познакомиться, жестокая леди.
VII: А катастрофа уже близко
Если бы аэроплан откуда-нибудь из стратосфер падал вниз в течение двух месяцев, через два месяца – конец, то на третий – на четвёртый день падения пассажиры бы уже привыкли, дамы стали бы мазать губы, мужчины – бриться… Так и весь мир теперь: привык падать, привык к катастрофе…
Евгений Замятин
– Кто ты?
Я внимательно рассматривала этого подозрительного парня: короткие светлые волосы, тщательно уложенные назад; тёмно-карие, как мокрые опавшие осенние листья, небольшие глаза, которые внимательно следили за моим взглядом; из-за воротника белой рубашки, что открывала вид на его татуированные руки, виднелась ещё одна татуировка в виде змеи, что словно душила шею со всех сторон и почти доставала головой до своего хвоста; тёмно-зелёный, почти чёрный жилет облегал его подтянутую острую фигуру, такого же цвета джинсы подчёркивали длину его ног. Красивый, аккуратный, идеальный – он напоминал мне жестокого принца из сказки «Красавица и чудовище», что ещё не стал тем монстром, в которого потом влюбилась Белль, а сохранил в себе ту сладкую от гнилости изюминку – высокомерие.
Осталось теперь только попробовать её на вкус – и познать, что такое истинное зло.
– Моё имя тебе ни о чём не говорит? – любезно уточнил Элрой, расплывшись в одной из своих самых очаровательных улыбок.
– Только если то, что ты приходишься братом Тории.
Конечно, это было далеко не всё. Как только он назвал своё имя, у меня в голове словно вновь что-то щёлкнуло, точно в глубине души я знала этого человека, но слишком хорошо его забыла. Зачем и почему? Это предстояло ещё выяснить.
– Лучше хоть что-то, чем совсем ничего, – парень говорил максимально вежливо, словно тем самым старался не вызвать во мне никаких отрицательных эмоций по отношению к нему.
Но уже одно его присутствие всё портило – в груди так и жгло от непонятного мне чувства.
– Ты так и не ответил, кто ты, – с нажимом повторила я, даже не пытаясь быть вежливой.
– Даже Ричелл не показывала столько агрессии, сколько ты сейчас, – не удержался от усмешки Элрой.
– Ты с ней знаком?
– Да, и уже довольно давно, – невозмутимо сказал он, даже моргнув. – Мне пришлось немало приложить усилий, чтобы приспособиться к её характеру и найти к ней подход.
– Зачем ты мне это говоришь? – недовольно проворчала я, беря в руки ещё один стакан пива.
– Я просто надеюсь, что ты окажешься более доброй, чем Ричелл, и сможешь мне помочь, – щёлкнув зажигалкой, закурил молодой человек.
Я кинула недоверчивый взгляд на его хитрое, но красивое лицо, и перевела на его руки, татуировки на которых кончались уже где-то под кожаными перчатками.
– В чём?
– Ответ на твой первый и последний вопрос: я тот, кто может предложить тебе работу, потому что как раз в этом и заключается твоя помощь мне, – даже не скрывая ноты снисходительности в голосе, заявил Элрой.
– Предлагаешь работать на тебя? – спросила я, до этого сделав два глотка алкоголя.
– Да, именно так, Делора.
Я ещё больше напряглась от звучания своего имени.
– Откуда ты знаешь меня? От Ричи? От Тории?
– От многих, – парень изучал меня оценивающим взглядом, медленно затягивать: его с почти идеальными чертами лицо осветил вспыхнувший кончик сигареты, отсвет зажёг в его тёмных глазах чертей. – Хоть я уже давно и не учусь в той школе, где ты сейчас учишься, я всё равно много что знаю о тебе. Поверь мне, не только Тория рассказывает о тебе, ноя после того, как ты в очередной раз поставила её на место, но и другие люди рассказывают о тебе. Та же самая Ричелл, те же самые люди из этого бара, в который, кстати говоря, я довольно часто захожу.
– Раньше я тебя не видела здесь, – я обвела взглядом шумное помещение, стараясь не смотреть на своего соседа, который за весь разговор ни разу не отвёл взгляда от меня.
– «Если сегодня я не найду слабость моего врага, завтра он найдет мою», – Элрой самодовольно ухмыльнулся, когда увидел моё нахмуренное выражение лица. – Так ведь ты постоянно говоришь, да? Буду откровенным с тобой, жестокая леди, и скажу, что я честно пытался найти в тебе слабость, скрываясь в углу, в тени. Но ты ничем себя не выдавала. Ничем и никогда. И это восхищает, правда. Никогда не видел столь сильных женщин, как ты, Делора. Но ты мне никогда не была врагом. А я тебе?.. Мы только что познакомились, так что я имею смелость предполагать, что не являюсь тебе врагом. Залезть тебе в голову я не могу, поэтому с уверенностью подтвердить свою теорию тоже не могу, но на основании моих тайных, скажем так, наблюдений я вижу, что я тебе в какой-то степени нравлюсь, не так ли?
– Дерзко с твоей стороны, – гадко усмехнулась я, делая глоток пива. – Дерзко и смело. А ещё невероятно бесполезно – у меня есть парень. И никогда и ни за что я ему не изменю.
– А я этого и не добиваюсь, – в свою очередь скривился в усмешке собеседник. – У меня другие планы.
– О, неужели? – с издёвкой бросила я. – Планы на то, как бы заманить меня к себе на работу, а затем начать встречаться? Что ж, давай заранее я урежу твою самооценку: ничего не выйдет.
На моё удивление, которое я умело скрыла, Элрой рассмеялся. И этот смех… заполнил мои уши и лёгкие привычными лепестками чёрных роз. Так, словно когда-то давно насыпали туда земли, на которой некогда росли цветы, и сейчас, спустя очень долгое время, розы вновь зацвели, точно ждали этого момента невероятно долго. Долго, но терпеливо, будто знали, что когда-то это произойдёт – они восстанут из пепла и заденут шипами ближайшие органы. И это будет так приятно, так привычно…
Но почему привычно?
– «Кое-какая бабочка уже взлетела»2, – гордо улыбнулся он только ему понятному смыслу своих же слов и на пол стряхнул пепел с сигареты. – Вновь нахожу в себе смелость предполагать, что ты не хочешь соглашаться работать на меня, потому что считаешь, что сейчас деньги бесполезны, когда в мире всё безжалостно сгорает. И это в чём-то верная мысль, однако, если после всего этого ты вдруг выживешь, то на что ты будешь жить, если у тебя не будет денег?
– Разве после такого деньги будут кому-то нужны? – скептически сказала я.
– О, ещё как будут нужны! – весело заверил меня Элрой. – С самого своего существования люди пользовались обменом: в древние века это были предметы быта, потом каменные и чеканные монеты, затем уже бумажные купюры, а сейчас – от монет до банковских карточек. Человек всегда и везде использовал деньги, какими бы они ни были, так что от какой-то катастрофы он так быстро не избавиться от денег. Ведь легко понять, что после такой катастрофы всё равно кто-то выживет. А раз так, значит, людей станет потом больше, а, следовательно, им всё равно надо будет друг другу чем-то платить. Спасибо в карман не положишь, как говорится.
– Вот как?
Я это спросила только для того, чтобы не молчать, тогда как меня начинало медленно раздражать, что уже который раз за день так долго и длинно говорила не я, а кто-то другой. Но на каменном чувстве ущемлённости рос свежий, красивый мох – мне было приятно слушать этот лаконичный, плавный голос, отдалённо напоминающий мне голос Джозефа.
Элрой вдруг впервые за весь разговор перестал на меня смотреть и перевёл взгляд на почти докуренную сигарету.
– Знаешь, меня всегда интересовали такие вопросы, как зачем я родился? Какое моё предназначение? С какой целью я пришёл в этот мир? Кем я буду? Когда я был младше, я смотрел на окружающий мир и восхищался им. Столько людей нашли себя, столько людей определили для себя место в этом гигантском мире или хотя бы попытались это сделать. Кто-то стал врачом, кто-то директором, кто-то военным. А кто-то так и остался ничем, очередной мелкой тварью, ничтожеством. А кто я? Меня всегда раздражали люди, которые лучше меня, а порой это раздражение даже доходило до реальной ненависти. Ведь в чём-то эти люди стали лучше меня, в чём-то ведь проявились или же просто подстроились под общую гребёнку общества. И тогда из этого всего возникает вопрос: что самое главное в этой жизни? Кто-то скажет, что любовь, кто-то – семья, кто-то – родители. Но, на мой взгляд, самое главное – это деньги. Без денег ты ничто, ты никто, ты ничтожен. Но и тут возникает вопрос: как их сделать? Как их умножить во много-много раз? Теперь я знаю, как это сделать, но раньше этого никак не понимал: смотрел тогда на успешных сверстников и питался ненавистью. Да, звучит глупо, но это факт, это боль. Больно, когда понимаешь, что тот или иной человек может позволить больше, чем ты, имеет больше возможностей, чем у тебя. Больно, когда в то время пока ты каждое утро ходишь в школу, читаешь книги и получаешь знания, которое никому не нужны, этот успешный сверстник практикуется на бизнесах родителей, получает опыт, ездит отдыхать, гуляет, и тем самым двигается всё выше и выше! А ты падаешь всё ниже и ниже. Обидно, не так ли? Но есть и плюсы: ненависть даёт тебе силу, ты становишься жёстче, сильнее морально и физически. Однако если учитывать всё это, то кто я? Очередная ничтожная блоха или некто, кто стоит выше морально задавленного поганого общества? «Тварь я дрожащая или право имею?»3
Я невольно задумалась над его словами, отмечая его недюжинный ум, что всегда восхищало меня в людях. А кто я? Я настолько привыкла сдерживать свои эмоции, чувства, что порой мне казалось, что их просто у меня не было. Сдержать свой гнев, сдержать свою доброту, сдержать свою любовь – я лишалась чувств, как тучи лишались своей воды. Когда-то, в какой-то момент из своей жизни, который я, видимо, не помнила, я закрылась от всех, никого не подпускала, чтобы не испытывать боль, о которой была наслышана. Но вот ирония, боль – это, пожалуй, единственное, что я ощущала. Моральную или физическую? И то и другое.
Забавно, не так ли?
Я пыталась казаться не той, кем являлась. Но я привыкла. И мне вроде как нормально. Но не совсем. Хотя, зачем я вру? Я устала. Устала быть той, кем по факту и не являлась. Но проблема в том, что я уже и не знала, кто я. И не узнаю, если дальше продолжу притворяться. Но как перестать? Как просто взять и вспомнить, что я такое? Почему жизнь настолько сложна? Или, может, просто я её так усложнила для себя? Не первый день я задавала себе эти вопросы. А новый день всё не приносил мне ответа, но очередной порцией разочарований лился на меня, как кислотный дождь. А надо всего лишь как-то перестать себя настраивать на плохое, перестать сдерживать свои эмоции, открыться жизни… Если я сделаю это, то перестану ли быть куклой, обрету ли чувства? Кто знал.
А боль… никогда не уйдет.
– Слишком откровенно себя ведёшь рядом с таким малознакомым человеком, как я, – мой взгляд встретился с лисьими глазами Элроя.
– О, я тебя знаю. И совершенно не боюсь того, если ты узнаешь какую-либо мою слабость.
– Почему? – с лёгким удивлением спросила я.
Его улыбка – оскал дьявола. Притягательная, заманчивая, лживо добрая, искренне тёмная, коварная, наглая. Он весь был острым, словно состоял из всех тех косточек, по которым каждое утро разгуливал сатана и, смачно причмокивая губами, завтракал очередным грешником. Ад расстилался перед ним, как кровавый борщ, что бурлил на костре в чёрном лесу. Слышишь? Это смех чёрта смешивался с криками мучеников, рассекал жаркий воздух и затихал в черноте трещин, щелей и углов. А что там, что?
Т-е-м-н-о-т-а.
Она сопровождала Элроя, как слуги сопровождали своего короля, и медленно впитывались в меня – голос, слова, взгляд, мимолётные прикосновения, улыбки.
И я совершенно не была против этого.
– Поверь, мне самому интересно знать, есть ли у меня хоть какая-нибудь слабость, – молодой человек тщательно гасил окурок об пепельницу. – Давай поиграем в одну чудесную игру? Правила просты: я найду твою слабость, а ты мою.
– А потом друг другу расскажем? – я даже не заметила, как заинтересовалась его идеей.
– Если это будет иметь смысл. Не так ли, жестокая леди?
Я улыбнулась ему в ответ – как дьяволица, что задумала собственную игру и сделала уже первый шаг пешкой. Шахматная доска только начинала сотрясаться от новых ходов тех, кто не огласил ни правила игры, ни свои намерения. Да и зачем, когда всё в этом мире двигало недоверием и ложью?
– Да, почему бы и нет? – я залпом допила содержимое стакана и, попросив налить чего-нибудь покрепче, повернулась к своему соседу лицом. – Ты так и не сказал мне, что за работа у тебя для меня.
– Мне нужен телохранитель, – Элрой вновь изучал меня острым взглядом. – Нужен человек, который не предаст меня и не станет выдавать кому-либо из моих врагов, а их, поверь мне, очень много. Я занимаюсь некоторой незаконной деятельностью. Знаешь, зазываю на свою сторону различные криминальные банды не только нашего города, но и многих других, нанимаю убийц, чтобы те убили мешающих на моём пути людей, продаю наркотики, в том числе и «сыворотку равнодушия», хотя это и не наркотик.
– Откуда ты его берёшь? – настороженно спросила я, попивая уже не пиво, а вино, которое только что принесли.
– Тайны на то и тайны, чтобы не раскрываться, – хихикнул он. – Скажу лишь то, что я против этой «сыворотки», но зато она приносит много денег.
– И продаёшь таким, как Ричи?
– Да, именно так, Делора, – повторив свою фразу, вновь согласился парень. – Но ей я не продаю. Она уже работает на меня.
– Тоже твоим телохранителем? – на свой вопрос я получила утвердительный кивок. – Но она же никому не доверяет. Когда это ты успел?
– Да вот с того момента, когда она искала, у кого бы купить «сыворотку». Поверь, я плачу большие деньги за эту работу.
– Откуда у тебя вообще столько денег?
Элрой рассмеялся, забавляясь моими бесконечными вопросами, на что я ещё больше оказалась раздражена.
– Ты совсем меня не слушаешь. Ты разве не помнишь, что я тебе говорил? Раньше я не знал, как зарабатывать много денег, но сейчас-то знаю. И это ещё одна тайна.
– Из множества других… – задумчиво протянула я и, чувствуя уже лёгкое опьянение, вздохнула. – Можно мне время подумать над твоим предложением?
– Можешь думать, сколько хочешь, – молодой человек любезно мне улыбнулся.
– Даже год?
Он тихо засмеялся.
– К тому времени я могу быть уже мёртв. Ты ведь не хочешь, чтобы такой красавчик, как я, умер? – самовлюблённо поиграл он бровями.
– Нет, – непроизвольно вырвалось у меня, на что я тут же нахмурилась и, встав из-за барной стойки, быстро двинулась в сторону раздевалки.
– До скорой встречи, жестокая леди! – Элрой элегантно поклонился перед тем, как я исчезла за дверью.
Чёрт.
Надо было уходить от него раньше.
Чёрт, чёрт, чёрт.
У меня было такое ощущение, словно я подписала себе смертный приговор, но одновременно облегчила душу. Из клетки поменьше – в клетку побольше и намного свободнее, однако всё равно не выход. А где он? Где? Как найти? А главное, почему и кто меня запер? Я сама или некто другой?
Чёрт.
Может, я снова просто всё усложняла? Может, не было вовсе никакой клетки? Может, это всё просто бешеное воображение и такой непривычный страх, который я так давно не испытывала?
Я не знала.
Я измучилась.
Устала, устала, устала.
Морально, физически – как угодно. И раньше мои дни были полны разных событий, но сейчас эти события лишь тяжелели жизнь, лишали её удовольствия. От столь привычной стычки с Торией – до столь непривычной посиделки уже не вдвоём, а втроём – с Джозефом и Филис. Что-то менялось. Да, определённо, что-то менялось – как во мне, так и в мире.
Но как же этого не хотелось…
Помню, когда-то очень давно я в какой-то момент поняла, что всё начиналось с мелочей. Как и любой тринадцатилетний подросток, я мечтала изменить свою жизнь, однако не знала как. Но однажды при просмотре сериала я услышала умную мысль: «прежде чем начинать жизнь с чистого листа, начни заправлять постель». Сначала я не придавала этому значения… До того момента, пока не начала этому следовать. В начале мне действительно сложно было заставить себя, но потом с каждым разом мне становилось легче. Легче не только заставлять себя, а вообще как-то легче стало. Я начала чувствовать себя лучше только из-за такой мелочи. Для остальных людей заправить постель – это действительно мелочь. Но для себя я сделала целый подвиг. И начала понемногу меняться в лучшую сторону, чувствуя себя счастливей. А потом что-то случилось…
Но что именно – я не помнила.
Амнезия? Я много раз предполагала это, спрашивала у мамы, не замечала ли она чего-нибудь странного в такие дни, о которых я напрочь не помнила, задавала такие же вопросы некоторым знакомым и даже одноклассникам, однако никто ничего конкретного не говорил, а чаще – удивлённо на меня косились. Возможно, Джозеф смог бы мне чем-нибудь помочь в этом деле, но я никогда ему не рассказывала о своей самой большой проблеме – потери памяти. Забота – это всегда замечательно, но не когда она в слишком больших «дозах». Таблетки тоже полезны, если принимать их вовремя и в положенных количествах. Не всегда лишнее полезно. Далеко не всегда.
А жаль.
Поэтому я забросила попытки вернуть себе память. А может, это нормально? Что не помнишь ни своего детства, ни большую часть подросткового периода, ни каких-то дней? Единственное, что я заметила, что с возрастом у меня всё реже стали появляться провалы в памяти: последний раз был тогда, когда я совершенно забыла четверг. До этого целый месяц всё было нормально. По крайней мере, на это очень хотелось надеяться.
– Правда, что женское «нет» означает «да»?
Выдох – и я вынырнула из своих мыслей, как из болота с мутной водой, и посмотрела на внезапно появившегося рядом со мной Ченса. Он вновь весело шагал чуть впереди, слегка подпрыгивая, и крутил в пальцах недокуренную мятую сигарету. Его красная шапка уже полностью покрылась большими хлопьями снега, которым сегодня под вечер вновь одарил Колдстрейн; зелёная парка уже намокла на плечах, как и его ботинки. Сама я вновь не ощущала ни холода, ни тепла, словно для меня не существовало температуры – пустота наравне с бытием.
– Да, – равнодушно пожала плечами я.
– Переспим? – он затянулся и соблазняюще выдохнул в меня дым, словно строил из себя настоящего ловеласа.
Я поперхнулась ядовитым воздухом и устало усмехнулась.
– Нет, даже не мечтай. Тем более ты всё равно гей.
– А вот жаль, знаешь ли! – без капли обиды рассмеялся Ченс. – Для девушек столько шуток есть, столько подкатов! А как подкатить к парню и не выглядеть при этом как идиот?
– Ты в любом случае идиот, – с вымученным злорадством сказала я.
– Ты настолько напилась, что не слышала, как я тебя звал?
Я всмотрелась в его лицо – небольшое, красивое, слегка розоватое то ли от мороза, то ли от выпитого алкоголя, маленькие глаза озорно сверкали в синих сумерках города и фонарях улицы, брови постоянно находились в движении, когда он говорил. А там под узким подбородком, в тени мехового воротника куртки – большое родимое пятно почти на половину шеи. Помню, раньше Ченс носил шарф, чтобы прикрыть это пятно, но затем решил превратить это в некое «достоинство», как сам это назвал, когда осознал свою ориентацию. Но счастье это ему не принесло, как и горя. Ничего не изменилось в его жизни – пожалуй, Ченс был самым постоянным как в своей жизни, так и в чужих судьбах. Он всегда и везде одинаковый – что бы ни пытался изменить, что бы ни совершал: плохого или хорошего.
Но сейчас… казалось, что-то впервые дало трещину в его постоянстве. Глубокую, длинную и невероятно ощутимую трещину. Если даже я заметила, что с ним что-то было не так, то как он сам себя ощущал? Ведь в его взгляде до сих пор плакала печаль…
– Прости, что я тебе сказала те грубые слова, – дёрнув его за рукав, я остановила Ченса и внимательно рассматривала его лицо, желая отметить каждую реакцию на мои слова. – Я понимаю, это тяжело потерять мать. Правда, понимаю. Сама через такое пережила только с отцом… И я прекрасно знаю, что ты переживал за жизнь своей матери, что ты и сейчас переживаешь за жизни многих: начиная от близких и друзей и заканчивая мало знакомыми людьми. Это нормально – переживать. Это показывает, что в тебе есть добро, лучик света, что может осветить не только твою дорогу, но и чужую. И это… это правда здорово, Ченс. Я ценю твою доброту, ценю твою заботу о других, потому что сама я не способна на это, как бы ни старалась научиться нормально сопереживать другим. Поэтому прости меня.
– О, конечно я прощаю тебя! – тут же широко улыбнулся он, разведя руками. – Скажу больше: я на тебя и не обижался. Я прекрасно понимаю твои поступки, так что не вижу смысла на тебя обижаться. Я вообще не особо вижу смысла насчёт обид: это же так глупо! Если обижаться по любому поводу, то жизнь так и пройдёт в обиде на всех. А как жить счастливо, если ты постоянно чем-то опечален? Поэтому никогда не переживай по этому поводу, особенно насчёт меня! Я никогда ни на кого не обижаюсь, и это факт. Мне слишком лень запоминать то, в какой день на кого я обиделся и сколько нужно ещё держать эту обиду. Серьёзно, это слишком трудно запомнить! Да и зачем, когда лучше стоит обратить внимание на что-то более важное и приносящее удовольствие, чем вот это всё? Так что можешь смело забить!
– Так просто? – удивилась я.
– Поверь мне, если бы все люди жили так, как я, то жизнь была бы в разы проще! – рассмеялся юноша и выкинул недокуренную сигарету куда-то в снег.
На этом мы и расстались: сказав друг другу пока, мы разошлись по своим домам, так как жили совсем недалеко друг от друга. Парадная встретила меня перегоревшей лампочкой, вонью чей-то мочи и лютым холодом. Как всегда скривившись в лице, я поспешила в свою квартиру, надеясь, что там окажется немного теплее – удивительно, но только сейчас я почувствовала хоть какую-то температуру. Дома оказалось теплее. Батареи хоть и работали плохо в этом старом здании, но всё же немного грели. Чувствуя себя неимоверно уставшей и похолодевшей, я как можно скорее помчалась в ванную греть руки.
Тепло.
Не такое, как у Филис, не такое, как у Джозефа, не такое, как у людей. Но приятное ощущение жары медленно распространялось от красных пальцев по всему телу. Странно. Эти перепады температуры… очень странные. То мне настолько тепло, что я разгуливала в одной тонкой куртке, то я мёрзла как самый обычный человек от зимнего мороза. Может, я простудилась? Чем-то заболела? Или это просто что-то менялось в моём организме?
Бред.
Я здоровая. Ничем не болела. Вся информация о неведомом «вирусе», который сжигал людей, – всего лишь слухи. Со мной всё нормально. Да, всё нормально.
Ну-ну, продолжай утешать себя дальше.
Резко мотнув головой, я вытерла руки и вышла из ванной, чуть ли не столкнувшись лбом с мамой. Та стояла напротив меня, скрестив руки на груди, и почему-то грозно сверлила меня взглядом тёмно-зелёных глаз. Она была непривычно раздетой: футболка с длинными рукавами закрывали её тонкие руки, тогда как юбка открывала вид на похудевшие ноги. И ещё одна деталь, которой раньше не было, – целый седой локон волос на левом виске. И почему-то мне показалось это странным…
– Ты подумала насчёт Рождества? – наконец прервав молчание, тихо спросила я.
– Ты снова была на драках, да? – отметив моё недоумение, мама тут же продолжила: – Это опасно. А сейчас это вдвойне опасно. Ты должна понимать, что драки могут довести тебя до серьёзных переломов или даже до смерти, а сейчас такой всплеск эмоций тем более может довести тебя до смерти. Ты должна понимать, что болезнь, про которую стали говорить даже по новостям, реальна. Заразиться ею есть больший шанс у тех, кто проявляет сильные эмоции, у таких, как ты, дочь моя. А я не хочу твоей смерти, понимаешь? – она вдруг взяла меня за плечи, которые тут же нагрелись от её слишком горячих ладоней, и с горечью заглянула в моё лицо. – Нам всем сейчас тяжело, поэтому не стоит делать ситуацию ещё хуже. Прошу, не ходи больше на драки…
– А как же деньги? Как нам зарабатывать деньги? – грубым голосом спросила я, раздражённая тем, что уже во второй раз за день меня отговаривали от драк.
– Мы сможем прожить, не переживай по этому поводу, пожалуйста, – чуть ли не умоляла меня мать, но я была как всегда упряма.
– А на что ты будешь покупать себе алкоголь? Да-да, я давно заметила, что ты пьёшь то пиво под видом чая, то водку, то коньяк. А это тоже денег стоит, алкоголь не падает к нам с неба!
– Это я пью? – в свою очередь вдруг возмутилась она. – Да я даже сейчас чувствую от тебя запах перегара! И после этого ты говоришь, что мне не на что будет покупать себе алкоголь? Да ты о себе больше волнуешься! Уверена, я не пью столько, сколько пьёшь ты.
– И тебя даже не удивляет то, почему я стала пить?
– Неужели не по той же причине, что и я? – фыркнула мама, вновь скрестив руки на груди и выглядя ещё злее. – Да, твой отец ушёл от нас, ушёл подло и совершенно бездушно по отношению к нам, но это не повод для тебя спиваться в таком раннем возрасте!
– О, да неужели?! – в тон ей вспылила я. – Только сейчас об этом задумалась? А где же ты была, когда отец ушёл? По каким барам ты шлялась, пока я тут давилась болью?
– Я взрослая женщина! – воскликнула она, покраснев от злости. – Я почти прожила свою жизнь и имею право…
Она вдруг резко оборвалась на полуслове и встретилась со мной взглядом. Страх – вот что было в её глазах. Неконтролируемый страх, так внезапно пришедший на смену гнева. По её щеке потекла слеза, которая удивительно быстро высохла, словно находилась на чём-то очень горячем, а затем мама резко скрылась за дверью комнаты. Но даже так я заметила сзади её шеи свежие красные пятна ожогов.
Неужели?..
VIII: Ф божья сила уже не поможет
Вера – это то, что лежит на одной чаше весов, при том, что на второй всегда лежит разум.
Артур Шопенгауэр
– В последнее время я всё реже чувствую реальность. Я её не ощущаю. Не чувствую, что нахожусь в ней. Да что там в реальности? Я не чувствую, что нахожусь в теле, словно оно существует в реальности, делает изо дня в день дела, ходит на учёбу, выпивает в баре, с кем-нибудь в очередной раз дерётся, тогда как я, точнее мой разум, будто в другой реальности, среди своих фантазий, размышлений о мире, идей, той или иной теории, сериалов, книг…
Удар, удар, удар.
Белая плитка ванны никак не поддавалась моим тщетным попыткам разбить её, как я уже разбила свои костяшки. Кровь стекала с рук, когда я приложила их к ледяной груди под струи не менее ледяной воды.
Остыть.
Снова надо остыть. И телом, и духом.
Заткнув слив, я снова наливала в ванну как можно больше воды, чтобы потом опуститься в неё с головой. От холода немели конечности, сводило мышцы, но только это могло возвратить меня в реальность. Или это мне так только казалось?
Да плевать. После вчерашнего… плевать абсолютно на всё.
Лишь бы выжить.
– …Везде. Где угодно, но только не в самой реальности. Я не жду, что меня кто-то поймёт. Я и сама порой не понимаю себя, а что уже говорить о других? Может, это совершенно нормально не чувствовать реальности и жить где-то у себя в сознании и лишь изредка выходить из него, оглядываясь по сторонам на таких же людей, как и ты, а потом прятаться обратно. Может, и вправду всё это нормально?
Мама заперлась у себя в комнате. Она не отвечала на мой голос, не открывала дверь, из которой абсолютно ничего не доносилось, даже маленького шороха. Словно… словно там всё было мертво, а смерть уже начинала свой привычный ритуал, забирая в тот мир новую душу. Или то, что от неё осталось.
Я очень боялась, что мама с собой что-нибудь сделала. А вдруг у неё в комнате оказались какие-нибудь острые предметы? Или был алкоголь, которым она напилась до беспамятства? Или ещё что-нибудь? А вдруг… она выпрыгнула из окна?..
– Я не знаю. Я словно… потерялась. Да, потерялась где-то далеко-далеко в себе. Не ощущаю себя настоящей. Мне точно чего-то не хватает… Не хватает новой мысли или какого-то другого толчка для осознания себя, понимания своего места в мире. Я как будто живу в постоянно крутящемся колесе собственного разума и всё никак не могу выйти из него, передохнуть, посмотреть на мир вокруг. Не могу никак осознать ни себя, ни мир, ни что-либо ещё. Никак.
На улице мамы не оказалось. Да и в окне ничего не было видно: она плотно закрыла шторы. Чувство тревоги не отпускало, пока я шла по скрипучему снегу и ёжилась от холода в не застёгнутое пальто, накинутое на мою любимую бежевую куртку. Слишком рано встав сегодня, я решила провести в холодной воде почти час. И настолько замёрзла, что даже спустя два часа не отогрелась. Перестаралась? Лучше так, чем совсем никак не бороться.
Хотя был ещё один вариант… у Ричи.
– …Именно взять и осознать – вот, ты существуешь. Ты есть. Ты. Есть. Разве так сложно понять? Оказывается, да. Очень сложно. Или опять это дело только во мне, что я всё усложняю? Может, никто никогда и не сомневался в существовании реальности, может, никто и никогда не сомневался в собственном существовании. Откуда мне знать, что не одна я страдала вот этим, чему даже названия нет? Или есть. Я не знаю… порой мне кажется, что я ничего не знаю. Абсолютно ничего. Отчаяние? Скорее всего. Смириться? Видимо, придётся…
– Я с тобой согласен, – первое, что выдал мне Мэйтланд, когда я отключилась от прямого эфира в Instagram, а на дисплее телефона тут же появился знак вызова. – Может, не со всеми словами, но с последними точно. Мне тоже порой кажется, что я ничего не знаю. И о себе, и о людях, и о мире, и даже о тебе. Как знать, а вдруг всё это ложное, а воспоминания фальшивые, подставные? – тут он усмехнулся. – Бредовая идея, конечно, но никто не знает правду, даже самые гениальные учёные. Так что я хочу заверить тебя, что ты такая не одна.
– Таким образом ты лишаешь меня индивидуальности, – я заставила свой голос звучать более весело, тогда как моё настроение – словно битое стекло, потопленное во тьме.
– Прости, не знал, – рассмеялся Мэйт, распознав мою неудачную шутку. – А на самом деле… почему ты вдруг сегодня задумалась над этим?
– Я снова переживаю насчёт Джозефа, – не изменяя своей привычке ничего не скрывать от друга, вздохнула я. – И насчёт мамы тоже… я не понимаю, что с ними происходит, не понимаю, что происходит со мной. Но они вдвоём вчера словно сговорились: сказали, чтобы я больше не ходила на драки, а мама…
Я не смогла договорить, ком встал в горле, боль – где-то в лёгких. Перед глазами до сих пор стояли ожоги матери – такие яркие, явные, опасные. Но от чего? Не хотелось верить в общественные слухи, иначе… «Я почти прожила свою жизнь и имею право…» – слова родного человека выжигали на мне клеймо ужаса. Как же мне было страшно за маму.
Не хотелось после отца терять и её…
– Знаешь, мне кажется, тебе стоит быть более открытой с Джозефом, – осторожно заметил Мэйт, тщательно подбирая слова, но при этом говоря так непринуждённо и добродушно, что хотелось ему тут же поверить. И я верила. – Вы уже в отношениях как год, а до этого ещё дружили несколько лет, но при этом, мне кажется, вы не слишком открыты друг другу. Джозеф так же закрыт в себе, как и ты. Да, вы многое знаете друг о друге, но в то же время так же много и не знаете. Может, именно от этого ваша любовь «увядает», как ты рассказывала?
– Я согласна с тобой, я полностью это понимаю, но у меня проблемы с памятью, ты же знаешь, – устало покачала я головой, закусив губу и чувствуя холодный металл пирсинга на носу. – А вдруг я ему уже что-то сообщила из своей личной жизни, но просто этого не помню? Или Джозеф мне что-то сказал о себе? Он-то думает, что мы уже разобрались над той или иной проблемой, касающейся нас самих, но я-то могу этого просто не помнить. А я… не хочу повторять то, что мы и так, возможно, уже прошли. Вдруг это ранит нас обоих?
– Да, как-то я об этом не подумал, – раздался виноватый вздох в трубке. – Теперь я понимаю, почему ты всё скрываешь в себе.
– Наверное, ты единственный, кто вообще может хоть как-то понять меня, – хмыкнула я.
– У каждого человека должен быть тот, кто может понять его, – как всегда весело поддержал меня друг, и я не смогла сдержать искренней улыбки.
Короткое прощание – и я, застыв на месте, прикрыла глаза и подставила лицо нежным перьям снега. Я вся превратилась в слух и ощущения: на стёклах медленно таяли снежинки, стекая одинокими каплями к узорам, что украсили каждый уголок многочисленных окон города; где-то снег падал большим потоком – скребя лопатой, мужчины в чёрных одеждах чистили крыши, как многие сейчас чистили свои машины, которые всё шумели, шумели и шумели… Грязь на дорогах напоминала о том, что происходило с каждым человеком: сначала он чист, как только что родившаяся снежинка, но затем он падал – всё ниже и ниже, как всё ближе к земле приближался новый снег, чтобы потом смешаться с пылью, ядом и песком. А дальше – только растаять.
Умереть.
Немногочисленные деревья скрипели под слабыми порывами ветра и потихоньку стряхивали с себя оперение; снег на моём лице медленно превращался в слёзы неба и сильно кусал остротой своего холода; запах табака от зажжённых сигарет гулял по широкой площади, по пути общаясь с воздухом и травя его своими ядовитыми ссорами; с залива слабо тянуло солью и треском льда, белое небо равнодушно окутывало город в плотное одеяло, точно желало задушить всех жителей в смоге и холоде, но в то же время закрыть от внешнего мира. Где-то там – величественный космос, но тут, на Земле, нам было тесно, неуютно, одиноко. Тут шёл снег, тут болели люди, тут всё было полно жизни и смерти. А там…
Там, наверху, всё по-другому.
Звук скорой помощи – кто-то умирал. Сирена пожарной – кто-то вновь горел. Машины рассекали воздух, стояли на светофорах и снова ехали – к родным, на работу или спасать погибающих. Сейчас, спустя столько лет вполне мирной жизни, люди вновь стали массово умирать. Зима – худшее время, когда всё это могло произойти, но судьба к человечеству никогда не была благосклонна. Сколько бы людей ни молилось, их вновь и вновь поливали гнилью и грязью, как бездомных бешеных псов. Пинали, обзывали и покидали.
На, умрите в собственной ничтожности.
– Бесполезно! Всё это бесполезно!
Истеричный голос Олин я узнала сразу же и, распахнув глаза, увидела её, выходящую из большой красивой церкви. Следом за ней тут же шёл Джозеф, а немного позади уныло плёлся Хэмфри. Все хорошо одеты: тёплые куртки, высокие меховые ботинки, толстые шапки и обязательно перчатки на руках. Во всём этом, конечно же, постарался Джозеф, который всегда внимательно следил за тем, как одевались его маленькие родственники: так и представлялось в голове, как он упорно одевал, несмотря на все протесты и конфликты. В этом он был похож на меня – такой же упрямый, решительный и самоуверенный. Порой за это хотелось его любить ещё сильнее – хотя куда сильнее? – но в то же время это неимоверно раздражало.
Всегда так с человеком – его то и дело бросало из крайности в крайность.
– Ничего не бесполезно, – мягко, но одновременно твёрдо заверил сестру Джозеф. – Ты же знаешь, нам всегда помогают такие маленькие походы в церковь. Может, в мире и не становится всё сильно лучше, но на душе становится чище. Разве ты сама не чувствуешь?
– Нет, конечно! – воскликнула Олин, взмахнув руками. – Не хочу я ничего чувствовать! Зачем, когда мне нужна нормальная материальная помощь? Я всего лишь хочу стать красивее и богаче, разве это так трудно сделать Богу, раз он всемогущ? Видимо, да! Или он помогает только душевно?
– Чистая душа делает человека красивее, – спокойно ответил парень.
– Да плевать мне на это! – топнула ногой его сестра, ещё больше раскрасневшись от злости. – Я хочу здесь и сейчас! Я не хочу ждать, чтобы там якобы полностью очиститься, чтобы стать красивее, я хочу, чтобы мои молитвы исполнялись сразу же! Иначе зачем это делать, если тогда всё будет бесполезно?
– Олин, – Джозеф осторожно, но крепко взял её за руку и остановился вместе с ней, – я понимаю, ты вся на нервах, от тебя ушёл парень, ты сильно ранена изнутри, но это не повод терять надежду, понимаешь? Молитвы Богу – это не только просьба что-нибудь исполнить, это высказывание своей боли, своих страхов, своей радости. Это моральная опора, поддержка, которую тебе может никто и не дать, даже я. Это надежда, которую можно почти что ощутить, стать к ней максимально близко, что её можно будет почти увидеть. Это не только очищение души, снятие с себя грехов, признание своих ошибок – это принятие себя таким, какой ты есть, со всем добром и злом в тебе. Ты можешь либо осознать это, встать с колен и попытаться стать лучше, надеясь на то, что хотя бы Бог это увидит, либо можешь и дальше топтаться в грязи и взирать отвращение не только Бога, но и всех. И даже самого себя.
Девочка ничего не ответила, но и не задумалась над его словами: просто резко отвернулась от него и встретилась со мной взглядом. Джозеф проследил за тем, куда смотрела его сестра, и облегчённо улыбнулся, когда увидел меня. Я так же почувствовала лёгкость, словно только что сходила с ними помолиться: Джозеф почти каждое воскресенье водил детей в церковь, чтобы «очиститься». На самом деле, я не знала истинную причину того, почему он стал верующим, ведь его душа, на мой взгляд, была самой чистой из всех, кого я знала.
1
Колдстрейн на английском языке будет «Coldstream», что переводится как «холодный поток».
2
Последние слова Владимира Набокова, писателя. Кроме литературной деятельности, Набоков интересовался энтомологией, в частности – изучением бабочек.
3
Выражение это принадлежит Родиону Романовичу Раскольникову, главному герою «Преступления и наказания», самого известного романа Ф. М. Достоевского.