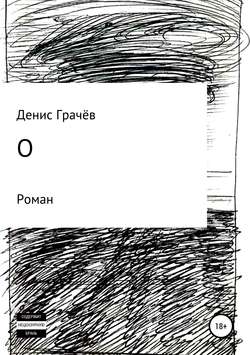Читать книгу О - Денис Александрович Грачёв - Страница 1
ОглавлениеНочь кончилась быстро, а дню повезло меньше.1
На обочине сна вдруг появилась раскрытая ладонь с глазом посередине, и от стыда за подсознание, сработавшее в стиле халтурного сюрреализма, он проснулся прямиком в ненастное, величественное в своём гневе утро, где, пока ещё на самой кромке горизонта, природа ломала в суставах один особенно массивный логарифм эйнштейновской формулы, дерзнувшей притязать на усмирение её своеволия. Позавтракав чашечкой кофе, он оделся и вышел из квартиры. Тильта́м, сказал язычок захлопывающейся двери, проворно вскальзывая в пазы замка, и он, закрывая дверь добавочно, ключом, с лёгким удивлением отметил, что поверх привычности этого движения, которое в другое время его внимание презрительно проигнорировало бы, навернулось какое-то трудноописуемое шевеление, тут же снабдившее привычное действие совсем новыми, более близкими, родственными, что ли, отношениями с действительностью сегодняшнего утра. Чуть приглядевшись к двусмысленной, уверенной, активной неподвижности этого шевеления, он сделал вывод, что отныне, на весь грядущий день, оно, как верный Пятница, станет неотлучным его спутником.
Уже спускаясь по лестнице, он упрекнул свою удивлённость, ловко разыгравшую внезапность собственного появления, в лукавстве, поскольку и самая беглая ретроспекция нынешнего утра, предпринятая, словно любовь, – наспех, открыла ему, что, не успел ещё эстетически малоценный посередьладонный глаз замкнуться, а вежды истинные, природой вменённые, – отверзнуться, как тело почуяло непригнанность к нему сегодняшней реальности – так, словно бы та слегка жала, – и, нисходя не только с четвёртого на третий, с третьего на второй, со второго на первый этаж, но и, параллельно, по ступеням винтообразной памяти, он всё плотнее приближался к разгадке новой своей совместимости с глухим неистовством великолепной нашей, московской жизни, пока, наконец, вместе с подъездом, распахнутым в непогоду, не нашлась, на самом донышке вчерашнего дня, та самая крапинка, начинавшая от легчайших прикосновений к ней до того согласованно резонировать с мелодией сиюминутности, что никаких сомнений не оставалось – это она, та, которую более наивные и более строгие личности были бы склонны назвать причиной.
Но на сей раз он додумывать своей мысли не стал – приберечь её на вечер, как на десерт, показалось ему соблазнительнее – а, сместившись посредством радикального гомеоптотонического2 демарша и графоманской рифмы от причины в машину, переехал по диагонали всю Москву, на парковке метко вклинился своим «ситроеном» между тупыми задами спящих, чужих машин и в 11.00 уже влетел в офис, сверху вниз мелко-мелко расстёгивая одну за одной пуговицы плаща.
– Пётр Алексеевич, звонил Таманов, просил передать, что документацию по Гарееву вышлет к вечеру, – сказала Люба, пальчиком придавив к столу страницы книги, которые по невоспитанности, свойственной всему новорождённому, так и норовили встать дыбом.
– Вот дубина, говорил же ему отправлять прямо Фомину, мне-то она зачем? Что это вы там читаете, Любочка? – вопросил он игриво, сразу начиная злиться на себя за эту свою дежурную игривость, которая с летучей коварностью теплорода неизменно просачивалась сквозь любые нагромождения строгости, суровости, неумолимости, нетерпимости, непримиримости, ригоризма – оставим, впрочем, это утомительное цитирование «Словаря синонимов» (М., «Русский язык», 1986), к облегчению негодующего на длинноты предполагаемого читателя, – стоило ему лишь взглянуть на эти пуговичные глазки, на семядольки губ, с иконописной точностью прописанные грановитой помадой на круглом лице, на мнимую растрёпанность волос, чей фарисейский бунт умело симулировал дорогой парикмахер.
– Пелевина, – очень серьёзно ответила Люба.
– Бросайте, Любочка, бросайте вы это дело, – с глазами, округлёнными веселым ужасом, воскликнул он, уже исчезая в полный рост за дверями кабинета. – Так и до Кьеркегора недолго докатиться!
Первым делом он настежь распахнул окно, потом… – нет, не было никакого «потом»: дождь, окончательно созревший в теснинах ноздреватого неба, воспринял широко разведённые руки Петра как пригласительный жест и облегчённо, но с достоинством, заставлявшим его из презрения к гравитации двигаться чуть медленнее, чем то́ предписывалось законами правдоподобия, зашуршал к земле, и оттого, что всё вдруг (как писали неусидчивые романисты всех времён и народов, силясь тем спугнуть подбирающуюся к читательскому горлу зевоту, а заодно весьма экономичным способом замазать повествовательные сочленения) – итак, оттого что всё переменилось из серого в блестяще-серое, Пётр, подражая этому самому вдруг, отменил своё потом и, четвертьэллипсовым движением руки развернув кресло к окну, уселся прямо в плаще напротив прямоугольного фрагмента неба, оживлённого растрёпанными шапками буро-красных тополей. И в этом своём ладном, точь-в-точь по форме кресла, спокойствии, которым, как счастливым финалом в напряжённой фильме, разрешилась в нём гроза, он опять обнаружил ту вибрирующую точечку, чья осцилляция настойчиво саднила душу – впрочем, совсем чуть-чуть. Он вздрогнул и решительно придвинул к себе то, чему надлежало быть отодвинутым на вечер.
Выглядело это так: «Дорогой Пётр, – писалось в e-mail'е, и его – и при первом прочтении, и сейчас – особенно тронула неуклюжая теплота, которую нельзя было не почувствовать сквозь ходульную преамбулу, если знать, что написано это было человеком, чьё знакомство с Петром исчерпывалось парой мимолётных встреч, – дорогой Пётр, – ещё раз, с новым удовольствием перечёл адресат, – приезжай, пожалуйста, в эти выходные. Кирилл писать тебе уже отчаялся, но ты знаешь, как он тебя ждёт. Олеся».
Непогода, разыгравшаяся столь кстати, давала десять тысяч поводов отвлечься от тревожной, ненужной нежности, которая сконцентрировалась для Петра в этих двух строчках на мониторе, и он, лишь только распознав в себе нежелание до конца понять, что же, собственно, для него значит это письмецо, благодарно улыбнулся одной из вышеупомянутых десяти тысяч, обнаружившей в нём спасительное желание выкурить первую за день сигарету.
Раз; два; три – разветвлённая арабеска синеватого дыма, так решительно берущая разбег у самых губ и так неуверенно теряющаяся в близлежащем воздухе; теплота остывших за утро лёгких, согреваемых дымом; скорчившийся в пепельнице полураздавленный червячок с грустной, чёрной головкой (волосики вразнобой) – сократим в педагогических целях излишне подробное описание пагубной привычки: пусть дело делается нескоро, но оставим сказке её право скоро сказываться. И вот он берёт из левого верхнего ящика дело, которое пытается ему сплавить Таманов, обстоятельнейше, с церемониальной медлительностью просовывает его в слишком узкий портфель, закрывает, как занавес, окно, с обеих сторон омытое теперь нежнейшей родниковой водой, что ртутными каплями застыла в зыбком равновесии, открывает бесшумную дверь и очень серьёзным голосом (на дне которого, под ярмом серьёзности, прямо-таки изнемогает какая-то особенно забубённая, по причине своей повышенной петросяновости, интонация) произносит:
– Хороших вам выходных, Любочка.
– Ах, вы уже ухо́дите, Пётр Алексеевич, – сказала она с сожалением – увы, чересчур искренним, чтобы показаться безопасным, – и Пётр, этим сожалением мигом отрезвившись, ответил серьёзно и внятно:
– Да, я покидаю вас, Любовь Викторовна. До – понедельника, – но, выйдя из здания и уже вправду поверив в кончину неуместного внутреннего балагура, неожиданно для себя рассмеялся – на первый взгляд, оттого, что густой, вкусно пахнущий порыв ветра ласково лизнул его лицо, а на самом деле по неизвестному поводу, покамест, когда герой ещё почти чужой, неразличимому в сумраке его юридической души.
С неба до сей поры кое-как сыпало, но диминуэндо быстротечной грозы перешло в воздушнейшее по своей лёгкости пианиссимо, и Пётр, так и оставив машину на стоянке, за шлагбаумом, скорым шагом вывернул из тесного двора на просторный проспект, который сделало ещё более сквозным, продувным, шагательным всеобщее осветление воздуха, произведённое сноровистым бореем: обочинные, наиболее грубые тучи – как бы сырьё для будущей скульптурной лепки – были оттеснены в сторону кладовки и списаны в хлам, а на авансцену, в расплывающиеся проруби, помещено натуральное, как молоко, стопроцентно голубое небо, на которое во избежание вертиго смотреть осенью и не рекомендуется – так что вышло, будто Пётр из сумрачной комнаты попал в хорошо освещённый коридор. В пачке оставалось три сигареты – столь ничтожно мало, что лучшего повода для прогулки не отыскать. Проспект был привычным, словно домашний халат, так что Петру не приходило в голову разглядывать в тысячный раз его швы и складочки, и только машины, ставшие шёлковыми после дождя, летучими тенями скользили по зеркальной дороге, немного развлекая его внимание. Мороз и солнце… – почему-то вертелось у него по часовой стрелке волчком в голове: ото лба через правый висок и затылок снова к лобной кости; – мороз и солнце… – и, зачарованное своим вращением, так и не могло выпустить примостившийся уже в очередь чудесный день, и лес, с отливом в прозрачную синеву, и тяжёлую зимнюю воду, блестящую сквозь молодой лёд, и ещё какие-то осязаемо-плотные предметы, ювелирным блеском мерцающие из глубины памяти. И тем не менее всё это прозрачно-искристое великолепие так и замоталось бы в карусели бессчётных реприз, так и сникло бесславно, если бы внимание Петра, начавшее было зевать под перестук игривого ямба, не соскользнуло в сторону следующего предмета: из монументального мавзолея, основательно, с толком и смыслом, расположившегося неподалёку от бюро, в котором работал Пётр, из мраморнотелого этого зиккурата с вывеской «Министерство NN» вышел незнакомый человек с очень знакомым лицом, сразу за дубовой надгробной дверью раскрыл во избежание дождя тугой породистый зонт и, сделав несколько шагов, из-под зонта попробовал несмелой рукой, как там с погодой. А погода задалась: из шёлкового небо теперь сделалось фарфоровым, как несколько раньше вздумалось ему из рыхлого сделаться твёрдым.
…Газетный лист перевернулся с твёрдым хрустом, и со следующей страницы, по-новому огромной, как бы даже больше своей предшественницы, на него пахнýло таким обаятельно-терпким духом – словно в типографии станок по ошибке был заправлен не чернилами, а кровью гвозди́к и тюльпанов – что он машинально, дабы чтением не замутнить невесомое это ощущение, метонимически перенятое его душой от свежего газетного листа, перевёл взгляд на текущую за окном землю и, переведя, понял, что все эти без малого три часа он ничуть не интересовался газетой, с любопытством прослеживая стройно составленные ряды слов, но не имея никакого представления о том, что же, собственно, силились они ему сообщить. Однако теперь, когда взгляд его обрёл новую скорость, бесстрашно скользя по-над кронами скудных ветвями деревьев, по-над косогорами, так и сяк заросшими бурьяном цвета грязной бирюзы, он понял, что потерял одну большую мысль, согревавшую его чтение, что она растворилась без остатка, как растворяется, облокотившись о реальность, семикрылое сновидение. И тогда, отметив её исчезновение мимолётным сожалением, он с остро-внезапным удовлетворением, так похожим на удовлетворение от удачно найденного слова, смял эту ненужную более, бесконечно поскучневшую газету, сунул её куда-то невпопад и с чувством выполненного долга мгновенно задремал. В дрёме, беззащитной со всех сторон, сразу принялись хозяйничать ошмётки хохота сбоку, вступившие в сложную коллаборацию с тем тенистым лабиринтом, по которому он зачарованно, тревожно шёл, подводные звуки голосов вроде вопроса от соседа справа (обращённого в галактику PZ282, пятнадцать миллионов лет экспрессом на световом луче или сто миллиардов обычным скорым звездолётом, с кочегарами, споро швыряющими в топку древесный уголь и берёзовые поленья), который час, и нечто пунцовое, пульсирующее сзади, которое подталкивало, отревоживая всё вокруг, его внутридрёмный шаг; и только когда вышел в чисто поле огромный петух – нагло так, вразвалку, крылья в боки – когда посмотрел на Петра до дрожи человеческим глазом, посмотрел, повторимся мы, посмотрел ещё раз, а потом открыл свой рот шириной в целый космос и чёрный до головокружения, тогда-то он рывком, как бы в припадке инстинкта самосохранения, который, стервец, распознал-таки, что его передвижной белковый амбарчик проваливается в самый настоящий сон, только тогда Пётр очнулся и сквозь остаточное шевеление эфирных плоскостей увидел целую равнину расходящихся железнодорожных путей, в которых какому-нибудь молодому паровозику-несмышлёнышу немудрено было и затеряться. Пётр уже окончательно избавился от коловращения прозрачных материй, приспособив замечтавшийся хрусталик к плотному остову реальности, когда ЭР-200, лязгнув (а вдогонку чавкнув и клацнув) на невидимом, а только слышимом изгибе рельс, чрезвычайно ловким манёвром выбрался к перрону, разлившемуся перед поездом, словно серое, асфальтовое молоко.
А как только нога его коснулась перрона и в лёгкие влился плотный вокзальный воздух, от рождения переполненный дробной спешкой, утробным гулом голосов и гулкими раскатами громкоговорителя (оезд-адцать-а-скорый-бывает-а-торую-лат-форму3), он стряхнул с себя последние, самые цепкие остатки онирической рутины и зашагал (с удовольствием отмечая, как пружинисто отталкивает подошва свежекупленного ботинка здешнюю землю) меж текущих в скоростном течении тел. Люблю тебя, Петра творенье, молча говорила Петру его голова, весьма охочая в минуты отдохновения или благорасположенности к мерцанию бытия до расхожих ямбических считалок, и Пётр было с удовольствием придержал за хвостик лестную мысль, что с этим городом они тёзки, но в сей же миг навстречу ему, его совершенно не замечая, пронеслись держащиеся за руки Кирилл и Олеся, маломанёвренные вследствие своей сцепленности, а потому вынужденные постоянно переходить с аллюра на иноходь, с иноходи на рысцу; Пётр же, изловчившись, поймал за рукав Олесю галопирующую, достигшую пика кинетической резвости. Она испуганно, рывком, оглянулась, и сколько-то, бесконечно мало – но всё же достаточно, чтобы марсианский страх имел время провести по диафрагме Петра щекотным гусиным пером – взгляд её аккомодировался, постепенно уплотняясь, согреваясь, закипая влажными искрами, пока, наконец, – в последней стадии – не распростёрлись объятия, не сжали его за плечи твёрдые руки… – но это, очевидно, моя досадная рассеянность или даже описка, поскольку Олеся, конечно же, не могла иметь такие твёрдые руки, это, очевидно, был Кирилл, её законный муж. И правда, Пётр увидел прямо перед собой возбуждённое мужское лицо, увенчанное растрёпанной шевелюрой, орущее поперёк вокзального гама:
– Я же говорил тебе, Олеська, что раньше, ра-аньше надо было выходить! Петька, дуралей, не мог дождаться тебя! Как это сказочно, что ты наконец тут!
Пётр, целиком затиснутый в объятия, обречённо выслушивал этот приветственный гвалт, из-под объятий оправляя смятый плащ и с гримаской извинения безмолвно глядя на Олесю, а она в это время, оставшись не у дел, так же пристально, хотя, как показалось Петру, с некоторой наигранной невнимательностью, поглядывала на него, тоже что-то там такое теребя у своей куртки. Ничего особенного в жесте не было, но он чуть раздражал Петра, и Пётр с каким-то странным удовольствием, которое самому ему показалось чуть ли не мучительным, признался себе, что встреча его разочаровала. И тут Кирилл наконец отстранил его.
– Эх, Петька, – горланил он, за плечи вращая Петра так и сяк, – какая же у меня жизнь квёлая покатила! Некуда бы и деваться от этой жизни, если б вот не Олеська. Да вы знакомы немного… Ну, в тот раз, помнишь?
– Конечно, помню, – ответил он и, вправду, с интенсивностью живого кошмара вспомнил те пять (семь? восемь? – в этом месте мозг давал осечку) стопок водки, спринтерски, за какой-нибудь час, выпитых при молчаливом попустительстве Олеси в привокзальном буфете, пока у молодой четы – вследствие причудливейшего в своей романтичности порыва решившей медовый полумесяц провести на родимой для невестушки сторонке, а именно – в крупном восточносибирском городе, известном доменными печами, алюминиевыми небесами и – last but not least – адской человеческой злобой, настоянной на адской скуке, – оставалось окошко для пересадки с красивого поезда, гладкого, как ядовитое тропическое пресмыкающее4, на поезд некрасивый, шершавый, потёртый потёртостью матёрого волка – и, вспомнив, он сразу, с размаху, забыл об этом, и, забыв, так же сразу понял, куда приспособить эту свою не израсходованную пока нежность, автоматически вырабатываемую секрециями сентиментальности при перемещении из города привычного в город любимый: – Эх, Кирюша, – проговорил он, – хочется чёрт знает что замутить с тобой в эти выходные!.. Конечно, помню. Мимолётные встречи почему-то особенно метко выстреливают в память. Здравствуйте, Олеся.
Он пожал её руку – и та, как бы мстя за невнимание к её владелице, изумила его, оказавшись столь мягкой и тёплой, что осень, начавшая было поджаривать воздух свежевыпеченным морозцем, как-то померкла перед ней. И всё-таки он быстро справился с этим ознобом новой, наслоившейся поверх старой нежности: второпях улыбнувшись Олесе, одной рукой обхватил Кирилла за плечи и потащил к выходу из вокзала. Обхватил, сказал я, потащил к выходу, и конечно же, эта простота, как и любая простота, оказалась лукавством, поскольку в это же самое время он каким-то задним, боковым, ограниченным, но оттого ничуть не менее важным сектором обзора постоянно был сосредоточен на той молодой женщине, семенящей покорно за ними следом, чьё узкое тело укутывала пегая куртка, чьи движения поражали мягкостью, будучи как бы добавочно обёрнутыми райски нежной материей, чей голос, произнёсший незамысловатое «здравствуйте» (и это главное, этим-то словом и нужно было открывать каталог прелестей!), тих, но бархатист и терпок, словно весеннее утро в Поднебесной.
Однако хватит, чёрт возьми, падишахского дастархана, где слова подаются под столь густым кукишем поэтического масла, что просто с души воротит, хватит и этого стернианского волчковерчения; буду писать вот так: Они вышли из вокзала. Они, эти трое, курсировали меж таксомоторов, отыскивая самый дешёвый. Они, эти двое, отговаривали другого, того, которого только что привёз московский поезд, взять за свой счёт первое попавшееся такси. Они нашли самого дешёвого. Торговались¹, торговались²… торговалисьⁿ – и нашли. Сложившись, как швейцарские ножи, втиснулись втроём на заднее сиденье. Тронулись. Медленно выкарабкивались из автомобильного стада (оно было плотно сбито), потом поехали быстро. – Вот так-то: чем короче фраза, тем отчётливее проступает в ней поэзия, чьи семена, словно верные личарды, соприсутствуют каждой складке, каждой морщинке и впадинке охватившего нас бытия, и если посмотреть на этот мир с изнанки, со стороны Бога, то мы, конечно, увидим вожделенное небо в алмазах – ведь с того края, где маета шустрого нашего мироздания прозрачней июльского воздуха, благосклонный и яростный Наблюдатель заметит лишь мерцание поэзии, и трудно, ох как трудно ему каждый раз при взгляде на эти сияюще-невидимые просторы сдержать сладкий укол гордости за ладно сделанный труд. Ну что за старомодное умствование, поморщился Пётр, что за белиберда лезет в голову; но, несмотря на всю ту неловкость, которой отдавали мысли и толки такого порядка, он с глухим удовольствием следил сквозь автомобильное стекло, захватанное пыльными пальцами дождя, как отвлечённая грёза, облюбовавшая себе особенно романтическое нейронное гнёздышко в творожке черепной его коробки, на глазах перековывается в стройные каменные линии хорошо знакомых улиц и проспектов, волновавших его, как отменные стихи. – Однако ж невозможно камню длиться вечно: камень открывает Литейным мостом то ли каверну, то ли цезуру посреди своего стройного тела, и только здесь Петру становится вдомёк, что весь этот путь, оказывается, был вымощен реактивной, разноцветной болтовнёй Кирилла, и лишь Нева, двигающаяся неустойчиво, словно желе на блюдце, открыла ему как бы клапан в реальность, которая, добросовестно выполняя вменённые от века обязанности, сразу посы́пала мелочью:
–…Ты просто не представляешь, Петя, как они мне все осточертели, как я устал от их идиотских звонков и писем. Кирюша, сходи туда, узнай то, а нельзя ли куда-нибудь пристроить на работу вот этого? Ну ладно, скрепя зубы соглашаешься: ведите – и как лист перед травой является собственной персоной вот этот. Лёгкий огнь над кудрями отнюдь не пляшет, зато в глазах – бездна родной нашей, дубовой пронырливости, ещё в ранней юности за два с полтиной приобретённой в универмаге «Луч». Ну ладно, устраиваешь горемыку на испытательный срок заполнять пустые клеточки в какой-нибудь немудрящей программе. Через полмесяца – звонок: Кирилл, кого ты нам подсунул, твой «способный парень» только и делает, что сидит в чате с такими же способными парнями из обеих столиц, товарищами по совместному курганскому детству, а во дни особо напряжённых запарок звонит с предупреждениями о том, что на работу он не явится по причине сногсшибательной головной боли. Чёртов Курган, бить тебя – не добить сосновой дубиной! Бежал-бежал я от тебя, кропил-кропил святой водой воспоминания о тебе, чтобы отделаться от этого гадкого хлама, но ты меня и здесь достанешь! О наказание! И этот гондон (Ох, только и выдавила из себя молчавшая до сих пор Олеся, с преувеличенной скорбью упёршись в Кирилла зелёным взглядом, но тот нетерпеливо отряхнул взгляд рукой и продолжал со сладострастным нажимом: – и этот гондон) ещё звонит после того, как его вышибли к чёрту под грохот канонады, и обиженным голосом заявляет, что Федька с Егоркой за тысячу у-е в месяц не торопясь перекладывают бумажки в какой-то священной конторе, а он обязан был не жалея живота своего зарабатывать грыжу за жалкие четыреста – нет уж, говорит это гладкокожее и двуногое, дудки, не на таковского напали… О поганая дыра, как же я тебя ненавижу! – прогремел Кирилл и столь неистово вознес к небу розовый свой, овальный кулак, что чуть не отправил в нокаут крышу такси, уже съезжавшего с моста.
– Ну хватит, Цицерон, Курган расположен вовсе не там, – миролюбиво заметил Пётр и одновременно – то есть совершенно в тот же миг – услышал, как Олеся тихо произнесла: «сокол». Невозможно тихо произнесла, надо бы переспросить, подумал Пётр, но не переспросил, потому что и Кирилл вдруг замолк, поджав губы и выглядывая исподлобья в сторону удаляющейся Невы, и потому что его собственная внимательность, как жало, вонзилась в неустойчивую точку, которая в предвечернем трепещущем воздухе кружила над водой косо и плавно, мерно и порывисто – словно бы, действительно, своими манипуляциями над воздухом, беременным сырыми тенями, настраивая на себя чужое беспризорное внимание. Большой Петербург, полинявший в преддверии ночи, Литейный и видимый в отдалении Троицкий мосты, и невидимая в ещё более далёком отдалении Москва, огромная, что твой Сатурн, а за компанию с ними – всё пространство, заселившее собой этот мир, повисло на этой косокрылой точке. Сокол двигался по невидимым скатам и взмывам, спускаясь отточенно с горки и потом как-то боком, отвергнув прежний лёт, вплывая в другое – особое, птичье – измерение, перпендикулярное свинцовой Неве. Но увы – такси было ярым и почти неистовым в своем стокилометровом беге, жёлтая машина шибко вращала колёсами, воротя морду к серым, бледно-серым окраинам – Шувалово, Парнас, Медвежий стан, Лаврики (о, как утробно, звуком расстроенного орга́на, звучат эти имена!) – и, удаляясь от реки с её тревожно-свободным запахом, по мере того как силуэт сокола мерк на полотне памяти, можно было вообразить, что он, в своей виртуальной редакции беспёрый и сияющий, увенчал собой этот город, который (– и здесь мы переведём дыхание, чтобы осечь то пронзительное чувство, что пыталось навязать нашему перу неврастенический бег —) недоумевает, что же делать ему с этой бесполезной соколиной милостью, что же делать с сим сверкающим венцом, изготовленным из чистого чуда?
– Стоп, – сказал Кирилл, двумя пальцами дотронувшись до плеча шофёра. – Остановитесь на минуточку здесь.
Он тяжело, молча перебрался через Петра и, на ходу запахиваясь в расстёгнутую куртку, побежал, пританцовывая, к придорожной будке. Мутный какой вечер, глядя ему в спину, подумал Пётр, – паскудно-переливчатый.
– Ох, какое холодное! Надо же. Идиотка, на улице дубак, а она до сих пор пиво в холодильник засовывает.
– Ничего, выпьешь, страдалец.
– Ну, Петька, того ли мы с тобой ещё не выпивали, – сказал он и, откинувшись на сиденье, гулко рассмеялся.
Чокнувшись бутылками, они одновременно выпили зябкого пива, чей холод, перенятый передними зубами, сделал те ноющими, стеклянными. Но и в этом подземном трепетании зубной боли, наслоившемся на плавное ускорение, взятое таксомотором, Петру вновь почудилась гармония, которая искоса, нелинейно обогащала все его чувства, начиная с первого шага на питерскую почву. Теперь они пили горькое пиво, болтали взахлёб, а скорость, воспользовавшись той всегдашней нежной таинственностью, которой обладает первая ночь по приезду в большой город, расцвела пурпурным цветком, скорость благоухала сиренью и жимолостью, и это благоухание воронкой втягивало в существо их разговора и вечернюю свежесть, и синие, опалённые сумерками силуэты тополей, и бедные, скучные, одинаковые дома, днём привыкшие к позору собственной убогости, но вечерами как бы из ниоткуда получающие прилив гордости, и человека со старым, почти седым журавлём, мелькнувшим в освещённом окне, – человека, который сидя у окна читал журавушке книгу ещё до того, как мимо пронеслось жёлтое такси, и продолжал своё неторопливое занятие гораздо после исчезновения этого мимолётного механического призрака: «Поэтому перевес в споре о причинности в пользу воззрений Юма, что в причине нет ничего, кроме постоянной последовательности»5, – внятно, по-стариковски, выговаривал человек слова́, хотя был ещё довольно молодым, хотя и одиноким тридцатипятилетним субъектом мужского пола, пока журавль, зевнув, не сказал укоризненно: «Ну, будет, Данька, уж полночь близится, продолжим завтра».
– Кирюша, дай отхлебнуть глоточек, – тихо сказала она, как-то по-особенному вкрадчиво трогая Кирилла за рукав куртки.
– Глоточек? – недоуменно спросил Кирилл, словно бы проснувшись из цветастого разговора в обыденность жизни, но тут же стряхнул с себя остатки метафизической лёгкости, не успевшие улетучиться после остановки в конверсации, и совсем другим, будничным тоном ответил: – Конечно, бери. – Сказал – и, осёкшись, пожал плечами: – Нет, всё кончилось – я и не заметил.
– Возьмите у меня, – проговорил вдруг Пётр и прибавил тем тоном, во глубине которого оказалось погребено непредусмотренное и оттого неприятно обжёгшее Петра лукавство: – Уж не побрезгайте.
Олеся боком и мимоходом посмотрела на него, отвернулась к окну, торопливо пряча какое-то выражение лица, так и оставшееся неизвестным человечеству, однако, справившись с этой внезапной мимикой, обернулась и совершенно серьёзно молвила:
– Давайте на ты, Пётр? Ладно? Раз и навсегда… А теперь – пивка.
– Ну что же ты ругал девушку? Пиво-то тёплое, – странно улыбаясь в никуда, произнесла она и легонько ткнула Кирилла локтем в бок.
– Да мы за это время тридцать пять парсеков отмахали: уже остыло, – пожал тот плечами и вдруг порывисто расхохотался, тиская Петра за локоть: – Эх, и здорово, что ты здесь!
Авто сбавило ход, на ощупь оползая невесть какие омуты, уготованные ему боковой сумеречной улицей, пару раз подбросило и поймало в ладони жмущихся друг к другу пассажиров и наконец, переваливаясь, вползло в просторный двор, чьим щедрым простором пользовались зарешечённый детский сад (с пряничными избушками, железными крокодилами, слонами-горками) и размашистая помойка с лучшим, вследствие роскошной многообразности его, мусором на свете. Смутные люди водили на невидимых поводках призраки собак, и призраки кричали и кашляли, словно подвыпившие японцы. Ох, как мягок всё-таки воздух, оборачивающий к нам все звуки внутренней, нежной стороной, как легка поступь вечера, какой неодинокой выглядит здесь, в Питере, бледная, бело-янтарная луна!
– Сюда? – спросил водитель тихо, словно кого-то боясь разбудить.
– Сюда! – возопил Кирилл, вылезая, расправляясь, вдыхая, полной, грудью. – Сюда! – громогласно повторил он, когда выходил из лифта, указывая перстом на обитую клёном жидкокофейную дверь, и неожиданно приглушённым голосом добавил… вернее, промолчал, быстро-быстро примеряя очевидно неприятной мысли такие и эдакие словесные одёжки, а потом, наспех что-то подобрав, добавил: – Только, знаешь, Петя, у нас ведь там бультерьер, так что ты, это, поначалу поосторожней, а то он очень по-разному воспринимает гостей.
– Да что ты, Кирюша, – ласково ответил Пётр, – я буду кроток, как кролик. Я дойду до последних рубежей смирения.
«Убью сразу же, как только гадина раскроет рот», – спокойно решил он и мысленно погладил тёплую, теплей телесного, рукоятку браунинга под мышкой.
Каллиграфически выверенными полукружьями Кирилл завращал ключом, сосредоточенно прислушался к последнему, влажному звуку, с которым язычок был втянут замкóм, и медленно-премедленно, затаив дыхание, стал приоткрывать дверь, которая к этому времени уже вошла в роль, перестав быть дверью, чтобы стать неумолимой преградой, дщерью несокрушимости, Вратами, и двигалась тяжело, с каким-то готическим прищуром, как в фильмах ужасов. Кирилл осторожно просунул нос в образовавшийся проём, в котором покамест безмолвие мешалось, меняясь местами, с пыльно-серыми громадами неопознанных фрагментов интерьера, – просунул даже не весь нос целиком, а лишь его побледневший кончик, затем тугие крылья ноздрей, твёрдую переносицу и, пока его голова с напряжённо-буддийской аккуратностью предатора погружалась в разверзающуюся щель, Пётр машинально пощипывал подбородок, стискивая его между большим и указательным пальцами, но одновременно с каким-то злорадным удовольствием высокоточно чувствуя другим большим пальцем ребристую теплоту пистолетной рукоятки. «А жалко, что нет», подумал он, совершенно безо всякого сожаления, через полминуты; «как жалко, жалко, жалко, что нет», подумал он через месяц, уминая отчаянным усилием воли теснящиеся на самом верху горла рыдания, – когда уже неважно было то и это, когда уже неважно будет, как говорить о человеке, поскольку что ни скажешь – всё выйдет невпопад, или даже печальней – всё уйдет в «молоко», как уходят в бесплодную белизну любые, самые точные и проникновенные слова под воздействием центробежных сил чернейшего уныния.
– Да ладно, Петька, дурак я, дурень! – захохотал Кирилл, загрохотав открываемой рывком дверью. – Нет у нас никакой собаки. На хрена она нужна, собака – эти млекопитающие только с~ горазды, а толку от них чуть!
И он продолжал говорить ещё что-то, непрерывно и нараспев, пока скидывал нетерпеливо, словно старую кожу, прохладную от вечерней сырости куртку, пока по щербатому паркету вышагивал прямо в ботинках на кухню, и уже оттуда, из сумеречных теснин незажжённого света пел чушь приглушённым голосом пророка. Но внимание у Петра располагалось сегодня как-то чуть сбоку ото всего происходящего, сконцентрировавшись на менее элементарной, но более зернистой материи блуждающих интуиций, и слова Кирилла свистали невпрок – они огибали ушные раковины и соскальзывали прямо в сердце, переставая быть словами и становясь сиянием бессловесного щебета. Ну и хорошо, ну и неважно, где там щебечет слово – в умной раковине уха или же в умнейшей стратосфере человеческого тела, которую ещё во времена оны учёные птеродактили назвали душой, – важна лишь его походка, важен фасон этого слова, или, точнее, фасонистая его способность стать своим для человеческих чувствований, которые без нашего ведома, без пределов и берегов равномерно разлиты по человечьим нашим, кургузым телам.
– Холодненькая, – воскликнул Кирилл, ею победно потрясая. – Специально перед тем, как выйти встречать тебя, положил в морозильник. Ну давай, Петюша, как встарь, из горлá, а то сердце изболелось по веселью.
Он сноровисто отвернул ей горлышко, и лёгкость сноровки, которая всегда легче пуха, так рассыпала невидимые диезы по нотному стану здешней, коридорной импрессии, что хруст надламываемой шейки разом перебрался в мажорную тональность. Пётр поймал себя на мысли, что и ему давно хотелось вот так же, в неосвещённом коридоре – который, впрочем, пока мысль мыслилась, щелчком Олесиного пальца сделался освещённым – залихватски хрустнуть пробкой на ледяной водочной бутылке. Заранее жмурясь, он отпил один и другой резкий глоток, с трудом настраивая тёплое, домашнее горло на ледяной водочный камертон…
…– Ну и пусть живут в своей идиотской подлости, – говорил собеседник, для чего-то цепляясь за его рукав плохой рукой, из которой спирт уже извлёк все шарниры, – и не надо их пускать в столицы. Ну что, расскажите мне ради Бога, делать в Питере Вовке Толмачёву, если родные мамка с папкой и родные друганы – плоть от плоти Кургана – всю жизнь учили его только зависти, тупости, механической работе локтями и животной ненависти к любой особи, для которой в жизни есть хоть что-то посложнее разговоров о ценах на жильё и видеокассет со Шварценеггером? Зачем импортировать сюда этих гомункулов вкупе с их провинциальными тёмными углами? Они ведь не умеют – то есть физиологически не умеют – переезжать налегке, они всегда норовят протащить с собой и свой тёмный провинциальный угол, чтобы было где лелеять квасной местечковый патриотизм. Да, приехали в центра́ и мы с тобой, и ещё столько-то и столько-то народа нашего склада, но ведь – заметь – стóит пришвартоваться крепко и начать обрастать добришком, как тут же подтягивается из родных курганов и совершенно невообразимый балласт, который в отчем городе только и мог, что награждать нас, чудиков, презрительными улыбками; не просто, по-казачьи так, в лицо презирать нас, а именно что за спиной за нашей усмехаться мнимой нашей убогости. И едут, и едут, и бьют холопьи свои, подлые поклоны, и так же втайне презирают нас…
– Да ладно тебе, Кирюша, к чему вся эта злобá? В какую мукý перемелешь её? – отвечал тот безбожно фальшивым голосом, и только алкогольная радиация, которая к тому времени сделала тела собеседников блистающими, воздух и стены комнаты – экспрессивно-живописными, как в хорошем бреду, а языки – неуклюжими, хромыми калеками, позволяла затуманить существо протестов Петра, которое, как внезапно, лишь сейчас, посреди выпитой ендовы спиритуоза, понял сам автор этих увещеваний, заключалось в том, чтобы невзначай и поискусней подогнать своё наигранное смирение к тем ямочкам и выемкам в душе некоей упорно молчавшей молодой женщины, что отвечали за чувства заинтересованной симпатии к оратору. И всё-таки Петру было сложно двигаться за самим собой: догадки и прозрения даруют веществу жизни множество дополнительных валентностей, но алкоголь имеет собственную географию, чей месмеризм, несомненно, значительно более могуществен, нежели магнетика обыденного бытийствования, а посему направляет к делу упомянутые прозрения и догадки способами весьма нелинейными, так что не стóит, ох, не стóит, дорогой путник, шествующий внутри алкогольного ландшафта, полагаться на профетические вспышки, мимикрирующие под путеводные маячки, не стóит сломя голову устремляться вдогонку этим высверкам умного магния, поскольку такое целеустремление весьма коварным образом скрадывает внешнее, активное существование тела, оттесняя его с авансцены за кулисы, так что в один миг, сколь прекрасный для одних из нас, столь же прискорбный для других, мы, чуть задумавшись, то есть уйдя чуть в глубь от внешней болтовни, можем внезапно обнаружить себя за полтора, скажем, часа от места легкомысленного сего самоуглубления, с двоящимся взглядом и без малейшего представления о странствиях бренного своего тела в течение последних этих девяноста минут. Так и Пётр, заинтересовавшись новооткрытым внутренним Мальстремом, который образовали его симпатии и противосимпатии, вдруг обнаружил в руке – нечто холодное-прехолодное, твёрдое, ребристое, неудобное, что при искусном приближении мучительно сфокусированного взгляда оказалось рюмкой вонючей водки, по опознанию беспощадно вылитой под стол, а вокруг себя – незнакомый интерьер с шевелящимся под ногами сладострастным ковром и школьным другом Кириллом, который вот уже добрых полчаса повторял одну и ту же фразу, чья фонетическая транскрипция потребовала бы значительной усидчивости от небольшой, но чрезвычайно сплочённой группки лингвистов, но семантика могла быть передана без изъянов даже нашим неумелым пером: «Да они мне все на~ не нужны» – и его скромнейшая жена уже и не протестовала, сонно и скорбно глядя в салат «оливье». Пётр знал теперь, что делать, или, точнее, переходя на язык тогдашней спиритуозной прагматики Петра, у него созрел план действий, который – и здесь мы начинаем со всей возможной добросовестностью следовать вдоль всех фьордов и меандров наличной фактуальности – предполагал вежливое извинение, вежливое переползание через рядомсидящую Олесю с опорой на Олесино плечо (которое не преминуло оказаться досадно шаткой конструкцией), преодоление опасного, шестимерного коридора, стремительное разоблачение в неустойчивой ванной комнате и отверзание холодного крана, откуда хлад отрезвляющий отнюдь не поспешил брызнуть, изливаясь поначалу милующей прохладой, столь дружественной для разгорячённого сосуда с необычным названием холова, затем постепенно меняя амплуа на будоражащую морось, щекотавшую под рёбрами, и лишь в последней стадии достигнув той морозной ярости, которая выдрала с корнем тело Петра из пьянющего универсума, вывалив его в следующую, более трезвую ментальную прослойку. Крупно дрожа, он с трудом преодолел бортик ванной, с удовольствием встал на спасительный, блаженно-тёплый пол и первым подвернувшимся под руку полотенцем – красные цветы на болотно-зелёном поле! – довольно долго и яростно оттирал себя от алкоголя.
С босыми ногами и мокрой, свежей, как ему тогда показалось, головой он вошёл в комнату, где только что была речь коромыслом, и цветник вкуснейших салатов, и стильные солёные грибы как бы haute couture, и, разумеется, ледяная водка, вязкая, будто масло, а теперь на расстеленной постели, которая возникла на месте сгинувшего невесть куда стола, лежал мерно храпящий труп Кирилла, и на стуле рядом Олеся подставляла под скудный свет ночника увесистую книгу, прочитанную на три четверти6. При звуке шагов она положила книгу лицом на подушку, поднялась и негромко произнесла:
– Пойдемте покажу, куда лечь. Я застелила.
– А я весь день так и не замечал, что вы носите очки. Теперь вы совершенно иначе выглядите, – сказал он, уже накрывшись одеялом и с каждым мигом всё более понимая, что освежающее опрыскивание было всего лишь эфемерной декорацией для основного, мертвецки-пьяного фасада, и теперь фасад стремительно проступает, растворяя фантомные эти декорации, для того чтобы дать сну умыкнуть тело Петра из хрупкого сего Dasein7, сделав его легитимной фурнитурой своего декора. Здесь, на краю сна, он позволил себе обратиться к Олесе на «вы», как тó чуть раньше позволила себе она, и, ему показалось, это незаконное возвращение к отчуждённому множественному числу было их совместной, тонкой игрой, некоей изящной разновидностью тайного кода, связывавшего их.
– Ну да, я же днём ношу контактные линзы, – просто ответила она и по прошествии некоторого молчания, в течение которого Пётр собирал разрозненные мысли, чтобы собранной целостностью поразить Олесю в самую сердцевину сердца, так же просто добавила: – Спокойной ночи. – Потом, помолчав ещё каким-то чрезвычайно чистым молчанием, додобавила вот что:
– Я тоже видела тебя весь день совершенно иначе. Очки углубляют взгляд, и сейчас ты в лёгкой такой дымке. Как будто три измерения перестали звучать в унисон. Не знаю, правда, красит ли тебя такая дымка.
А её рука, пожавшая длань Петра, которую он умоляюще выпростал из-под одеяла, чтобы перед тем, как пучина сна сорвёт его с кручи, последний раз причаститься неизъяснимой прелести мира сего, была суха и тверда, словно десница прокуратора.
. . .
– Ну конечно, подташнивает: после вчерашнего иначе и быть не может, – ответил он. – Если бы не такое утро, голова бы явно разъехалась в стороны.
Так и хочется написать наперекор темпераменту, что утро выдалось прохладным, но проклятая нелюбовь к ничего не значащим фразам тормозит эпический разгон, который почёл бы за должное вытащить вслед за тем на лист бумаги кисейно-голубое небо с лёгкой дымкой облаков, сморщившихся подобно молочной пенке там и сям, свежайшие здания, словно бы высеченные из серого льда, вкрадчивое сияние особо сегодня далёкого от земли солнышка – а посему, во избежание малодоходной художественности, начнём с другого конца, содержащего на своей весьма многозначительной обочине тот факт, что все жители Питера (простим себе великодушно этот сомнительный квантор всеобщности) отметили в тот день, что утро, несмотря на немилую питерской душе прохладу, выдалось всё же весьма приятным, поскольку от прохлады не веяло резкостью, поскольку все горизонты во все стороны были чисты вплоть до какой-то особенно ультрамариновой голубизны, поскольку, наконец, это утро обладало тем чудесным свойством, отнять которое не сподобились бы все ураганы и антициклоны обоих земных полушарий, – оно было утром выходного дня.
Плавный ход машины словно бы продолжал утреннюю прохладу, и этот счастливый союз прохлады и скорости, несомненно, сбавлял обороты тех беспощадных шестерён, что вращались в головах двух пассажиров этого быстротекущего авто. Оно между тем миновало один и другой проспекты; вровень с неким трамваем, нервным, вздрагивающим, самозабвенно-пугливым, прокатилось по тенистой улице; переехало тяжёлую реку и встроилось в шаткий ряд машин, лавирующих по направлению к Невскому.
– Не знаю, как тебе, ну а мне претит эта суровость, – сказал помолчав Кирилл, и было непонятно, что же, собственно, снабдило его голос этой угрюминкой, от которой он зазвучал как бы на терцию ниже обыкновенного: неугомонное кручение внутри головы или вид виселиц, строго и чинно возвышавшихся по обеим сторонам Невского проспекта.
– А что это? – спросил Пётр и, надо заметить, что его тон тоже не был вполне свободен от минорной фиоритуры, проблёскивающей сквозь сдержанность вопросительного вокализа: ведь Невский и без того из самых глубин естества вызывает эманации чиновной чопорности, будучи по сути своей вовсе не проспектом, но своего рода коридором в некое весьма серьёзное учреждение – Министерство Наказаний? Бухгалтерию Человеческого Греха? – а изукрашенный деревьями смерти, на которых торжественно покачивались грузные тела, он просто не мог не возбуждать благоговения. Да, друзья, виселица – это страшная сила: душа вспенивается, газируясь непреоборимо и мгновенно, когда воочию зрит, насколько элементарно, при помощи лишь двух алгебраических компонентов – перекладины и верёвки – судьба решает немыслимо сложное уравнение человеческой жизни.
– Да ведь трёхсотлетие на носу – вот и вывесили для показухи проворовавшихся чиновников.
– Ну что же, хорошо висят, – ответил Пётр, и они оба усмехнулись с одинаковой хрипотцой, которая так шла сегодня бушующему похмелью. А оно, надо сказать, уже прознало про свою истошную, мучительную силу и начало с какой-то особенной охоткой тиранить голову и жизненную мощь наших двух героев, транспонируясь то в курсив неких кромешных самопроклятий, который при ближайшем рассмотрении нечитаем, но при отдалении от него вновь обретает истовый гик, то в тонкую – если не сказать слишком тонкую, для того чтобы выглядеть доброй – сверхэнергию, пропитывающую здания-тела-улицы особенным, принудительным смыслом, отчего дымчатая действительность являлась пред душевные очи вояжёров как фимиам космическому унынию, то в сомнительную двойственность, о которой никак нельзя было заключить, где же она, собственно, располагается – внутри или снаружи, – пока, наконец, Кирилл, чью борьбу с собственным долготерпением вот уже четверть часа репрезентировала тектоническая активность вибрирующего, крупно двигающегося лица, не положил конец этому никчёмному умалению плоти. Он прокашлялся – и здесь я, с вашего позволения, вручаю герою почётный туесок с земляникой, поскольку прокашлять пересохший колодец, полный пауков и летучих вампиров, тоже было маленьким подвигом – легонько тронул за плечо водителя и тихонько попросил:
– Вот здесь остановите на минутку.
Влезая обратно в машину, он был уже значительно веселее, и эту весёлость для поджидающего спутника возводила в квадрат весёлость глухого позвякивания, которое слышалось из глубин пластикового пакета, поставленного Кириллом на сиденье. Пока машина трогалась, Кирилл сохранял свою сосредоточенную сдержанность, но чем шибче становился её ход, тем реактивней протекала химическая реакция этой сдержанности с невидимой субстанцией, обращающей напряжённую уравновешенность в хитрющее чеширское сладострастие.
– Ну что, – сказал он с наигранной небрежностью, – выпьем по пивку?
И конечно же, они выпили по «Бочкарёву», который сейчас, hic et nunc, был сладок сладостью счастливой грёзы, щедрая милость его была по-королевски обильна, и внутренний туман уже после первой бутылки оказался скомканным с краёв, а потом, совсем уже вскоре, когда каждый из них в свой положенный ему момент вынырнул из оживлённого щебета – в который они взапуски бросились, как только были откупорены пробки – в тихую заводь, где болтающее сознание, вдруг вспоминая о себе самом, оглядывается на самого себя, – так вот, как только сие произошло, каждый из них в этот самый положенный ему момент заметил, что виртуальные шестерёнки и прочие поршни, двусмысленности и энергии преобразовались в задорный гул, который, ничему не мешая, разогревает сердце и мысли до приятной теплоты. Кирилл попросил опустить стекло, и стремительный аккомпанемент их разговору, который уже битый час дожидался у запертого окошка, ворвался в салон, разворошив прически, как заправский свежий ветер родом из лучшей советской прозы тридцатых годов.
. . .
…Прошло полтора года, и, собравшись вместе на именинах Петра, они вспоминали об этой поездке накануне трёхсотлетия Санкт-Петербурга с воспалённой нежностью…8
Нет, вру я, наши подопечные всё так же мчатся в направлении Петергофа, причём двое из них, пересмеиваясь, болтают о пустоте, а третья в основном помалкивает, хотя временами они все втроём выдают хохотальные тутти: просто захотелось вдруг написать фразу «прошло полтора года», захотелось отметить эту страницу призраком повествовательной увесистости, и я не смог отказать себе в этом удовольствии, тем более что пусть не полтора года, но сколько-то времени и вправду прошло, пока машина, обогнув все улицы и переулки, пролетев все шоссе, остановившись за очередной порцией спиритуозных изделий, с осторожностью пробежавшись дальше по хромающим дорогам, не подкатила к ограде Петергофа, где шум и гам, толкотня и сутолока взаимно уминали друг друга в плотное шумодвигательное пюре.
– Вот он какой, наш город фонтанов и весёлых затей, – говорил Кирилл, уже изрядно раскрасневшийся, широко обводя рукой бегающих стремглав детей, сердоликовые клумбы увядшей флоры, голубые, линялые зонты продавцов мороженого и соков, строгий, чересчур отчётливый дворцовый фасад, музыку Штрауса, исполняемую плотно сбитым в кучку, сидячим оркестриком, весь тот гуд, перегуд, треск, брань, хлоп, который всегда издаёт большое количество счастливого народа.
Солнце и алкоголь прибавили воздуху теплоты, но не только её, поскольку воздух, казалось, был настоян на солнце и алкоголе, как на чабреце и пустырнике, а оттого очень сложно, со всей загадочной силой квадратного корня из двух, пах свободой и безнаказанностью. И они все втроём, не исключая никого, уже начинали примериваться к этой кубической безнаказанности с тремя неизвестными, уже шли, загребая ногами жидкую земличку, как дети, и подставляли вверх исстрадавшиеся по ультрафиолету лица, а тот, почуяв благодарных пользователей, припускал что есть мочи, зажаривал из последних сил, плотно стягивая белую кожу, обделённую солнцем. Ради смеха они купили себе по мороженому, которое показалось им уморительно контрастным по отношению к выпитому недавно пиву, и оно, с удовольствием вписавшись в этот приподнятый распорядок сегодняшней жизни, первыми же укусами сделало мир иным: более заострённым, более игольчатым, словно бы проникнутым тончайшими серебряными струнами.
В одну из молчаливых минут, которая выдалась, пока они, откусывая хрустальные призмы с малиновым вкусом, смотрели на золотого человека, деловито раздирающего пасть золотому льву, Пётр почувствовал где-то на самой вершине затылка лёгкое жжение, которое при ближайшем рассмотрении, оказывается, не переставая длилось с самого утра, с того самого момента, когда отверз он свинцовые очи, и сейчас, обернувшись к полюсу раздражения, нашедшемуся без особого труда, он подумал было: «Какое кошачье у неё лицо. Нужно быть поосмотрительней», – однако новое дуновение алкоголя изнутри, вступившего в следующую фазу активности, заставило смять эту мысль, тем более что к тому времени мороженое как-то само собой доелось, и Кирилл, потирая руки довольно, словно после удачно завершённого трудного дела, проговорил из-под носового платка, которым стирал с губ остатки сливочной крови:
– Ну а теперь – к лабиринту.
– Далеко это? – спросил Пётр.
– Далеко? – рассмеялся Кирилл, показав Петергофу кривой частокол зубов, тщательно вырезанных из слоновой кости терпеливыми бушменами. – Разве есть в нашем лексиконе такое слово? Ни сегодня, ни завтра для нас ничего не далеко. Вот послезавтра от проспекта Просвещения9 до Московского вокзала действительно проляжет космически огромная бездна, ну а пока enjoy этой жизнью, Пётр, enjoy, пока она сама плывёт в руки, и позабудь о расстояниях.
Он, как всегда, лукавил, представляя расстояние профилем нашей субъективности, поскольку, вместо того чтобы сжаться, как тó было рекомендовано ему Кириллом, оно, оттолкнувшись от той точки энигматичности, которую содержало кирилловское определение пути – пространственного сего промежутка – вытянулось в какую-то трудно различимую виртуальную даль, размыв собою все рубежи терпения и ожидания, так что теперь, в этом новом равнодушии, было не только всё равно, куда и сколько идти, теперь, в новом этом равнодушии, имелось и новое расстояние, плотное, словно камень, огромное, тёмное, почти неземное. Но и в этих моих словах о предстоящей им дороге – всего лишь полправды. Как известно, расстояние, о котором не известно почти ничего, за исключением, возможно, того, что оно где-то есть, где-то пролегает, начинает мерцать, и этому магическому мерцанию не мешают ни его плотность, ни его темень, ни живая та мертвенность, которой обладает всякий недоопределённый общий термин, и в этом мерцании, словно бы в тоге, изготовленной из чистого колдовства, Пётр на один необыкновенно короткий миг показался себе ангелом, и в миг следующий, щёлкнувший сразу вслед за мигом предыдущим, ангел выблеснул и из Кирилла, так что из глубины его, Петра, озарения, которое, как и любое озарение, находится не в само́м провидце, но сильно выше него, можно было при взгляде на трёх наших фланёров различить две бесконечно воздушные сияющие иерархии и одну чёрную точку, для описания которой не хватит апофатического таланта ни у нас, ни у вас, ни у Ивана-царевича, ни у бабки-гадалки, ни у Дионисия Ареопагита, ни у самого Жака Деррида. Впрочем, вотще расстояние возносилось в полусферу несбыточного, чтобы ниспасть в юдоль здешнюю мерцающим ливнем, вотще прорезáлись вспышки всех этих радиоактивных прозрений с легендарно малым периодом полураспада, поскольку путь через аллеи, укрытые надёжной тенью лип и тополей, мимо прудов, пахнущих кислой ягодой, и по малюсеньким мостикам, умело играющим в неустойчивость, оказался недлинен.
Лабиринт, казалось, не привлекал к себе слишком много людей: то было жидкое кипение любопытства, которое вызывает старина, чьё единственное достоинство образует более или менее длинный прицепной составчик из растворившихся в никуда столетий. Но Пётр пытливым взглядом, за прошедшие сутки намётанным на всё четырёх– и пятимерное, не мог не уловить этой показной скуки всех старинных скучных вещей, которая на самом деле представляет собой не что иное, как защитный окрас, отвращающий профанов и вызывающий в истинно зорком сдавленный возглас восхищения искуснейшими разводами этой самой показной скуки. Словом, для феноменолога здесь была истинная отрада, а вот бихевиористу, конечно, пришлось бы туго. Зеленоватый мрамор, помятый медленными, но тяжёлыми тысячелетиями, казался рыхлым. Пётр подошел и потрогал его рукой. Он был бархатистым и, несмотря на прохладу, сообщал прикосновению словно бы некоторую темноту, которая, как и любая темнота, выглядит тёплой.
– У этого горемыки тоже ведь юбилей, – тихо откашлявшись, произнёс Кирилл, – но только кто вспомнит о нём. Две тысячи лет, конечно, – почтенный возраст, но старость – слишком слабый аргумент, чтобы заставить гостей дорогих заинтересоваться этими кусками колотого сахара.
– Цезарь явно переборщил, – недовольно проговорил в ответ Пётр.
– В каком смысле? – выдержав секундную паузу, спросила Олеся, и оба, Пётр и Кирилл, сдержанно улыбнулись, каждый, разумеется, своей улыбкой, но такой своей, которая была своей только в частностях, а в общем она имела одинаковую конфигурацию, и эта конфигурация выглядела такой… ну, беззащитной, что ли, на их голых лицах, поскольку была из той породы, что выглядит более респектабельной, будучи спрятана в усах. В этом, конечно, был бы особый шарм, если бы Пётр и Кирилл улыбнулись в усы, но делать нечего – честность есть истина, истина есть правда, а правда есть вот эти самые беглые строчки, которыми упиваетесь вы, мои благосклонные и мудрые читатели, и которые так отвращают вас, неблагосклонные и скудоумые мерзавцы, а посему ничего не попишешь: придётся оставить и того, и другого без волосистой кудреи́ над благородным зигзагом губ и, проникнув сквозь эту неплотную преграду, чтобы угнездить своё всеведение одновременно и в сердцах их пламенных, и в головах их холодных, выяснить, что улыбка Петра вызмеилась из его внимательности, которая с нежностью вперилась в секундную паузу, выдержанную Олесей перед её вопросом, и тут же умилилась слабой попытке не показаться дурой, попытке столь мимолётной, что сердцу нельзя было не сжаться в кислую вишенку, а улыбка Кирилла захватывала ещё и следующие уровни сложности: она относилась не только к секундной паузе, сделанной его женой, и не только к тому обстоятельству, подмеченному им с дежурной зоркостью, что Пётр улыбнулся этой секундной паузе, показавшейся ему, должно быть, признаком непоследовательной, милой Олесиной слабости, – она относилась и к тому общему для них с Петром горизонту дружбы, который любое, самое тёмное слово, сказанное второпях или невпопад, привычным образом помещает в тот плотный смысловой ряд, где совершенно нет зазора для работы недоумения или растерянности, тому общему горизонту дружбы, поворачиваем мы чуть вспять, который невозможно не приветствовать улыбкой узнавания, когда он, обычно такой скромняга и партизан, проступает водяным знаком над рутиной будничного или необязательного разговора.
Итак, Цезарь хотел казаться настоящим фраером, но с этим он явно переборщил. Если бы тогда, две тысячи лет назад, он был русским, огромная сумятица русского языка настроила бы его тщеславие другим аккордом, пронзительным, внезапным, смятенным – аккордом, рождённым не под знаком Козерога, но под Весами или Девой, так что тщеславию всесильного повелителя Римской империи, загнанному скачкой безумного нашего языка, негде было бы и развернуться для провального манёвра, у него не оказалось бы той свободной территории, где можно столь безысходно фраернуться. Впрочем, здесь я перегибаю палку, но ведь, согласитесь, гнутая палка выглядит гораздо интересней своей прямой родственницы, от которой толка не больше, чем от волка. Впрочем, говорим мы, и наша анафора берёт предыдущую фразу под уздцы, реабилитируя волка, который, конечно же, порой может быть отличным свидетелем, а посему, для подтверждения сей мысли, вверяем ему самовитое наше слово, просим его: реки, мол, правду и только правду, волче; размолвись прямоугольным словесом, ибо правда и только правда имеет, как тебе известно, прямоугольную форму. Хорош мне репу грузить, отвечаху вълкъ, за~шься тут разгребать ваше ~больство; повествовать буду неторопливо, но просто и с толком. Вот, робяты, моя простецкая наррация: Когда Цезарь, прогрохотав по будущим Польше и Германии своими тяжелолатыми легионами, вошёл на территорию нынешней Ленинградской области, латинская душа его, устав от непрерывного veni, vedi, vici, замаялась то ли тоской, то ли печалью, то ли сплином, то ли какой-то иной слабохворью, которую в изобилии вырабатывают при определённом понижении душевного градуса недотыкомки – насельники околопневматического пространства, – и, замаявшись, душа намекнула на необходимость мало-мальского покоя. Раскинулись шатры, разожглись костры, наложив неустойчивый багрец на лица сидящих вокруг воинов. Ночи были прохладные, но неразбавленное вино согревало кровь. И здесь нужно сказать, почему я считаю Цезаря лохом: после нескольких дней отдыха, которые очень красиво составили неделю, ему захотелось быть печальным, сложив меч, но не взяв мяч, то есть, я хотел, конечно, сказать не мяч, а орало, но уж ладно, по фигу, дорогие слушатели, они же читатели: как сказалось – так сказалось. Вам ведь, в сущности, по~, что читать, а посему мне – по~, как говорить: захотел – сказал мяч, захочу – скажу пиявка или омлет. Не нравится – не читайте. Мы ведь свободные люди, звери, птицы, рыбы, микробы и иже с нами. Впрочем, пора повернуть от нас с вами к Цезарю, к его уникальной тоске, которую прогнать можно было лишь оправдываясь перед ней изо всей мочи. Плутон забери эту землю, сказал он поутру, пусть она остаётся медведям и этим маленьким кривоногим человечкам, обмотанным в шкуры, что с опаской поглядывают на нас с окраины жидкого леса. Но ты, Полибий, и ты, Клавдий, – вы вернётесь сюда через год с вашими отрядами и рабами-строителями, чтобы возвести здесь лабиринт, ибо негоже месту, где ступала нога Цезаря, пребывать во мраке неразличённости.
Ну и почему же всё-таки именно лабиринт, спросил Полибий у Клавдия когда-то и где-то спустя несколько месяцев или лет после желанного возвращения из болотисто-комариного края, где к тому времени уже сияла косоугольная мраморная звезда, возведенная со всем тщанием римского инженерного гения. Лабиринт? – со смехом ответил Клавдий, выпивоха и сумасброд, бывший в этот час, как всегда, навеселе. – Но ведь и Цезарь порой желает быть не цезарем, а просто человеком, только, разумеется, не желая показывать, что в тот момент он просто человек, а не цезарь. О, это очень мудро со стороны нашего сюзерена – обнаружить слабость опро́щения не здесь, в Риме, где любая слабость, сколь бы искусно она ни была задрапирована, всё равно будет разоблачена дьявольски прозорливыми сенаторами или историками, а на обочине мира, куда никакой римской зоркости не вглядеться. Лабиринт – это, конечно, памятник всем разочарованиям Цезаря, или, переведя мои слова на язык биографических реалий, это памятник всем тем женщинам, которых Цезарь любил и с которыми, как мы знаем, он вынужден был навсегда расстаться. Ведь у всех женщин, в коих влюбляются властители, души похожи на лабиринты, из которых нет выхода; из такого лабиринта можно выйти, лишь уничтожив сам лабиринт. Но, заметь, Полибий, у того, что построили мы, выход есть, и вот в том-то факте, что он всё-таки есть, и заключается самая большая слабость Цезаря, о которой мы с тобой, разумеется, никогда и никому не расскажем. Наш лабиринт – это мечта Цезаря, а мечта – это капитуляция перед жизнью. Властитель не должен позволять себе мечтать, его мечта, если можно так сказать, должна едва поспевать за мощью слова его и меча. Но ведь мы промолчим об этом, Полибий, ведь мы не можем хотеть, чтобы слово и меч Цезаря вознаградили подобающим властителю образом эту нашу догадливость?
– Пять входов, – проговорил Кирилл, так выразительно щурясь и вздыхая, что Пётр не сразу сумел избыть лестный холодок от своего всеведения, которое снайперски точно определило первопричиной прищура сенсационную и льдистую свежесть воздуха, сочащегося из-под новоприбывшей лиловой тучи, а первопричиной трагического вздоха, вырвавшегося словно бы из жерла вулкана по имени Пьеро, – критическую нехватку алкоголя в крови, – пять входов – и все ведут к центру. Ну что – каждому по входу? Встретимся в центре. Лады?
– Что это за затея, Кирюша? – спросила она тихо, и Пётр с трудом удержался, чтобы не прильнуть ухом к этой шелестящей речи, чья струйка была так дразняще тонка; но даже если бы он сломя голову помчался сквозь разделяющую их полувытянутую руку, ему не суждено было поспеть, потому что Кирилл прервал её мефистофелевским хохотом, беспричинность которого была очень к лицу зачинавшейся абстинентной нервозности.
– Ладно, хватит сомнений. Вперед, други. Покажем Цезарю сквозь толщу веков, что здесь не только ваньки́ в оленьих шубах шастают, но и логически мыслящие индивиды, не понаслышке знакомые с трудным пером Карнапа и Тарского10. Давай, Олеська, дуй в этот проход, – заорал он, проталкивая её, негнущуюся от смущения, в тенистый каменный проём. – Ну а ты, Петька, как-нибудь выберешь сам счастливейший путь. Ну, газу!
Он вошёл туда не задумываясь, с ходу, наполненный, как ему показалось, до краёв равнодушием, но с первых же, самых трепетных мгновений стало понятным, что этот накал равнодушия не выдержать, поскольку эти же самые первые, самые трепетные мгновения открыли, что по лабиринту нельзя идти, лабиринтом можно только красться, выслеживая выход, как добычу, подстерегая его за каждым поворотом, чтобы вдруг закогтить, жадно вышагнув вовне и так же жадно, как вина, глотнув лилового воздуха из свежеиспечённой тучи. Кроме того, – и это кладёт на любое самое изощрённое равнодушие тревожную тень, делающую его интригой, авантюрой, заставляя перестать быть самим собой, то есть равнодушным равнодушием, – кроме того, в лабиринте всегда темнее, чем нужно: ведь хищник чувствует себя уверенней в отсутствии света. И второе, которое непременно следует приклеить к только что сказанному первому: у этих каменных хищников, конечно же, большие нелады с пространством, они от рождения с пространством не квиты, а ведь перед всеприсутствующим оком такого могущественного врага следует быть понеприметней, нужно хотя бы чуть пригасить свет, чтобы создать видимость тише воды, ниже травы. Итак, поступь его была трудна, но душа – головокружительно прозрачна, несмотря на то что в са́мой серёдке этой прозрачности брешь, пробитая от падения равнодушного равнодушия, потеряла устойчивость и начала раскручиваться в маленький, но проворный смерчик. Что же он, маленький, устремил в недра душевной прозрачности? Перелезши через эту вопросительную закорючку, очень трудно становится фокусировать мысль на точном ответе, поскольку, оглянувшись назад, понимаешь, что душа в нынешней словесности – либо persona non grata, либо, значительно чаще, – пария, а посему, положа руку на голову, мы отвечаем для наиболее искушённых наших читателей: никто никуда ничего не устремил, не было ни того, ни сего, ни этого, так что нет и повода для выставки словесных картин. Ну а положа руку на сердце, которое всё же бьётся пока, хоть и преодолевая литературную свою нелегитимность, – нежность, отвечаем мы, нежность вструивалась в Петра, и совершенно необъяснимо было, в каких же пóрах и скважинках окружающей реальности скрывалась она до сей поры, из каких же не видимых глазу резервуаров можно было выструивать её со столь изумительной успешностью?
Он недолго кружил по мраморным проходам, то узким, то расширяющимся в каменные полости с каким-то особым, клюквенным, вкусным, затхлым запахом, недолго кружил, заворачивая вправо, влево, проскакивая тупиковые входы, пока не выбрался, нимало не утомлённый погоней, в раздольную залу – просторную, но простую и резко очерченную лиловым, строгим светом, что, пройдя сквозь фильтр широкогрудой тучи, приобрёл весьма сдержанный тон, мимикрирующий под пастель сумеречной тональности. Есть в этом загадка, подумал Пётр, что в самых многолюдных парках и самых густонаселённых помещениях неизменно отыскивается вечно пустующий закуток, чей вычитательный топос, конечно же, сходен с «глазом» урагана. И в этом нужно видеть высшую логику, то есть логику, которая не движется от первоэлементов к первоэлементам, но просто не знает о них, поскольку её озабоченность охватывает без изъятий всё огромное великолепие дня и всю сверхогромную стужу ночи, и вот эта-то логика, прилагаемая Богом к узорам мира сего, ввергает их – видимо, в интересах гармоничности – в отношения экстремальной оксюморонности, размещая любую истину не в центре, но по краям, наделяя наибольшей наполненностью не изобилие, но беспрецедентное зияние даже без намёка на малейший сквознячок внутри, делая как больше, чем что, вставляя, наконец, в средостение бури жемчужину нирваны. Так же, как он схватывал верный путь в лабиринте, Пётр понял, что далеко вокруг никого нет: точность, поступившаяся оригинальностью, сказала бы, что голоса блуждающих в лабиринте людей, так же как и вся симфония залабиринтовых грохотов и кликов, звучали здесь как отдалённый шум морского прибоя. Впрочем, такого рода пустота даже не требует слуха, информируя человека о себе во всей целостности его внутреннего и внешнего тела, так что о нём, о великолепии запустения, одновременно начинают свидетельствовать грудь и затылок, лоб и спина, сердце и ум, пневма и рацио.
– Как ты быстр, – сказала из-за спины без удивления, и у Петра невозможно свело спину, уже было пронзённую горькой молнией радостного ужаса, но вовремя и цепко стиснутую благоразумием в результате некоего акробатичнейшего спецброска.
Он обернулся медленно-медленно, чтобы точностью своих движений компенсировать ту приблизительность + неразбериху, которая мгновенно взошла в его голове, как дурацкое, малахольное солнце.
– А я и не услышал, как ты подошла, – проговорил он с не человеческой, но фельетонной или джокондовой улыбкой, зная, что инъекция банальности гарантированно приглушает сияние самых ослепительных мгновений. О чём же они сияли? Где они вообще раздобыли такое сияние? Не нужно этой лабуды, проговорила она по-прежнему тихо, но с непопрежней твёрдостью, как-то особенно прямо глядя Петру в глаза своими серыми, стального окраса глазами, а его ответ был невпопад, поскольку нельзя отвечать по делу, когда две лапки, настолько точные в своей вкрадчивости, что от их прикосновений человеческая плоть обращается в сгустки тугого, эластичного тепла, прочувствованно, необходимо, с суровой бархатностью и нудительной силой берут тебя за гусиную спину, которую как бы сладко подташнивает, и распластывают твоё сердце, зависшее над какой-то головокружительной бездной, на чужой, мягкой, вибрирующей груди, – и вот когда это происходит, и голова окончательно теряет свою прозрачность, то язык, побуждаемый всё же некими неизвестными Павлову рефлексами говорить что-нибудь во что бы то ни стало, рекрутирует не из черепной коробки, но из дополнительных околочерепных мембран себе на подмогу любую рухлядь и любое самое отчаянное словесное барахло, произнося, например, как тó произнёс Пётр, как странно, мне казалось, что у тебя зелёные глаза, а они у тебя, оказывается, серые
1
Название романа представляет знак идеального круга, которым в философской науке означается пустота, в дзеновской символике – «истинная таковость», «облик реальности» (в японском языке понятие имеет название 円相, энсо). ○ – известный ряду культур символ космоса и метонимический образ Божества. Сам автор для простоты называл свой роман «О» ([о́]) – с оговоркой о многозначности названия.
2
Гомеоптотон – созвучие окончаний, достигаемое за счёт употребления слов в одном и том же падеже.
3
Фактическая ошибка. Поезд №22 Санкт-Петербург—Мурманск не мог прибыть в Санкт-Петербург (в СПб идёт №21).
4
Так в оригинале (очевидно, намеренное словоупотребление).
5
Отрывок из «Истории западной философии» Бертрана Рассела.
6
Образ читающей Олеси в данной мизансцене напоминает известное фото Мерилин Монро с томом «Улисса», раскрытом на финальной («женской») главе «Пенелопа».
7
Dasein – хайдеггеровское понятие, имеет варианты перевода: «вот-бытие», «здесь-бытие», «се-бытие», «существование здесь», «присутствие», «бытие присутствия», «сиюбытность».
8
Если следовать дальнейшей логике романа, то автором реплики о будущем (= из будущего) мог бы быть лишь комбинированный {ВолкПётр[реальный автор романа(?)]}® – см. последнее примечание к тексту романа. В данном случае, однако, повествователь (фиктивный нарратор) всё тот же, отступление про «прошло полтора года» объясняется несколько хулиганским «желанием так написать».
9
На станции санкт-петербургского метро «Проспект Просвещения» жили родители Грачёва и сам он гостил у них неоднократно – и один, и с друзьями.
10
Рудольф Карнап – немецко-американский философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и философии науки. Альфред Тарский – польско-американский математик, логик, основатель формальной теории истинности.