Марк Шагал
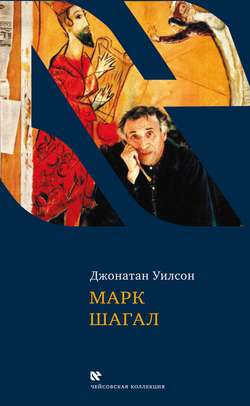
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Джонатан Уилсон. Марк Шагал
Предисловие
1. Витебск
2. Санкт-Петербург
3. Париж
4. Белла
5. Возвращение в Витебск
6. Еврейский театр
7. Берлин
8. Снова в Париже
9. Палестина
10. Вильна
11. Виллантруа, Горд, Марсель
12. Нью-Йорк
13. Вирджиния
14. Оржеваль
15. Проблема вероисповедания
16. Вава
17. Счастье
Эпилог
Благодарности
Библиографическая заметка
Хронология
От редактора русского издания
Отрывок из книги
В 1968 году, когда я учился на первом курсе в университете, у меня в общежитии висел на стене дешевый плакат с репродукцией картины Шагала «Двойной портрет с бокалом вина». Невесомые фигуры – молодой человек и девушка, парящие над русским городком, девушка в белом платье (возможно, свадебном) с соблазнительным глубоким вырезом, юноша в ярко-красном сюртуке, его голова забавно сдвинута по отношению к телу, он улыбается – при взгляде на эту картину у меня возникало радостное восторженно-романтическое ощущение, какое только и бывает в восемнадцать лет. Этот плакат, как мне казалось, вполне соответствовал настроению стихотворения э. э. каммингса, которое начинается так: «где-то, где я никогда не бывал, в недостижимой / дали, твои глаза молчаливые», и фильма «Эльвира Мадиган» шведского режиссера Бу Видерберга о несчастной циркачке. В то время Шагал – этот «скрипач на крыше» – мне не был особенно близок, например, его «Молящийся еврей» – это ведь просто портрет витебского раввина, обвешанного филактериями (лишь позже я узнал, что Шагал считал эту картину своим шедевром), старомодно сентиментальный. Такое может понравиться, думал я, правильно или нет, лишь моим родителям и людям их поколения, которые валом валят на Хаима Тополя или Зеро Мостеля в роли Тевье-молочника. Если б я был богат, я бы купил какое-нибудь «мечтательное» полотно Шагала, навеянное его поездками по французской глубинке, а не, скажем, «Скрипача», где просто сидит на крыше скрипач, – ничего в нем такого особенного, думал я, ничего, кроме ностальгии по давно канувшему в прошлое еврейскому местечку. Но разумеется, я ничего не знал о социальном контексте творчества Шагала и почти ничего – о его жизни. Знал я о нем только то, что и о некоторых других писателях и художниках, с творчеством которых бегло знакомился во время учебы: Кафка, Беллоу, Сутин, ну и Шагал – все они были евреи.
Но вскоре я убедился, что не все ревнители высокого искусства обожают Шагала. Его влюбленные парочки, раввины, громадные букеты и скрипочки весьма двусмысленны, приторны – по их мнению, не китч, но где-то в опасной близости от него.
.....
Как и Шагал, Пэн вырос в хасидском окружении, и неудивительно, что во многих его работах отражен быт этой религиозной общины. И хотя он порой делал портреты по фотографиям, все же Пэн предпочитал писать или рисовать с натуры. По большей части его живописные работы – это технически грамотные и крайне консервативные по манере исполнения натуралистические жанровые портреты: «Портрет еврея» (ок. 1900), «Старуха с книгой (Хумаш)» (ок. 1900), «Письмо из Америки» (1903) не представляют собой ничего необычного. И все же нельзя недооценивать его влияния на Шагала, пусть даже в плане преодоления, а не подражания.
«Н-ну… некоторая предрасположенность проглядывает…» – первое, что сказал Пэн матери Шагала, бегло проглядев его портфолио, состоявшее из картинок, перерисованных из журнала «Нива». Шагал хоть и помалкивал, разглядывая работы мастера, но, как он вспоминает, запальчиво подумал о методе мастера: «Это не мое. А как надо? Не знаю». Шагаловский метод, как оказалось впоследствии, предполагал другую подачу и творческое переосмысление хасидской жизни, хорошо знакомой и ученику, и учителю. В подходе к изображаемому предмету Пэн, получивший строгое академическое образование в духе конца девятнадцатого века, почти не отличался от многих других художников, чьи жанровые бытописательские работы были рассчитаны на восприятие со стороны – на зрителя из внешнего мира. Еврейская жизнь, которую Пэн стремился показать, хотя и являлась довольно смелой темой (в Санкт-Петербургской Академии художеств к студентам-иудеям, как правило, относились настороженно и даже неприязненно, и те старались держаться особняком), едва ли повлияла на его художественный метод. На картине «Купание коня» (1910) мы видим хасида, купающего коня, – и только.
.....