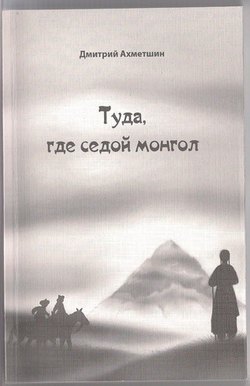Читать книгу Туда, где седой монгол - Дмитрий Ахметшин - Страница 1
ОглавлениеГлава 1. Наран.
Наран проснулся оттого, что снова зачесалось лицо.
Сон упорхнул вверх, к отверстию в юрте, стал одной из звёзд. Мальчик лежал, разглядывая полог и выжидая, пока уляжется зверь, который две минуты назад шершавым и болезненным языком вылизывал его лицо. Небосвод качнулся в сторону рассвета – Наран заметил хвост бегущей собаки из четырёх мелких, похожих на семена мака, звёздочек.
Наконец, поднял руку и как можно более отстранённо, чтобы не почуял зверь, потрогал лицо. Шрамы никуда не делись. Один пересекал щёку и левую глазницу, другой, располовинив ухо, исчезал и возникал вновь безобразными бороздами на шее. Провёл пальцем по единственному усу, бегущему по левой ото рта стороне, словно тоненькая струйка крови. Справа что-то повредилось, и, когда пришло время, волоски там так и не показались. Было время, Наран считал отсутствие одного уса главным своим увечьем – теперь же свыкся, как свыкается хромой от рождения с неспособностью бегать.
Чаще всего зверь приходил в виде крота с морщинистым розоватым телом, покрытым короткой шёрсткой. Крот становился на грудь, когти оставляли под кадыком вмятины, как будто Наран был не из мяса и костей, а из сырой глины. Грудь сдавливало так, будто на неё наступила лошадь. Точно такое же чувство было, когда бешеная лисица едва не вырвала вместе с рёбрами лёгкое.
Из маленькой пасти выпадал неожиданно большой язык. Словно червь, полз он по щекам мальчика, сдирая кожу и впитывая в себя сукровицу, а тот лежал и боялся пошевелиться. Вдруг животному приспичит вцепиться зубами ему в нос?..
Во сне шрамов не было, но по пробуждении он их неизменно находил – старые и уродливые, отчаянно чешущиеся под загрубевшей коркой.
В шатре ещё все спали, и дыхание сна смешивалось с остывающими углями. Наран, как младший сын, не имел пока ещё права на собственный шатёр и потому ютился в семейном, возле самой перегородки, что отделяла мужскую половину от половины для жён и дочерей. Несмотря на то, что был уже взрослым по меркам кочевых племён. Шатёр будет сшит силами аила, когда хотя бы одна жена родит ему хотя бы одного сына.
Пока же у Нарана не то, что сына, – жены не было. В его положении завести её было не так-то просто.
Войлочная постель накопила за ночь тепло, лежать было приятно, и даже насекомые, обычно очень кусачие в начале ночи, угомонились. Страшный сон всё ещё свербел в носу, и Наран решил не закрывать глаз и ещё немного полюбоваться на небо. Осенью, даже когда сезон дождей растает во рту Великой степи, будто спелая ягода или комочек снега, нечасто получается увидеть такое чистое небо.
– Мы, – говорили старики, – дети степи. Наш народ приручает другие народы, чтобы жить с ними в согласии. Народ овец даёт нам шерсть, народ коз и кобылиц – молоко, а жеребцы возят нас на своих спинах. Мы даём им организованность и крепкую руку, на которую они всегда могут положиться.
Наши лица плоские, как степь. Мы и есть отражение степи, мы и есть её любимые дети.
Наран часто думал, что теперь он не похож на дитя степи. Мама-степь не может быть так уродлива, её не могут пересекать столько оврагов и пучить, как живот больного младенца, столько всхолмий. Плавного течения её рек не вправе нарушить никто. Она не может вонять гнилым мясом.
В первые дни после несчастья Наран думал: может, мама-степь не примет его обратно, и быстрый конь скинет его на землю. Или коршун выклюет второй глаз, и аил бросит его умирать. Но ничего такого не случилось.
В степи главным хищником был человек, на быстроногих конях носился он по её бескрайнему покрывалу. И ни один зверь не осмеливался подойти к грозным юртам, о которые спотыкался даже ветер, а солнце почтительно короновало их тенями, похожими на высокие меховые шапки.
Однако лисица, которую ради забавы решили загнать несколько мальчишек, об этом не знала. Поначалу охотники действительно видели только её хвост, рыжий с белым кончиком, и уже примерялись, кто ловчее может за него ухватить. На троих у них имелся тупой нож в ножнах и две палки, одна из которых была «счастливой», поскольку Наран сбил ей двух или трёх странников-голубей. Это слово он вырезал на палке, а ещё сделал отцовским кинжалом удобную ручку, а ещё пустил по всей её длине простой узор, похожий на след, который остаётся в траве от убегающего зайца.
Лисица, обежав куст орешника, кинулась на своих преследователей. Друзья бросились врассыпную, побросав оружие, а Наран, не успевший сообразить, почему вместо лисьего хвоста перед лицом щёлкают клыки, грохнулся на спину.
Сначала она искусала руки. Кровь брызгала лисице на грудь, залила ей все уши и оставила капли на языке в глубине раззявленного рта. Потом метнулась к груди, разорвав одежду и раскорябав до мяса всю правую половину тела. Может быть, её привлёк стук сердца, может быть, хриплое дыхание. Наран заорал, и тогда она вознамерилась откусить ему язык, но промахнулась, и мальчик лишился уха, от которого остались только лоскуты.
Возможно, брат Тенгри, бог шутих, отметил тот ореховый куст какой-то своей меткой, потому как один из мальчишек, бросившийся было в слезах наутёк и случайно наткнувшийся на гибкие ветки, развернулся и через миг голыми руками уже отдирал лисицу от Нарана.
Животное, словно сообразив, что эти двое несколько покрупнее полёвок, скрылось в кустах. Наран лежал до тех пор, пока друзья не привели помощь. Когда-то здесь прошёл табун, и под жухлой степной травой, под мелкими белыми цветами ромашки под лопатки ему вдавились отпечатки копыт. Наран навсегда запомнил это ощущение: жёсткая, уродливая, как карлик, земля под мягкими ромашками, и ты совсем не имеешь сил с неё встать или хотя бы чуть-чуть подвинуться.
Мальчик лежал и чудом уцелевшими глазами смотрел в небо. Было ясно, и ветер выскреб его, как воин своё оружие перед боем, от самых крошечных облаков, заточил солнечными лучами. На точки он поначалу не обратил внимания. Может, тот же ветер несёт в вышине из далёких краёв листья. Но больно странен их полёт… кружат и кружат над ним, две, нет, четыре точки, вот они приблизились и стали крестиками. Грифы.
Наран захотел зажмурится, но с веками его что-то сделалось, так, что он не мог даже моргнуть. Если сейчас не придут взрослые или не вернутся друзья, падальщики расклюют ему лицо. Проделают своими, похожими на топоры, клювами в черепе дыру и будут клевать мозг. И воспоминания так же, по кусочкам, будут исчезать. Их растащат по разным уголкам степи птицы…
Прошла долгая, размазанная по предзакатному небу минута, и мальчик услышал хлопанье крыльев прямо рядом с собой. Двое ещё кружили, примериваясь ухватить землю когтями, а двое уже здесь, из клювов их разит гнилью. Наран сделал попытку пошевелить руками, но смог только приподнять кисть, зато рот наполнился рвотой. Трава беспокойно зашевелилась, и гриф отпрыгнул, движениями – ну точь-в-точь большой жирный перепел, но сразу же подскочил ближе, разглядывая свою жертву то одним глазом, то другим. Чуть поодаль опустился чеглок и принялся склёвывать оставшуюся после схватки на траве кровь – Наран стал наблюдать за ним уголком глаз, потому что следить за падальщиком было слишком страшно.
Мир вдруг зашатался, степь будто одеяло, с которого вздумали стряхнуть сор. Звук прокатился внутри черепа, как крик внутри тесного шатра. И только потом их, своих двух посыльных коней, догнала боль. Мальчик попробовал заорать, но только захлебнулся рвотой. Он видел голову грифа прямо над собой, облезлую и свалявшуюся шерсть на голове, маленькие чёрные глазки и такие же точки-ноздри. Вонь ударила по ноздрям, и он смог наконец закрыть глаза.
Это движение, единственное, в чём повиновалось тело, произвело неожиданно сильный эффект. Было слышно, как птица отпрыгнула, как тяжело захлопали крылья. И только потом до Нарана докатился стук копыт и возбуждённые голоса. Казалось, звук шёл не из воздуха, а из земли, проникая в голову через макушку.
Наран видел грифа в воздухе всю дорогу, пока его везли на спине коня в кочевье. Конь чувствовал запах крови, пыхтел и рвался с поводьев, но взгляд и остатки внимания мальчика были прикованы к птице. Его же он видел через отверстие в юрте шаманов, когда лежал неподвижный и закутанный в одеяла, с компрессами на лице. Вновь и вновь обращал взгляд к небу и надеялся, что хищник наконец оставил его одного. Но потом круглое окошко-дымоход перечёркивал стремительный полёт, и Наран отворачивался с тем, чтобы вновь с надеждой выглянуть во внешний мир через некоторое время.
Может быть, испробовав крови, этот падальщик решил, что они двое связаны навечно.
На четвёртый день у Нарана вытек левый глаз. Словно молоко из треснутой чашки или озеро, берега которого подпортило засухой. Этот глаз видел всё хуже и хуже, Нарану казалось, что он видит куда лучше сеточку голубых капилляров, чем то, что за ней, и наконец всё исчезло совсем.
Мама сидела рядом, не отходя ни днём ни ночью, её сёстры носили вымоченные в проточной воде компрессы и прикладывали целебные травы. Щёку зашивали нитками, вытянутыми из конских сухожилий. Ради этого пустили на мясо лучшего жеребца его отца, горного верхолаза редкой в этих краях породы, который должен был принадлежать, когда мальчик подрастёт, Нарану.
– Это был хороший конь. Потомок тех коней, которые ходят по горным тропам наравне с дикими баранами и смотрят в глаза Тенгри. У него самые крепкие и самые толстые жилы, ни у одного из наших степных коней такого нет. Это был мой любимый конь, но ты – мой любимый сын. Пусть теперь всё это будет в одном теле.
Отец говорил, что теперь у Нарана будет сила жеребца. Что он сможет перекусывать и гнуть зубами железо, а питаться в походе ковылём. Что он сможет бежать без устали три дня и две ночи. Что горы он сможет перескакивать с той же лёгкостью, что и ручейки.
На второй день начала слушаться челюсть. Язык осмелел и стал выползать из своей норки между уцелевшими зубами. На груди образовалась твёрдая, как рыбья чешуя, корка, которая сошла только через два месяца.
Когда Наран набрался достаточно сил, чтобы подняться с войлочной постели, миновала зима. Настал период одурелых птичьих криков, разлившихся ручьёв, когда рыба, отродясь не водившаяся в тонких, как хвост трясогузки, степных речках, выпрыгивала из воды, чтобы блеснуть на весеннем солнце обновлённой чешуёй.
Как-то изменилось отношение к нему и у взрослых, и у детей. Получить шрам в схватке с диким зверем считалось почётным, но если ты ребёнок и у тебя половина лица в таких рубцах… Друзья-приятели его теперь побаивались, хотя с радостью бы, наверное, взяли в любую свою игру. Вот только Нарана не тянуло к детским играм.
Взрослые всё чаще звали его к костру. Отец сажал к себе на колени, водил пальцами по зажившему обрубку уха. Когда отец был на охоте или же в дозоре, Наран всё равно коротал вечера у общего костра. Как пересохшая земля впитывал россказни взрослых, считал, что тихо робеет в их обществе, сидя на коленях у отца или за спинами монголов, на самом краю света и тени, где власть чахлого степного костра сходила на нет, но скоро понял, что никакой робости, свойственной мальчишкам перед взрослыми мужчинами, не испытывал. Напротив, они испытывали перед ним скованность.
Падальщик клюнул его в висок, и позже, когда шрамы зажили, Наран мог нащупать там большую отметину. Шаман, который зашивал ему раны, сказал:
– Просто удивительно, что ты не лишился обоих глаз и остался жив. Это знак Тенгри. Грифы стараются сразу выклевать глаза и добраться через глазницы до мозга. И даже гиены, живущие в пустынях на западе, суть дикие собаки, пытаются сразу перегрызть жертве горло.
Он рассматривал отметину, и кончики усов щекотали Нарану шею.
– Какой знак?
– Кто знает? Ты должен разгадать его сам.
– Я должен был быть съеден заживо, – сказал Наран. Спохватился и задавил в голосе плаксивые нотки.
Шаман выпрямился, украшения на его шее многозначительно звякнули. Он улыбнулся, и Наран увидел застрявшие с обеда в просветах между зубами волокна мяса. Зубов у него осталось всего ничего: четыре сверху и что-то около того снизу. Шаман уже достаточно старый, и Нарану подумалось, что по наслоившейся еде можно посчитать его возраст.
– Мы достаточно задабриваем Тенгри. Мы даём его идолам много жертвенного мяса, совершаем ежедневные поклонения. Сейчас уже не то голодное время, когда приходилось выбирать, отдать ли кости предпоследнего барана Тенгри или накормить двух умирающих женщин. Не-ет. Сейчас он не даст погибнуть сынам своего племени.
Наран вспомнил позапрошлую зиму – самую страшную зиму в его жизни и в жизни многих молодых из аила. Солнце не показывалось из-за туч целыми месяцами, с самой ранней осени, так, что дети помладше спорили, круглое оно, или же квадратное. А совсем маленькие слушали рассказы стариков о белом глазе Тенгри, раскрыв рот, как будто сказки. Было очень холодно. Из под снега давно уже всё было выедено, овцы и другой скот тощали без еды, но аил не смел тронуться с места. Потому что знали: тронутся – замёрзнут в дороге насмерть. Стоило выйти из шатра, как начинала стыть в венах кровь. Пока имелось чем жечь, жгли круглые сутки костры, а потом начали расширять входы и заводили прямо внутрь коней, чтобы можно было греться их теплом. У лошадей, что слабли настолько, что не могли больше даже стоять, резали жилы на шее и выпивали ещё горячую кровь.
За одну зиму стадо уменьшилось с сотни голов до четырёх десятков.
Мальчик не осмелился спросить шамана: с чего вдруг Тенгри решил пожалеть мальчишку, если совсем недавно не щадил ни людей, ни животных, настолько уверенный был его тон, настолько властные жесты.
Вместо этого Наран спросил о грифе. Их много носилось в безграничном пространстве над степями, и нельзя было взглянуть в небо без того, чтобы не увидеть одного какого-нибудь, кружившего у самых усов великого Бога.
Наран не знал только, тот самый ли это гриф или какой-то другой, и следит он вовсе не за ним.
Шаман взялся за кончики своих усов и задумчиво потянул их в разные стороны. Усы у него пышные, словно конские хвосты, и если бы шаман не был шаманом, что само по себе уже предмет для гордости, он гордился бы этими усами.
– Видишь ли, память у них устроена так, что складывается из частичек воспоминаний тех, кому он выклевал мозг. Таких мелких, как семена мака. Поэтому старые грифы часто забываются и начинают подражать коровам или лошадям, или мышам с кроликами. Или даже вести себя как люди. Ни одна из старых птиц не умирает своей смертью – всё либо от зубов степных собак, либо под копытами лошадей, когда пытаются затесаться в табун.
– Значит, он теперь помнит то же, что я?
Шаман взглянул на мальчика с иронией.
– Твои мозги, вроде бы, на месте. Этот гриф улетел в тёплый край, мальчик мой, к своему большому брату – Пустыне, которая даже зимой прокормит его мёртвым тушканом или сломавшим ногу верблюдом. Обратно он вернётся, но про тебя уже не вспомнит. Это не очень хорошая новость, если ты жаждешь мести, правда?
Наран помотал головой и ничего не сказал.
Небо в отверстии стало светлее, а угли, напротив, съёжились, словно от холода, и распушили белую шёрстку пепла. Хорошо было бы посмотреть, как Тенгри откроет свой один глаз, и закроет второй – белый, и без того уже наполовину прикрытый веком. Редко когда верховный Бог наблюдает за ночным миром пристально и неусыпно, чаще всего жмурится в полудрёме, слушая дыхание спящих и шорохи ночных существ.
Наран потянулся к завязкам шатра, но остановился на полдороге. Незачем выпускать тепло. За это ему спасибо не скажут. А между тем, этот день он должен провести так, чтобы не запомниться никому ничем дурным. Даже такой мелочи, как толика тепла в этом промозглом предутреннем мире, стоит уделить внимание.
Зверь угомонился, ушёл вместе с остатками сна, волоча за собой свой крошечный кротовий хвостик. Вот уже семь лет, как Наран носит на себе эти шрамы. Может, когда-нибудь удастся к ним привыкнуть, думал он пять лет назад. Три года назад его снедала злость. Думал, очень трудно с таким украшением найти себе жену. Он вырос среди эти людей, и они относились к нему с пониманием до тех пор, пока не приходили от его отца за их дочерьми сваты.
Год назад он решил: настанет время, когда я уйду из аила и спрошу обо всём самого Тенгри. Не этих бестолковых идолов, у который в голове один большой пук травы, такой, что сухие стебли вылезают прямо изо рта, и не шаманов, которые подливают ему тёплого молока жалости, но и на миг не приближают к истине.
А вот теперь подумал: дальше тянуть уже нет сил.
– На севере, – говорили старики, – спина Йер-Су, матери-земли и первой кобылицы, покрывается болезненной коркой. Было время, когда степь простиралась и туда, но потом Тенгри, её всадник и любовник, решил проехаться верхом, посмотреть, как красиво низвергается водопадами вода с края мира. Дорога была дальняя, и на обратном пути от седла появились первые раны. А за ночь большие небесные оводы раскусали их ещё больше, до самого мяса. Рубцы эти заживают тысячелетия, и Йер-Су уже никогда не будет такой же красивой, как раньше. Гряда их тянется, доходили слухи, на север всё дальше и дальше, и только мистическое море, такое холодное, что целые глыбы льда плавают там, когда-то встаёт на их пути. Земля там кричит от боли, и где-то посреди этой болезненной корки можно найти торчащие наружу земляные кости.
Небо чаще, чем куда-либо, обращает туда своё лицо. И лицо его в эти моменты хмурится, и брови-тучи наползают на голубые глаза. Он обдувает землю ветрами, лечит её солнечными лучами.
«Наверное, моё место там», – думал Наран. – Я такой же изуродованный, как степь. Здоровое – ко здоровому, а больное к больному. Это естественный ток жизни».
Он думал и по-другому.
– Может быть, там я смогу поговорить с Тенгри, – говорил он своему другу, когда они вдвоём, бывало, уходили к табуну, посмотреть на лошадей, смерить следы копыт своими ступнями и отдохнуть от суеты аила.
Друга звали Урувай, и больше всего он походил на пузатого грызуна в середине осени, когда задняя и передняя его части несоразмерно разные. Серая шёрстка покрывала руки, а на груди, бывало, застревали ниточки и ворсинки от войлока. И даже привычка складывать руки на животе, казалось, досталась от какого-то животного. Вечно робкое выражение на лице, белые, трясущиеся губы. Урувай выделялся на их фоне поджарых ловких сородичей ростом, размерами и неповоротливостью. С потрясающей непосредственностью он разливал драгоценную воду и робко улыбался потом, когда его бранили, падал с лошади так, будто это самое доступное из его развлечений. Получал по своей неуклюжести раны и смотрел потом на них со смесью страха, любопытства и восторга.
На речи приятеля Урувай жал плечами.
– На это есть шаманы. Твоя работа – всегда быть готовым натянуть лук, на зверя ли или на какого врага. Твоя забота – высекать искры копытами своего коня.
Наран улыбнулся: друг часто говорил так, как будто его устами вещают умершие песняры древности. С самого детства. Это звучало очень забавно. Каждый вечер он, подыгрывая себе на разных инструментах, рассказывает возле костра сказки и предания и весь следующий день говорит словами из этих сказок. Может быть, когда-нибудь сам станет слагать песни. Опишет в них тяжёлую жизнь аила… и грядущее путешествие, в которое вот-вот сорвётся один маленький степной кот.
– Что, по-твоему, скажут старые? У нас мало людей, а ты хороший охотник.
Наран сидел, свесив между коленями ладони.
– Аилу не будет от меня никакого толку. Рано или поздно какой-нибудь дикий зверь завершит начатое той лисицей. Или я погибну в походе. Или меня унесёт река. И тогда все вздохнут с облегчением, хоть и будут для убедительности размазывать по лицу слёзы. Скажут: «Небесный завершил то, что не доделал десять зим назад. Это должно было случиться. Да. Должно было».
Урувай правильно истолковал интонацию в голосе приятеля. Он вскочил, и лошади шарахнулись от него в стороны.
– Я не позволю!.. Да и кто тебя отпустит! А? Кто? Или уйдёшь, как крыса, ночью, собрав в мешок еды и украв коня?
– Послушай меня, друг. Сядь и послушай.
Урувай уже успокоился. Он всегда вспыхивал и угасал быстро, словно костёр на сильном ветру. Уселся. Наран, вскочивший было следом, опустился напротив, поджав под себя ноги. Сначала указал пальцем на живой глаз, потом, для пущей убедительности, оттянул изуродованные веки.
– Я вижу вот этим глазом земной ковыль. Но вторым своим глазом я вижу ковыль небесный. Гриф целился не в глаза, но глаз мой всё равно унёс в своём зобе.
– Но твое сердце здесь, в аиле, – спокойно возразил Урувай.
Это был серьёзный довод. Тем не менее Наран помотал головой.
– Моё сердце горячее и молодое, а лицо – старика. Я хочу отправиться туда, где седой монгол греет руками раны своей возлюбленной. Откуда духи по имени «эхо» доносят твои слова и слёзы до самого Неба. Поэтому там можно говорить только правду, иначе тебя на месте убьёт молнией. Хочу просить Тенгри, чтобы он вернул мне прежний облик. Или, – Наран тайком оглянулся: нет ли рядом идолов? – чтобы забрал в свои небесные степи насовсем, потому что здесь мне не место. Понимаешь?
– Я буду плакать, когда ты уйдёшь, – сказал толстяк.
– Я отправлюсь в большое путешествие. Пойми, я чувствую, что тропы, которыми следует аил, больше не мои тропы. Там нет отпечатков ног моего коня.
– Ты такой уверенный. А я? Что я буду делать?
– Можешь отправиться со мной. Кочевье как-нибудь переживёт без твоих песен.
Урувай всплеснул руками. Посмотрел на ладони и вытер пот о бёдра.
– Давай поговорим об этом ещё раз завтра. Нет! Мы поговорим об этом послезавтра. Хотя лучше бы никогда. Я не хочу терять друга, но я не хочу терять и дом. Почему меня заставляют делать такой жестокий выбор? Кто его придумал? Не Верховный ли Бог?
Он опрокинулся на спину и затряс руками над лицом.
– Кто мне ответит?
– Он сам и ответит, – сказал Наран с улыбкой. – Поехали со мной, и ты тоже сможешь спросить, за что тебе дан такой жестокий выбор.
Урувай уронил руки.
– Я лучше спрошу у шаманов.
Наран выставил вперёд палец.
– Не смей. Если ты так поступишь, всё, что тебе останется – оплакивать нашу дружбу и скорбеть по ней, как по отбросившей копыта кляче.
На том закончился их откровенный разговор. Было самое начало лета, время для путешествия самое удачное, но тогда Наран так никуда и не тронулся. Идея отправиться в путь вызревала в нём и наливалась соком, как семечко ковыля. Его пробовали на прочность ветра, дёргая за волосы и бороду, пробовала на прочность земля, пытаясь выпить все соки обратно.
И вот теперь, в день начала настоящей осени, когда кончился сезон дождей и степная трава выцвела до равномерно-бурого оттенка, идея вызрела до самой сердцевины.
Наран больше не смог заснуть. Он дождался, когда дыхание спящих превратится в сонное предутреннее покряхтывание и зевки, и первым выбрался наружу.
Было уже светло. Вокруг стойбища бродили кони, и мальчишки сгоняли их в табун. Были слышны их резкие крики, да звук рассекающих воздух прутиков. Где-то раздували смоченные росой угли, из шатров вытаскивали просушенный навоз – лучшую пищу для огня. За две недели шатры, казалось, вросли корнями в землю, и земля пустила в них корни, пронизав войлочный пол травой и пропитав приятным запахом своего рыхлого чёрного тела. Шатры будут стоять здесь всю зиму, до тех пор, пока сошедший снег и просохшая под весенним солнцем земля не позволит им двинуться дальше; детские игры, лёгкие прикосновения женских стоп и внушительные шаги мужчин уже превратили колкую траву, достающую иногда до самых бёдер, в мягкий естественный ковёр. На каркасах из прутьев вокруг кострищ сушилось мясо и нанизанная на конский волос рыба, оттуда шёл одуряющий запах. Этим мясом аилу предстоит питаться всю зиму, лишь изредка позволяя себе немного молока или живой горячей крови. Животных требовалось беречь, потому что без стада людям грозит неминуемая голодная смерть.
Под навесами сложены сёдла и верёвки-уздечки, и Наран пошёл проверить, как нежная кожа перенесла ночь. Под утро принялся моросить запоздалый дождь.
Следом за Нараном из шатра появился его старший брат, Таратар. Он зевнул, похлопал себя по животу, оглядывая окрестности и размышляя, стоит ли ему принимать новое утро улыбкой или лучше рассердиться на него за сырость земли и разболевшийся зуб. В конце концов, он поймал лицом солнечные отблески, сладкие, как ягодный сок, и снисходительно пробурчал себе под нос молитву духам.
День обещал быть хорошим.
– Эй, мелкий! – крикнул он. – Что ты там делаешь? Нужно развести огонь.
– Сёдла в порядке, – отозвался Наран. Он исследовал изнанку каждого седла, поднял крылья и внимательно проверил на предмет плесени.
Брат пробурчал что-то наподобие «Ярад» и ушёл в сторону выгребных ям – оправляться.
Таратар был главой их семейства, умелым охотником и храбрым воином. Хотя на их жизни войн не выпало, старики считали, что, например, полвека назад, когда ужасающая жара выплеснула в степи темнокожих южан, вооружённых отделанными золотом копьями и луками, он дрался бы за каждую пядь земли, как тигр. Правда, даже тогда войны не получилось. Южане поискали в степях города, которые можно было бы захватить, и, не найдя, отбыли восвояси. Те, кого не убили лошадиные оводы и змеи. Отца не было на свете уже три года, и прах его давно уплыл с дымом в небесную степь.
Наран смотрел на прямую спину брата, на широкие голые лопатки и пятки, загрубевшие до крепости лошадиного копыта.
Их народ зародился в чреве земли, получив от неё плоть, состоящую из мышц и костей, гордую осанку, черты лица, будто бы вылепленные из размоченной глины руками, и взяв от неба самую малость – пронзительно-голубые или серые глаза и волосы, в которых, как верит всякий обитатель степи, заключено стремление повиноваться ветру и следовать за ним, куда бы он не повёл. Каждый, кто острижёт волосы, мгновенно теряет всякую волю к передвижениям, вообще – всякую волю, и уподобляется цветку, который живёт только до первых холодов, а потом так же покорно принимает смерть. Отросшие волосы по давнему обычаю заплетали в косы и опускали на плечи.
– Хорошее сегодня солнце, – сказал Урувай.
Крупное его тело забрано в лёгкий халат, слегка расходящийся на боку и трещащий при каждом вдохе. Пояса не было, на розовой щеке ещё сохранился след от подушки. Руки испачканы в навозе. Никакую другую работу утром ему не доверяли, да и здесь нужен был глаз да глаз: половина драгоценного топлива рисковала затеряться в траве. Шатёр Уруваева семейства стоял чуть дальше, возле ручья, отличался от остальных искусной, правда, весьма пообтрепавшейся вышивкой сцен кочевой жизни и погона лошадей. Заправлял там грозный его дед, седоусый и с постоянно трясущейся головой, один из старейшин аила. Даже отец Урувая в своё время был у него на побегушках. Семейство Нарана по сравнению с этим древним и почётным родом было очень маленьким.
Наран кивнул. Сказал вместо приветствия:
– Сегодня. Я решился.
Урувай побледнел и, встряхивая кистями и причитая, побежал прочь. Наран отправился заниматься костром.
Поздняя осень – не лучшее время для начала путешествия. Даже для конца путешествия не лучшее: все места для зимовки уже заняты и приходится или проситься к кому-то в аил, или занимать неуютные, продуваемые всеми ветрами, заболоченные стойбища, где до воды придётся ходить по хрупкому льду, а лошадям – вытаскивать из промёрзлой земли луковицы кизила и репейник.
До весны Наран ждать не собирался. Оборвались какие-то корни, связывающие его сердце с аилом, со всеми этими людьми, и Наран получил возможность унести его с собой. И не собирался больше терять ни дня, несмотря на то, что это сердце начинало колотиться от страха каждый раз, стоило подумать о дороге и об одиночестве.
День прошёл так же, как и две недели накануне. Считали лошадей (их получается всё время разное количество, но до тех пор, пока цифра эта больше, чем накануне, беспокоиться не о чем), планировали большую охоту назавтра. Женщины подшивали к зиме шатры, мужчины, расположившись кружком на траве, откуда солнце уже выпарило влагу, делали составные жердины для новых юрт и жевали вчерашние и позавчерашние новости. Иногда бубнёж сходил на нет, и тогда над их кружком поднималась хромая и нестройная, но очень душевная песня.
Детей отправили на пастбища, собирать топливо для костра и ягоды к ужину. Над шатром шаманов курился дымок, и под нестройный ритм барабанов оттуда слышались протяжные напевы.
Наран просился почистить и вычесать лошадей, чтобы удалиться под этим предлогом подальше от посторонних глаз и заняться своим Бегунком, которому предстоит пробежать самый длинный и самый трудный за всю его короткую жизнь путь, но брат отправил его таскать воду.
Там, возле ручья, и нашёл его Урувай.
– Я иду с тобой.
Наран с неприязнью смотрел на ручей и морщился, когда особо ретивые брызги оставляли холодные поцелуи на изуродованных щеках. Опускать руки в ледяную воду не хотелось. Разуваться, чтобы подобраться к воде, не хотелось тоже. Вообще, по аилу положено ходить босиком, но земля с самого утра щипала его за ступни то листом крапивы, то камешком, словно услышала, что с сегодняшней ночи дотянуться до его ног будет очень непросто, и решила отыграться заранее. А кроме того, он ведь действительно готовится к походу, так почему бы не разносить сапоги заранее…
– Ты сказал кому-нибудь?
– Нет. Дедушка спросил, зачем я собираю тёплый халат, и морин-хуур, и свою красную шапочку. Я сказал, что хочу исправиться и собираюсь к весеннему кочевью немножко заранее. Чтобы, когда появится свежая трава и первые одуванчики, не задерживать родственников.
Наран хмыкнул. В любых сборах Урувай был тем, кто умудряется оставить половину вещей валяться на траве, а другую половину – погрузить не на ту лошадь. У любого кочевника способность наводить в вещах порядок сидит глубоко в крови. У Наранова друга глубоко в крови сидит способность обувать на ноги не те сапоги и замечать это только к вечеру.
– Он, должно быть, подумал, что это хороший знак.
Урувай смущённо улыбнулся.
– Дедушка сказал, что мне следует уже начать искать своего коня.
Наран засмеялся и пнул кадку.
– Пожалуй, и вправду стоит. Сегодня батя Ахнар празднует свой очередной седой волос. Будет веселье, после кислого молока всех разморит и потянет в сон. Не думаю, что кто-нибудь будет способен ругаться сильно в таком состоянии. Мы выедем в ночь или ранним утром.
В большом шатре жил старейшина с пятью жёнами. Батя Анхар – старейшина самого большого семейства – в прошлом не раз ходил в походы на восточные кочевые племена, на урусов и арабов. Руководил он строго, и сейчас не потерял ещё собачью хватку и нюх на верные решения.
В мирные времена нюх этот проявлялся в способности в нужное время учинить пирушку, найти для неё повод, чтобы в глазах духов и предков это не было пустопорожним переводом продуктов, и созвать не только своё семейство, но и всех мужчин родного аила. На любом совете слово бати Анхара было решающим, а когда он говорил, замолкали даже собаки за стенами шатров. И сейчас Наран собрался сказать о своём уходе именно ему.
Вокруг шатра бати Анхара целыми днями мельтешили дети, будто осы вокруг земляного гнезда, и никто не мог понять, включая, наверное, и самого старосту, какие из них его, а какие чужие. И число детей, которые укладывались спать там каждый вечер, всё время было разное. Старейшина не был таким уж старым, и вчера вечером у него появился десятый седой ус.
По этому поводу в его шатре собрался почти весь аил. Закололи нескольких баранов, достали обескровленное мясо, что возили долгое время под сёдлами, ожидая, пока из него вытечет вся жидкость и пока оно пропитается конским потом. Ковры отодвинули к стенам, скатали из них лежанки и сиденья, а прямо на полу вольготно раскинулся стол. Разложена на блюдах конина, дымит в высоком чане мясная похлёбка, тут же молоко и ягодный сок в кувшинах. После такого пира любой монгол сможет обходиться без еды следующие двое суток. Скорее всего, так и будет, поэтому мужчины ели от сердца и не было такого подбородка, что не измазан бы был соком.
Костёр посреди шатра довольно гудел, выбрасывая в небо всё больше искр и с аппетитом набрасываясь на кости, что с поклоном клали на краешек его трона.
Наран дождался, пока все соберутся и утолят первый голод. Батя был в хорошем расположении духа, шутил, общался на возвышенные темы с шаманом и ковырял в зубах длинным ногтем.
«Пора!» – решил Наран. Повсюду он видел знаки. Вон дети носятся мимо, как листья, будто бы здесь уже зародился первый весенний ветер, и отсюда, из этого шатра, он распространится по всей степи, преодолевая зимнюю стужу.
Он поднялся, выбирал из халата сухие травинки, в то время, как мало-помалу затихали разговоры и все взгляды обращались к нему. Если человек стоит долго, значит, ему есть что сказать. Молодые не имеют права привлекать к себе внимание, они могут только стоять и ждать, когда им это внимание даруют. Но такие, как Наран, редко брали слово, и через минуту установилась тишина.
Когда он почувствовал, как от напряжения дрожит под ногами земля, слова полились потоком и их было уже не остановить.
– У меня только что появился одиннадцатый седой волос в усах, – хмуро сказал батя Анхар. – Я предлагаю отпраздновать и это тоже. Но понимаешь ли ты, что две рабочих руки – серьёзная потеря для аила? Кто будет вести твоих коней, когда ты уйдёшь?
Батя Анхар был маленьким, жилистым монголом с большим плоским лицом. На этом лице с поразительной подробностью отображались эмоции и мысли. Тонкие аккуратные усы висели чуть ниже подбородка, и, глядя на них, любой понимал, зачем Анхару понадобилось чествовать каждый седой волос. Волос там было не так уж и много. Десятый свисал справа ото рта, и был аккуратно подвязан синим шнурком. Глаза раскосые и внимательные, будто две рыбные косточки.
Он поднёс ко рту чашу с брусничным соком, во второй руке ожидала своего часа и капала соком на халат баранья лопатка. Наран следил за руками бати Анхара. Кисти похожи на головы птиц на длинных шеях, и движения их от стола ко рту – как будто кормят в гнезде птенца. На правой руке не хватало мизинца.
– Я тоже иду! – пискнул Урувай.
– Кто там ещё идёт, – проревел старейшина, вмиг растеряв всю обстоятельность, и отбросил от себя полуобглоданную баранью кость. Не вытирая рук, упёр их в бока. – Покажись!
Толстяк поспешно поднялся, качая подбородком и словно раздумывая, не отвесить ли на всякий случай пару поклонов. Или с десяток.
– Я не навсегда ухожу, – торопливо сказал он. – Я провожу моего друга и вернусь. Он хороший, и я не хочу бросать его в степи одного…
– Не желаю ничего слышать, – сказал старейшина, и вытянутая для расслабления в сторону нога его задёргалась от тика.
Наран скосил глаза туда, где сидел в окружении своих сыновей дед Урувая, и ухмыльнулся про себя. Рот открыт, словно отказала какая-то мышца, по пышным усам, кое-как закрученным в косы (с тем же успехом можно было бы попытаться приручить жёсткий валежник), струится молоко.
Урувай шажочек за шажочком отступил за спину приятеля. Тело у него неповоротливое и большое, но шажочки остались самыми детскими, которые Наран видел у взрослых мужчин. Он пытался спрятаться за худощавого Нарана, но полностью это никак не получалось. Вот пытается убрать руку, пригнуть голову, чтобы не торчала над шапкой, подвинуть нужным образом ногу. Втянуть живот. Наран слушает тяжёлое дыхание. Сначала всё по очереди, потом одновременно, и в результате довольно громко пукает. Щёки и лоб наливаются краской, будто бы там, в голове, перебили какую-нибудь артерию, по шее струится пот. Но его промах всё равно никто не замечает: Наран прошит взглядами, словно иглами, и кажется, что если вдруг подожмёт ноги, то останется на них висеть.
– Ты оставляешь нас совсем одних, Наран. Мужчин никогда не бывает достаточно. Кроме того, – батя поёрзал, устраиваясь поудобнее, но новое положение тела ему тоже не понравилось, и брови поползли вниз. – Кроме того, зима наступает. Перед зимой мы беспомощны и медлительны, как улитки. Со всеми юртами, со всеми женщинами и жеребятами, и повозками… А вдруг что! Вдруг придётся сняться с места и ехать… Ае! Ты соображаешь, что делаешь? Без нашего костра ты околеешь насмерть, и, чтобы добыть твою кровь, диким зверям нужно будет самим разводить костёр.
– Я должен отправится в странствие. – Наран медленно водил глазом по собравшимся. Оба его брата были здесь, и он остановил взгляд на каждом, пытаясь расколоть каменные лица. – Я слышу голос в моей голове, который говорит, что я должен ехать.
Никакой голос в его голове не звучит, но небольшая ложь не помешает. Наран быстро взглянул на старшего шамана. Старший шаман отвёл взгляд и принялся терзать кусок конины, раздувая щёки и показывая гнилые зубы.
– Посмотри, батя! Всё написано на моём лице. Надо мной до сих пор кружит тот стервятник, что должен был склевать мне мозг семь зим назад. Может, я паду по дороге, и тогда круг замкнётся. Всё встанет на свои места. Что бы я не начинал, всё сочится сквозь пальцы, как вода. Огонь кусается, а если что поручают сделать, всё валится из рук.
– Это правда, – подал голос шаман. – Этой весной я поручал ему забить хромого жеребца и добыть кости. Он пришёл ко мне и положил нож к ногам.
Староста поднял брови.
– На ноже даже не было крови, – продолжал шаман. – Он не забил лошадь. Хромой жеребец от него убежал!
– Почему ты не сказал об этом мне? – поморщился батя. – Я бы дал ему плетей. Теперь уже поздно, он ничему не научится.
Это напоминание произвело какую-то перемену в Наране.
– Меня затошнило, и я дал тому жеребцу уйти. Хлопнул его по крупу и сказал ему, чтобы он бежал так быстро, как позволяла хромая нога.
– Он ушёл? – спросил староста шамана.
Шаман, похожий на цыплёнка куропатки с большой головой на тонкой шее, покачал головой.
– Я послал с ножом Мимира, и Мимир нашёл его в стаде.
– Видишь? Ничего не изменилось от твоей добродетели. Жеребец всё равно отдал кровь аилу, а ты заклеймил себя, как малодушный. Теперь я должен принять тебя в услужение, чтобы учить уму-разуму – или выпроводить. Вижу, ты сам хочешь второго.
Батя Анхар замолк, взгляд его пошёл бродить по столу. За спинами взрослых женщины ловили детей, чтобы уложить их спать. Снова послышалась обстоятельная речь:
– Я не мудрый старик и не шаман, но я всё равно дам тебе поучение, которое вертится на языке. Ты должен прикладывать свою доброту так, чтобы она давала плоды. Пустая добродетель хуже злобных мыслей, потому что даёт ложную надежду с одной стороны и покрывает всё туманом с другой. Ты идёшь и думаешь: крови на этом ноже сегодня не будет и за это Йер-Су должна благодарить меня. Жеребец думает: меня не будут колоть и моё сердце останется при мне. И он будет в два раза сильнее кричать и рваться с повода, когда придёт другой человек с ножом, потому что один раз уже родился заново.
Наран молчал. А потом опустился на колени и вдохнул истоптанный ногами войлок. Единственный оставшийся ус его подметал пол юрты. Веки хлюпали, будто почва после едва-едва прошедших дождей, но он ничего не мог с этим поделать.
– Спасибо тебе за важное поучение, отец. Я пронесу его через всю жизнь. Но я всё равно уйду.
Краешки губ бати Анхара от удивления поползли вниз. Отцом постороннего человека монгол мог назвать только в том случае, если он спас жизнь ему или кому-нибудь из ближних. Не важно, словом ли, делом или как-то иначе. Это самая большая дань уважения, которая возможна от одного человека к другому.
Урувай попытался сжаться в точку, превратиться в большого идола. Но его выдавала крупная дрожь. Наран поднял голову.
– Вы все относитесь ко мне снисходительно, помня, что я часть вашего аила, и помня, как мне не повезло в детстве. Ведь на первом месте семья! Но на самом деле я как подорожник, что запутался корнями с благородным ковылём. Вы не знаете, какую змею поселили с собой жить в одном шатре.
Наран щерится, показывая дырку между зубами, и женщины тихонько отползают к стенкам шатра и поджимают под себя ноги. От дальнего угла, возле костровища, на него большими глазами смотрят дети.
Староста взмахнул рукой. Наран видел, что в лице произошла какая-то перемена, но не мог ещё уяснить какая.
– Иди. Убирайся. Не желаю тебя видеть больше никогда. Женщины, соберите им поесть мяса и каши в мешок. Только не кладите самое хорошее. Мясо самое костлявое… ну, да вы меня поняли. Ну, что ты здесь ползаешь? Убирайся! Убирайся! Только не через вход. Не оскверняй мне порог своим уходом, смертник! Подними вон там полог, вылезай и никогда больше тут не появляйся.
Он швырнул в Нарана чашей, и тот уполз, словно большой паук, утянув за собой друга.
Только снаружи Наран понял, что произошло с лицом бати Анхара. Он же плакал! Плакал и пытался скрыть это за гневной маской и трясущимися губами. Он попытался найти в себе силы, чтобы встать с колен, но вместо этого обнаружил позыв к смеху. Вытащил его наружу, и собаки, дежурившие снаружи в ожидании костей (высосанных до конца и обглоданных: настоящий кочевник с детства знает, какое расточительство пренебрегать любой жидкостью и самой маленькой капелькой жира), бросились к нему и стали вылизывать его лицо.
Урувай бегал вокруг, тянул в разные стороны и рвал на себе волосы.
– Что ты? Что ты? Вставай!
Всё ещё катая по горлу беззвучный смех, Наран попытался подняться и тут же рухнул обратно.
– Я не могу!
– О Боже! Почему?
– Это порвались последние корешки. Я теперь как одуванчик с пушистой шапкой – целиком во власти ветра.
Семья была всем для каждого монгола. Только вместе, только когда стоят гордые шатры, этот народ может набросить на гордую степь уздечку. Одиночек она топчет. Только теперь Наран начал понимать, что то, что они задумали, может принести благо только воронам да степным собакам, которые всласть попируют над их костями.
Но отступать поздно.
Урувай, с перекошенным лицом, сам как побитая собака, убежал, сказав, что ему нужно забрать вещи, а Наран посидел ещё немного и побрёл к лошадям. Ноги подкашивались и дрожали.
Было уже темно и будто бы похолодало. Шатры стояли, как отряд древних воинов на конях, усы – разнообразные украшательства и шнурки – колыхались, когда их трогал забредший сюда неизвестно какими тропами из степи ветерок. Гнев поднимался над будто бы топором стёсанными головами чёрным дымом, а в сердце каждого трепетал едва угадываемый огонь, разгоняющий по венам кровь.
Наран шагал между ними, как забытый кем-то несмышлёный малыш, не подозревающий о том, что сейчас здесь будет драка и кровь, и смерти. Думал о том, что там, в каждом шатре, сидит по нескольку женщин и детишки. Если он был таким шатром, внутри бы не было никого. Только темнота. Не было даже огня… Нет! Нет! – Наран даже взмахнул руками от этой мысли. Там был бы пожар. Горели бы постели, трескалась от жара посуда. Горели тела неопознанных людей, словно внутренние органы, истерзанные заживляющими снадобьями шаманов.
Шатры кончились. Юноша махнул часовому и осмотрелся в поисках своего коня. Из всех лошадей семейства Наран выбрал этого приземистого, с которым всегда приходилось быть начеку. Ещё днём он загодя посадил его на корду, чтобы не искать в темноте по окрестностям, и привязал не к колышку и не к коневязи, а к единственному в округе наиболее рослому кусту облепихи. Тихо свистнул, и Бегунок обиженно покачал головой. Все его друзья разбрелись, и жеребец стёр все зубы, пытаясь размохрить верёвку.
Невдалеке паслась пегая кобылка Урувая, под стать всаднику, большая, с несоразмерно большим крупом и с изрядным брюшком. Наран привязал и её тоже.
Немного погодя появился и сам Урувай. Пыхтя, он тащил седельные сумки.
– Приходил дед, – сказал он, избавившись от груза. Лицо и затылок взмокли от пота, и косы прилипли к голове, словно два бараньих рога.
– Ругал?
– Гордился, – коротко сказал Урувай. Наран внимательно изучил лицо. Уши горели – не то от смущения, не то от того, что их хорошенько надрали. Приятель разминал плечи и раскручивал скрутившиеся от страха усы. – Сказал, что я настоящий внук его деда, раз не бросаю друзей в беде. От расстройства побил всех своих сыновей и раздал подзатыльников внукам. Я сказал, что провожу тебя до гор, а потом поверну обратно. Может, мы сможем вернуться вместе?
Наран обнял его за огромные плечи.
– На большее я и не рассчитывал, дружище. Я буду очень рад, если ты будешь рядом хотя бы до первой точки моего путешествия.
Ночь раскручивала над ними длинные хвосты созвездий. Этот день – возможно, последний ясный день перед зимой. Природа уже готовится сбросить старую шкуру, волосы на её голове увядают и начинают проглядывать длинные чёрные проплешины. Старики говорили, что осень – это старость степи, а зима – её бесконечная седина. Но на то она и богиня, что каждую весну рождается заново и раз за разом беременеет от жеребца-неба бесконечным помётом тварей, больших и малых. Шатры заключали их двоих в кольцо, словно материнские руки, и из главного оставшиеся женщины и дети начинают потихоньку растекаться по своим шатрам. Из темноты слышно похрапывание коней и хруст травы на зубах.
Рысью подбежал мальчишка со свёртком из больших листьев под мышкой. Подёргал за руку Урувая. Наран, зная, какое впечатление производит на детей его лицо и в особенности мимика, не стал поворачивать голову, а только скосил глаз.
– Ты и правда уходишь? Тятя Анхар очень разозлился.
– Правда, – Урувай опустился на корточки. – Но я ещё вернусь, чтобы сыграть тебе на морин-хууре.
Малыш посмотрел на него с восторгом. Перевёл взгляд на Нарана. Сказал:
– Все говорят: надо было выдать вам порки, да посадить в яму. Но батя Анхар, кажется, думает по-другому.
Он всунул Уруваю между дряблых ладоней свёрток и испарился.
Толстяк понюхал свёрток, пошелестел листьями лопуха и улыбнулся.
– Еда.
– Он и правда просто-напросто мог выдать мне плетей, – сказал Наран. – Батя Анхар. Зачем так расстраиваться?
Урувай сунул в рот пухлый палец.
– Он специально старался разозлиться, чтобы суметь отправить тебя восвояси. Ты откусил от его сердца кусок, приятель.
– С чего бы? – буркнул Наран. – Я же ему не сын. Хоть и назвал его отцом.
– Но он батя, самый старший в аиле, и должен быть самым заботливым. Ты ему не сын, но он отец всем нам. Понимаешь?
С минуту Наран пытался об этом размышлять. Но ни одной стоящей мысли в голову не шло. Во рту запеклась слюна.
Урувай зевнул, кадык его затрясся в сладкой судороге. Сказал:
– Я пойду спать. Ты идёшь?
– Нам нужно выехать с рассветом.
– Ты не пойдёшь в шатёр?
– Останусь с лошадьми. Хочу подготовить своего Бегуна к большой дороге. Он ведь никогда ещё не видел столько пустого места сразу, сколько нам предстоит пересечь. Представляешь? Ни единого шатра вокруг, ни единого всадника и не единой лошади. Только пустота.
Друг подумал и уселся прямо на землю. Сказал:
– Ты ведь тоже не видел.
– Да, – Наран улыбнулся. – Мы с конём будем уговаривать друг друга её не пугаться.
Глава 2. Керме.
Керме разговаривала с Йер-Су.
Отпечаток конского копыта лежал под детскими пальчиками, пыльный и значительный. Этот след изгибами, расположением комьев земли давал ей понять, что Йер-Су слушает. И Керме роняла в это раззявленное ухо бессвязные слова, всё, что не находило выхода за день, оборачивалось горячими каплями.
Сегодня лето подошло к концу. Девочка почувствовала это по тому, как изменила запах полынь и как в общий аромат, разливающийся над степью, вплели свою тонкую ниточку поздние ромашки.
Сегодня кто-то подложил ей в кровать лягушку, и они всё утро проиграли вместе. А потом, когда созвали завтракать, она каким-то образом променяла земноводное на чашу с молоком. Нельзя сказать, что медовое молоко хуже прыгучей твари, но всё же лягушку немного жалко. После завтрака Керме звала её шёпотом, но на зов так никто и не пришёл.
Сегодня она услышала от кого-то, что кони съели всю траву вокруг на дневной переход и теперь гложут лопухи и сырую землю. И что в скором времени придётся трогаться дальше. Это ничего не значит – мало ли новых мест узнавала за свою жизнь Керме, которые казались через два-три дня похожими, как два кивка головы, – просто, чтобы поговорить с сестрицей-землёй, нужно будет искать новое ухо в достаточной удалённости от шатров.
Все эти важные новости она излагала в земляное ухо, иногда наклонившись к нему очень близко, так, что рот щекотали одинокие травинки, иногда выпрямившись и роняя слова с большой высоты, как будто те вдруг обрели вес. Вокруг никого не было – Керме это чувствовала – суета аила осталась в стороне.
Когда не с кем было поговорить, она разговаривала с богами. Она никогда их не видела, но, с другой стороны, она никогда не видела ничего на свете. Так что нет разницы, разговаривать со спрятавшимся в гнезде из спутанных травинок мышонком или с богиней земли, чья коса, говорят, благоухает, как целое поле цветущего крестоцвета.
С другой стороны, разговорами она увлекалась редко. Девочки вообще все неразговорчивые, особенно те, которые уже вышли из возраста детского щебетания обо-всём-подряд, но Керме была среди них как сова среди суетливых соек.
Но если уж доверяла кому-то свои впечатления, то доверяла Йер-Су.
Тенгри Керме любила, как сурового отца. Душным знойным летом он мог ударить зазевавшуюся девушку солнечной плетью, просто потому, что она высунулась не вовремя из шатра и попалась под горячую руку. Но обычно он ласков. Керме робко улыбалась, чувствуя прикосновение к своей щеке его усов.
А в следующую минуту могла схлопотать от него пощёчину.
Зимой солнечный бог уходит на охоту в далёкие степи, иногда за великое море, и возвращался только по весне.
Посидев ещё возле лошадиного следа и поигравшись с цветком кашки, Керме бежит в аил. Босые пятки щупают землю, узнают кочки и впадины, которые она уже проходила по дороге сюда. Время к вечеру, а ещё нужно сделать дневную работу, к которой она пока не приступала. Замесить глину, комками которой будут выкладываться очаги в шатрах на новом месте, доплести из гибкого сушёного вьюна корзинку.
Возможно, потом, под шептание ночных мотыльков, бабушка снова расскажет ей какую-нибудь сказку. Выведет из шатра и скажет:
– Чувствуешь? Это ветер. Познакомься и узнай его лучше. Это твой муж. Ты слепая и никому не нужная, поэтому твоим мужем будет ветер. С ним ты сможешь танцевать любой танец, который захочешь.
Керме жмурится, навострив нос.
– Из какого он аила?
– Его аил на облаках. Золотые шатры стоят там, и войлок его прошит белыми серебряными нитями. Бывает, он утаскивает шатры нашего племени к себе на облака.
– А как выглядят облака?
Бабушка молчит некоторое время, и Керме словно бы снова ощущает пальцами складки на её лице.
– Бедная. Ты никогда их не увидишь.
– Но я смогу потрогать, если Ветер увезёт меня на своё коне.
– Счастливая, – вздохнула бабушка и больше ничего не сказала.
Керме хотелось снова послушать про ветер. Другие девочки в её возрасте уже знали, за кого пойдут замуж. У них было преимущество: они росли вместе со своими будущими мужьями, вместе учились ездить верхом и носились под ногами взрослых в то время, как те занимались своими скучными и важными делами.
У Керме же не было никого. Кроме, может быть, Растяпы, да дырки в земле, с которой иногда можно было поговорить по душам.
Поэтому, когда появился небесный странник, перед которым склоняется трава, а небесные овцы бегут, как от огня, она страшно обрадовалась и вцепилась в бабушку, по её выражению, «что голодный клещ». Пусть Керме никогда его не видела, пусть, но зато она знает, что когда-нибудь окажется там, в расшитом золотом шатре на самой верхушке облака…
Сегодня останусь и послушаю сказку. Упрошу старую ещё раз рассказать про повелителя небес и про его девятиногого коня. А завтра нужно будет улизнуть пораньше, чтобы проведать овец и Растяпу.
Девочка не выбиралась к ним – страшно подумать! – со вчерашнего дня.
Керме любила быть с овцами. Иногда ей доверяли пасти их, хотя при этом всё время кто-то находился неподалёку. Она не знала, что такое зрение, но уши, как два пугливых зайчика, исправно доносили, что делается в округе. Неведомый сторож ходил туда и сюда, стукая по голенищу веточкой ольхи.
Хотя зачем их пасти, Керме не понимала. Они прекрасно кушают и без её присутствия и не сдвинутся с места, даже если дождь промочит шкурки насквозь. Но сознание ответственности, несколько большей, чем ответственность за заплату на халате какого-нибудь из многочисленных её братьев, подогревало изнутри.
Среди этого мягкого, постоянно колышущегося облака тепло и хорошо. Будто закутывают в шерстяное одеяло, только оно ещё и живое. И пахнет не так, как мёртвые шкуры, которыми устлан пол в шатре. Иногда бабка искала её и звала: «Керме! Керме!» – но Керме не отзывалась. Она засыпала, уткнувшись носом в шею какой-нибудь овцы; и кудряшки щекотали ей ноздри. Просыпалась, только чтобы согнать с себя переползшее с животного насекомое, и снова проваливалась в зыбкую дрёму.
Если спать не хотелось, Керме сидела и слушала дудочку пастуха. Это Отхон: его дудочка всегда с хрипотцой, как будто в неё набили земли. Хорошо, что он её не видит. Шуточки Отхона всегда глупы и безобидны, иногда он даже неплохая компания, но обычно в такие моменты Керме хотелось побыть наедине со своим стадом. Она считала себя частью этой кучерявой дышащей массы. Иногда даже ложилась на живот и, чувствуя, как по лицу скользят дряблые овечьи губы, жевала вместе с ними жухлый чабрец.
Рано или поздно её находили и вели домой.
– Что мне тебя привязывать, как собаку? Ищай тебя потом, свищай. Не досвищаешься, – серчала бабка. Хотя знала, где её найти утром и днём, и в любое остальное время. Стоило только получше поискать.
Бабка вырастила её с самых малых лет. Первое слово Керме было «баба», а ещё «куня», что означало «кузнечик», и «шаво», что могло означать либо «шершаво», либо «жарко». Ручонки тянулись, казалось, сразу во все стороны, уши и нос росли вперёд всего остального, словно посаженые в благодатную почву луковицы маньчжурского лука. У нее отсутствовало зрение, но был целый ворох других чувств. Про маму она не расспрашивала – слишком много в аиле женщин, которые могли быть её матерью. Они не делали никаких различий между нею и остальными детьми, и малютка могла запросто засыпать в чужом шатре, обласканная чужими руками. А когда стала старше, подумала: если уж всё воспитание заключалось в кормлении грудью, то спасибо: не хотите кушать – никто не заставляет. Мы покушаем сами. Тем более что есть такая замечательная бабка, которая рассказывает ей сказки и вытирает сопельки, когда суровые морозы загоняют на весь день под одеяло…
И точно так же её отцом мог быть муж любой из этих женщин. Должно быть, он и сам уже забыл, что вот этот слепой зверёк с почти белыми глазами – его родная кровь.
Керме пробиралась по муравейнику-аилу, находя одной ей ведомые знаки. Возле первого шатра запах лука и сушёных грибов. Неприметно вкопанный в землю маковый стебелёк возле места, где готовят самую вкусную ягодную кашу. Женщина-хозяйка там изрядная ворчунья, но вот кашу, которую она носит раз в неделю к общему столу, все дети уплетают за обе щеки. Пропахшее чужим дымом кострище, настолько чисто вытоптанное, что вряд ли кто-то его замечает, кроме Керме. Они здесь только третью неделю, а с зимы здесь стоял другой аил… Она на верном пути. Потоптаться, подождать, пока четыре человека тащат мимо что-то большое. Детское воображение нарисовало огромную личинку, за которую сражаются и которую таскают туда и сюда муравьи. Вот мерный скрип и беспокойные голоса: то чистят от грязи и смотрят повреждённое копыто, и девочку окатывает тяжёлым горячим запахом – животным беспокойством. Здесь живёт лошадиный лекарь, очень уважаемый всеми старик.
Вот наконец и дом. Прошмыгнула в шатёр, налетела на кого-то из мужчин и нырнула с испуга под валяющуюся у самого входа подушку. И так же, прижимая подушку к голове, проползла на женскую половину.
Пахнет дымом. Может, бабуля будет что-то готовить.
– Это ты, слепой тушкан? – голос старухи, слегка чем-то затруднённый. Керме представила, как она сидит, сжимая в уголке рта иголку из рыбьей кости. Руки заняты шитьём.
– Я, бабуля! – отвечает, удостоверяясь, что взрослый мужчина покинул шатёр.
– Поди сюда, чертовка. Сегодня для тебя особое занятие. Лёгкое. Можешь немного отдохнуть от своего каждодневного сидения на моей шее. Только не спи, – бабка спустила на неё всю свою словесную воду, доканчивая на шитье последние стяжки, и только потом перешла к сути: – Бебеку нужен отвар из горьких трав. Вот и они лежат, видишь, я уже сама встала и всё для тебя собрала. Вот полынь, вот чабрец… даже разожгла огонь и поставила воду.
– А ты? – упавшим голосом спросила Керме.
– Мне нужно дойти до Тары. Накопилось что-то, что двум старым женщинам в расцвете лет нужно обсудить.
Керме сразу поняла, что спорить бесполезно. «Если бы я прислушивалась, что жужжит над моим ухом каждая муха…» – сказала бы непременно бабка. Девочка уже давно решила про себя, что в старости ни с кем ничего и никогда не будет обсуждать. Даже если вдруг все мужчины разом начнут ходить на голове. А когда между её ног будут суетиться собственные малыши, все время пойдёт только им. И конечно же, никакой работы. Для них она всё будет делать сама.
Керме не злилась. В конце концов, эта бабка – не её мама и даже, может быть, не родная её бабушка.
Девочка осталась одна. Под котлом шипел горящий дёрн. Иногда он плевался, с резким свистом выбрасывал искры, и тогда она вздрагивала, суча ногами, пыталась сильнее вжаться в стенку шатра.
Огонь был ей врагом. Этот большой змей, волокущий тело сквозь дыру в потолке юрты и обратно, вновь и вновь старался тяпнуть её горячими клыками – раскалённым краем котла.
Девочка приближалась к нему осторожно. Рядом с огнём нельзя было пользоваться острыми предметами и вообще держать в руках нож или иглу. Огонь – тонкошеий небесный скакун, нервный и стремительный, может наскочить на острое и распороть себе брюхо. И тогда огня аилу не видать до самого конца времён.
Орудовать топором рядом с живым огнём тоже нельзя. Так же, как и рядом с текучей водой.
Однажды она уже встречалась со змеёй: когда-то давно, когда мама-земля ещё не отпускала её далеко от себя, брат нашёл для неё полоза. Сказал, что держит ягнёнка, но Керме сразу поняла, что это не ягнёнок. То, что протягивал ей брат, было холодным и вертлявым, как земляной червь. И когда девочка почувствовала под пальцами холодное тело в тугой скользкой коже, когда голова, похожая формой на рыбу-краснопёрку, ткнулась ей в ладонь, Керме закричала и кричала до тех пор, пока не прибежала бабка.
Брата пожурили, хотя к тому времени он уже приделал себе лошадиные ноги, так что журить пришлось оставшуюся после него тень. Керме слышала, что взгляд Тенгри выжигает на земле от каждого живого существа такое специальное пятно, и считала, что тень уж точно никак не может поспеть за зайцем – и за удирающим братцем. Керме же ругали несравнимо сильнее за то, что переполошила своим криком весь аил.
Следовало приблизиться к этому змею, вдохнуть его запах, от которого изнутри рвался кашель или сильная икота. Опустить ему в пасть подношения в виде трав, стараясь, чтобы горячая желчь из пасти змея не укусила тебя за ногу.
Но это была работа, такая же, как следить за овцами, и Керме делала её без жалоб. В такие минуты она думала о Растяпе. Иногда её забывали на лугу или же просто не могли найти, и тогда Керме оставалась ночевать с овцами. Это были лучшие ночи в её жизни. И лучше любой пастушьей дудки – хоть Отхона, хоть кого ещё – был для неё стрекот кузнечиков и крик ночных птиц.
Вечером бабка не вернулась, зато заглянул сам Бебек. Керме к тому времени уже со всем почтением затушила костёр. Молча он прошёл мимо, как всегда угрюмый, как не ведавшая долгое время воды земля, и вышел, прижимая остывающий котёл к груди. Бебек – помощник и старший сын лошадиного лекаря. Должно быть, сегодня они будут кого-то лечить этим горьким отваром.
Мужчин она побаивалась, хотя в общем-то существами они были добрыми. Но эта их способность становиться вдруг непомерно большими… четыре дрожащих ноги восходили к шатрам Тенгри, и девочке мерещилось, что вот сейчас солнечный бог спустится, натянет эти ноги-струны на свой морин-хуур, и сыграет громоподобную, очень страшную степную песню. Керме робела, слушая их величие и едкий, кислый запах, их песни грубым голосом, фырканье и прядание губами.
Много позже она узнала, что лошади и мужчины – это не одно и то же. Что лошади по нраву очень добрые, хоть и гораздо беспокойнее овец, и даже иногда разрешают покормить себя корнеплодами. Мужчины о двух ногах теряли стремление куда-то лететь и орать, тоже были довольно милыми, хоть обычно не обращали на таких, как Керме, никакого внимания. Они собирались возле очага – долгими вечерами Керме слышала их мерное бормотание – и вели свои непонятные разговоры. Лился по чашам кумыс, женщины подносили еду, и стоял душный аромат пареного мяса.
Потом кто-то брал музыкальный инструмент, и Керме оказывалась на охоте.
Ради этого она могла часами сидеть в уголке женской половины, зарывшись в одеяла, слушать непонятные и неприятные запахи, ради этого она готова была оставить ненадолго своих овец.
Вместе с жаром от очага она чувствовала ток дикого ветра, слышала хруст диких яблок, что лопаются под конскими копытами. Песня – это единственное доступное для неё путешествие, не считая слепых странствий между юртами по цепочке окриков женщин, которые говорили: «Нет, здесь не твоя юрта, слепой тушкан! Иди-ка дальше».
Под звуки струн, трубные, как крик болотной птицы, охотники загоняли джейрана. Тявкали собаки, бросаясь в клубы пыли, которую поднимали лошади, звенела тетива и шлёпала (певец обыкновенно в этот момент шлёпал по груди, шлепок по пузу означал у него почти пустой бурдюк с водой) о землю стрела.
Вот наконец финал. Джейран, топча лягушек, хотел уйти болотом, но завяз по самые коленки, и здесь подъехавший на коне охотник в последний раз спустил тетиву. Собаки, оставляя целые ручейки следов в проседающей, гнилой земле, бросились вытаскивать добычу. Испуганный стрекот суслика и крики грифов, надеющихся на какую-то поживу.
Это был для Керме новый, непознанный мир, из тех, что, как она догадывалась, ей никогда не суждено познать. Девушка покидает аил только на обозе с приданным, и путь её лежит только до следующего аила. А если слепой тушкан покидает аил, то…
Керме не могла придумать ни одной причины, которая могла бы ее, в конце концов, вывести в мир бескрайней степи, мир, где Йер-Су горлом поёт песни, вновь и вновь ведая стрелам ковыля древние сказания.
Дослушав сказку, Керме хлопала в ладоши, и колокольчик на шее тихо вторил её радости. Этот колокольчик у неё с самого детства. Такой, говорила бабка, надевают на самых ценных, самых норовистых жеребят, которые могут, погнавшись за какой-нибудь бабочкой, упустить из виду мамку или даже табун.
– Ты несмышлёная, как жеребёнок, – говорила она, – Степь вокруг полна опасностей. Вдруг яма? Вдруг гадюка или скорпион? Вдруг ты потеряешься, блуждая вокруг аила, или свалишься в овраг?
Наверное, можно было бы попросить снять это украшение: она ведь уже достаточно свыклась с миром вокруг, нашла с ним общие языки навостренных ушей и запахов. Но как-то непривычно легко сделалось бы без него, будто с коня, который всю жизнь проходил под седлом, сняли уздечку.
Пальцы всё время цеплялись за язычок, чтобы не звякал при ходьбе, так пальцы опытной монголки придерживают язык телёнка при клеймении и держат рот открытым, чтобы он его вдруг не прикусил.
Умением извлекать из горла различные звуки обладал старик Увай. Жил он в юрте, расшитой богатым узором и с тремя десятками разных заплат, к четверти которых приложила руку и Керме. Девочке он приходился дедушкой, и, помимо матери, у него было ещё трое сыновей и четыре дочери. Керме слышала, как он распевался, как стукались в его горле и в груди костяные шарики. Сама сидела тихонечко и слушала, уповая, что раз она его увидеть не может, раз не издаёт шума, то не замечает её и он. Во всяком случае старик никогда не гнал её прочь. За это она его любила, хотя ни разу не была удостоена его вниманием.
Иногда певцу помогал другой старик – Кочу, у которого в горле жили сразу шесть скорпионов, и поэтому его пение было резким и пронзительным. В то время, как Увай рассказывал историю и наигрывал себе на морин-хууре, Кочу изображал птиц, диких степных волков, а в сказках – злых стариков, и был очень собой доволен. После песни он громко хохотал, и говорил:
– А, приятель, как отлично, что ты у меня есть! Один я ни за что бы не рассказал эту историю.
Хотя охота была любимым сюжетом, бывало, старик пел предания. Случалось это во время больших праздников, когда собранному за год дикому рису из мешков был только один путь – в котёл, а оттуда в желудки, а вяленая конина застревала между зубами. Кто-то говорил:
– Время песни, старик. Мне так кажется!
Голос отзывался дружным гомоном.
– Расскажи нам про луну, что отправилась в странствия по южным степям за своим сыном.
– Расскажи нам про погоню за серебряным жеребцом, который покрыл в безымянном аиле всё стадо кобылиц.
– Расскажи нам про то, как ты ходил на медведя с собаками.
Увай посмеивался, хлопая себя по плотным бокам, и говорил:
– Не время сейчас для сказаний про охоту. Разве не видите, что сегодня за день! Сегодня наш аил – как семейство грибов, что вечно тянутся к небу, и сегодня небо увидело шляпки наших шатров, и захотело сорвать их в свою небесную корзину. Во славу Тенгри я расскажу про серебряного жеребца: это очень достойная история. Жеребцом у нас будет Кочу. Кочу, будешь для меня жеребцом?..
– Только тем, который покроет всех кобылиц, – скрипуче говорил, ковыряя в зубах Кочу, и Керме вздрагивала, заслышав этот голос прямо рядом с собой.
Бывало, дед Увай рассказывал про юношу, который ушёл до самой высокой горы, горы с белым хвостом, чтобы расспросить Тенгри о несправедливости мира, о том, почему всё происходит так, как происходит. Его сопровождали верный друг и жеребец из дыма и копоти, в чьём животе вечно тлеют угли, его сопровождали лисы и степные антилопы. Эта история была самой длинной в репертуаре деда-рассказчика, и пока он её рассказывал, многие успевали заснуть прямо возле печи, другие – разойтись по юртам. Но только не Керме.
Бог высоко на небе, считал юноша, и землю от него скрывают тучи да туманы. Он видит только малую часть того, что происходит внизу, в так мало обласканной его лучами степи. Юный и не слушающий стариков, он говорит: «Заверну я солнце-Тенгри в плащ и принесу его вниз, чтобы посмотрел он на степь изблизи. На то, как режут друг друга кочевья и как воют оставшиеся без сыновей матери».
Увай пел, периодически прерываясь, чтобы всхрапнуть пять-десять минут, а лёгкие Керме наполнялись горным воздухом, ноги болели и ныли от длинных переходов по краю уступов, с камня на камень и с корня на корень. Руки вдруг превращались в крылья, и там, в паутине истории мудрый шаман даровал такие же юноше, чтобы он мог забраться на самую высокую скалу, куда спускался взглянуть на свою степь сам Тенгри; и она, забываясь, хлопала ими по бёдрам, вызывая вялый смех тех, кто ещё не заснул…
Под конец дед Увай говорил что-то такое, что вызывало сдержанное одобрительное ворчание и непременно выдёргивало Керме из ночной сладкой дрёмы. Он говорил с неприкрытой грустью:
– Эта сказка самая длинная и самая унылая, но ею единственной я горжусь. Потому что сочинил её сам, от первого слова до звучания последней струны.
Непременно кто-то говорил:
– Она слишком длинная, дед Увай. Там много лишнего. Её нужно укоротить.
– Это сделают мои внуки и правнуки. Те, кто будет петь её после меня. Те, кто сейчас пытается дёргать струны на моём морин-хууре, хотя ручки их едва ли не тоньше этих струн, и петь на каком-то своём, детском языке. Я же рассказываю так, как впервые спел её, вернувшись из одного долгого путешествия обратно в аил…
Овцы – самые стадные животные. Одна капля тумана уже не будет облаком, она растворится в воздухе, будто бы её не было, и они словно облака, не могут порознь. Стадо иногда напоминает человеческое лицо, оттого, как верно всё, и как всё на своих местах. Овцы, словно волосы, увязаны в плотную косу, и если одна её крупица вдруг сделает шаг вперёд, то это совсем не значит, что она сделала этот шаг просто потому, что ей вздумалось. Это значит, что лицевые мышцы напряглись, чтобы согнать со щеки слепня, а стадо выдвинуло вперёд малую свою часть, чтобы добраться до зарослей сладкой красной смородины.
Керме была большим знатоком во всём, что касается овец. Когда, пригретая с обоих сторон боками животных, она погружалась в дрёму, то через ноздри проникало странное чувство. Будто она становится чем-то огромным, покрывающим собой землю сразу на десяток шагов в обе стороны. Слух необыкновенно заостряется, и даже шорох крыльев ночной птицы, пробующей воздух неспешным полётом, не остаётся незамеченным. Иногда Керме казалось, что она может пошевелить хвостом, и это было довольно забавно.
А самое главное, в слепом мире намечались просветы. Девочка угадывала наступление рассвета не по волнам тепла, прокатывающимся по степи, а по вспышкам красноватого света и неясным, вытянутым и бесконечно перекрещивающимся теням. Керме ни разу не удавалось потерпеть, пока свет не перестанет прыгать в голове, а станет чем-то твёрдым и основательным. Сознание всегда пробуждалась раньше, полное радости и неясных счастливых воплей, принюхивалось и долго осознавало, что оно снова в темноте.
Когда она становилась мохнатым комком тепла, ей хотелось только одного – быть вместе и быть частью чего-то большого. Она с удовольствием находилась бы в этом состоянии вечность, но голова качается на тонкой шее, и в ней очень сложно сложить из спокойных размышлений о нотках вкуса травы, о звуках и запахах что-то целое.
Постепенно Керме начала узнавать некоторых овец. В стаде их было всего два или три десятка, и девочке они поначалу представлялись чем-то вроде большого шерстяного покрывала. Только живого. Она думала иногда: как там чувствуют себя её незрячие глазки? О чём они думают? Плачут ли, тихо укрывшись покрывалом век, как две брошенные сестрички? И потом понимала: чувствуют они себя так же, как она в окружении стада. Им тепло и хорошо, как ей сейчас…
Ещё позже она начала узнавать каждый лоскут в этом полотне и даже давать им имена – про себя. Вот тонконогий, как жеребец, и вечно дрожащий – Кузнечик, этот тучный и с обвислыми по краям рта губами – Тыква. Есть ещё Соловей, прозванный так за высокий и очень мелодичный голосок.
Любимчиком стал для неё Растяпа, грустный барашек с большими влажными ноздрями и бугорками вместо рогов. Девочка сразу почувствовала, что на него можно положиться. Что у него есть то, что взрослые называют характером. Он сносил все ласки Керме, уперев в землю ноги и сделавшись полностью неподвижным. Казалось, перевернёшь землю, как глиняную тарелку, а Растяпа будет стоять даже кверху ногами.
Керме хорошо изучила его повадки.
Растяпа любил крошечные тюльпаны, которые росли на всхолмиях, поближе к солнцу. Керме находила их по вдумчивому жужжанию шмелей и осторожно, чтобы не повредить луковицу, срывала цветок. Несла ему, сопровождаемая гулом насекомых, через всё стадо, прикрывая цветок ладошкой от назойливых губ. А потом сидела и слушала, как исчезает во рту Растяпы бутон, а вместе с ним зазевавшиеся шмели и пчёлы. Иногда после такого лакомства у него из уголка рта торчал стебелёк, который Керме любовно заправляла между губами.
Он любил чесать морду о колючий куст или о камень. Камней в степи было не так уж и много: в основном гольцы, облизанные бесконечными воздушными потоками и ланями, что собирали с этих камней нанесённую ветром соль. Поэтому морда барашка вновь и вновь оказывалась усыпана колючками репейника, которые Керме терпеливо выбирала, вполголоса поругивая Растяпу.
Он отвечал перестуком копыт или громко шлёпающими губами.
Но больше всего Растяпа любил смотреть на север, откуда год за годом прилетали холодные ветряные течения, а зимой хлестала снежная крупица. Куда бы не привели стадо и как бы его не поставили, он всё время поворачивался к северу. Когда Керме и других детей вместе со многими полезными вещами учили определять, с какой стороны на них смотрит отдохнувший Тенгри, а на какую он опускается, уже готовый укрыться расшитым звёздами одеялом, девочка быстро усвоила всю эту науку при помощи влажного носа своего приятеля. Там, где ухо у Растяпы слегка надорвано, был восток, и, если утром в ясную погоду Керме поворачивалась туда, то чувствовала слепыми глазами жар и сознание странно светлело. Как будто действительно, вот-вот распахнутся глаза и она увидит…увидит… весь мир разом, и никак иначе.
С другой, соответственно, запад. А хвост животного всегда указывал на юг, где, говорят, за бесконечными песками плещется ещё более бесконечное солёное море.
Даже когда девочка слышала рядом хруст и ощущала, как щекочут голые ноги торчащие изо рта барашка травинки, она всё равно знала, что Растяпа на чеку и глаза у него на затылке – смотрят на нужную сторону света. Если Керме нужно было что-то показать ему, она обхватывала его за шею и вела, но даже тогда Растяпа поворачивал морду к северу, а зад его то и дело заносило к югу. Керме это страшно смешило.
– Эх, были бы у меня твои глаза, – говорила ему на ушко Керме. – Если бы я видела то, что видишь там ты и что остальные не замечают…
Если рядом со стоянкой был ручей, раз в день овец следовало сводить к воде. Керме худо-бедно справлялась с этой работой, даже просила пастушка, чтобы тот «закрыл на неё глаза» и разрешил сводить на водопой овец одной.
Она бралась даже отмывать шёрстку от навоза, и эту работу ей уступали с видимым облегчением.
Направление на ручей было разное: аил кочевал, хоть Керме и слабо представляла, для чего это нужно. Неизменным оставалась только осока, которой густо заросли оба его берега. Осока вонзала в бока когти, смеялась лягушачьим смехом и голосила на разные голоса, пытаясь запутать девочку. Керме пыталась различить в этом гомоне журчание воды, уловить ступнями, долго ли до неё осталось и не сорвётся, не покатится ли она вместе с поползшей вдруг землёй.
Вдохнув запах ряски и смочив губы, отправлялась за своей паствой, медленно, шаря по сторонам руками и окликая овец по именам.
Часто её ругали за изрезанные в кровь руки, допытывались:
– Где была, сайга, где ходила? Слепая, а туда же – носится, как угорелая.
Она молчала про овец. Иначе попало бы пастухам за то, что доверяют юродивой, и те больше никогда бы не позволили приблизиться к овцам.
– У меня из рук, – как-то шепнул её по секрету Отхон, – пальцы могут вырастать в розги. Как у терна, только сильнее и крепче. Вжжжж! Вот такие. Я подгоняю ими овец, а могу рубить головы врагам из другого аила.
Керме ему верила. По правде, Отхон любил прихвастнуть – как-то раз он сказал, что барсы белые потому, что его отец поймал одного за хвост, и тот от страха сделался белым, как снег. Не то, чтобы Керме ощущала какую-то разницу между чёрным и белым, но когда она сказала об этом бабке, та долго хихикала в рукав и сказала, что отец Отхона сам бы сделался седым, как месяц, если бы поймал за хвост барса. Но девочка слышала, как свищет в руках мальчишек что-то гибкое и овцы проявляют живость, убегая от них, как от брехающих собак.
Несколько раз за тёплое время года юрты исчезали, а вместо них появлялись груды войлока, на которых очень любили играть малыши. Брехали собаки, нервный перестук – это переступают кони, уже навьюченные и осёдланные. С исчезновением юрты мир для Керме разваливался на части. Будто овсяная лепёшка, разломленная пополам. Вокруг готовились к переходу, а она садилась посреди этого и ждала, пока о ней вспомнят и отведут в телегу, или же брела к овцам.
В её голове мир был, что разбросанные по тарелке бобы. Ничего не менялось оттого, что два или три боба передвинули от края ближе к центру тарелки или наоборот. Только начинала слегка холмить почва под ногами, брыкаться, как озорной жеребёнок, или вдруг вспухала и становилась похожа по форме на материнскую грудь. Реже встречались овраги с пересохшими ручьями, и, если вдруг останавливались переседлать коней, Керме садилась рядом и слушала вой ветра в них. Дудочка Йер-Су – вот как она это называла.
Где-то было холоднее, где-то от земли поднимался горячий воздух, похожий на парное молоко. Однажды шатры их встали посреди дикого грохота, воя и стенаний, и Керме несколько дней просидела, не выходя из юрты.
– Там бесновище духов, – объяснял, подсев к ней на повозку, Отхон, когда грохот ещё только начал нарастать. Звонкий голосок степи выпустил из себя эту нотку, словно локон выбился из косы, и она становилась всё громче, всё толще с каждым оборотом колёс. Сначала толщиной с лошадиный хвост, потом с руку взрослого мужчины, и, наконец, грохнулась сверху, вдавила в землю, словно гигантский удав. – Кровь всех зверьков… всех, понимаешь? Сайги, кречета, тушкана – всех… отправляется сюда на последнее беснование, чтобы выступить в поход, – Отхон взмахнул руками и повалился на спину. Керме едва успела убрать из-под его лопаток коленки, – прямиком в рот Тенгри! Отойдёшь от шатров – они утащат тебя с собой. Пойдёшь куда-нибудь одна – утащат, можешь даже не сомневаться. Называется это Енисей – великое шествие мёртвых.
– А как же овцы? – дрожа, как птаха на ветру, спрашивала Керме.
– Овец мы покараулим, будь спокойна, – в голосе Отхона появляются знакомые хвастливые интонации. Хвастовство живёт в его горле, как колония грибов, и выпускает в слова потомство. – Отец даст мне настоящий лук.
Времена года складывались в прихотливый узор на ткани жизни, и текли, как тот самый Енисей, грохоча над головой Керме, иногда согревая монотонным звуком, а иногда обжигая и заталкивая в уши острые камешки. Зимы коротали возле очага, редко-редко выскакивая наружу, чтобы пробежаться по снегу и разломать на земле ледяную корку. Одев тёплый халат и упрятав по самый нос голову в шапочку, девушка пробиралась в поле проведать Растяпу и стряхнуть снег с его шкурки, но ночевать не решалась. Ночью весь мир промерзал до самых звёзд и спастись можно было, только собрав под одеялом руки и ноги вместе, превратившись в куколку бабочки. Устремляя дыхание на грудь и живот, чтобы не пропало ни толики тепла, она грезила о скорой весне.
Растяпа любил зиму. Особенно ему нравился снег, который так смешно с тихим шипением обращался во рту в воду. Носом и копытцами он раскапывал снег и находил в мерзлой земле зачатки новых растений, и поедал их с видимым удовольствием. От летней меланхолии с выпаданием первого снега не оставалось и следа. Между висячими его ушами зрело множество игр со снегом и со снежинками, которые он пытался ухватить пастью в падении, будто каких-то приятных на вкус мошек. Корка льда ломалась под копытцами, и всё, что находилось там, – комок земли, корешок, или что-то другое – Растяпа относил в специальное место, где складывал горкой.
Особое предпочтение отдавалось маленьким круглым камушкам. Он брал их мягкими губами и скидывал на кучку таких же камней. Приподнимал уши, слушая, как они стучат друг о друга, поднимал и бросал снова. Или отправлялся на поиски нового. Другие овцы его играми никак не интересовались, всё, что они делали, – это меланхолично двигали челюстями, пережевывая засохшие стебли растений или просто воздух.
И, конечно же, Растяпа никогда не забывал о севере. Спать он устраивался головой на север, даже если с той стороны торопился искупать руки в незамерзающем море промозглый ветер. Заметив поднятую над сбившимся вместе стадом голову, он хмурился. Плясал у Растяпы на голове, хлопал в ладоши, пытаясь его напугать, но барашек только прижимал к голове уши и раздувал ноздри. По подбородку на шею его тянулась ниточка слюны и там, на завитках шерсти, замерзала. Оставив бесполезное занятие, ветер торопился дальше.
– Как ты выглядишь? – спросила Керме старуху на рассвете очередной весны.
–Как соцветие ромашек. Почти облетевших ромашек, дочка. Если ты чувствовала, как облетает у тебя на руках ромашка, то ты можешь меня представить.
Руки у женщины тонкие и жилистые, локти выпирали в стороны, словно у жеребёнка. Кажется, кости там обёрнуты сушёным прессованным мясом, вроде того, что возят по полгода под седлом, выжидая голодного времени… или вовсе нет его, мяса, а под кожей сразу начинаются кости.
Может, люди после того, как вырастают из жеребячьего возраста и идут к старости, вновь становятся жеребятами? Нужно будет расспросить об этом поподробнее…
Керме протянула руку и дотронулась до лица. Женщина, смеясь, подставила щёку. Тоже жилистое и костлявое, а губы почти провалились в рот, будто песчаник в растрескавшуюся землю. И правда – как облетающая ромашка.
– Меня бы давно уже выслали прочь из аила. Если бы не видели, как я управляюсь с лошадью и с домашним скотом.
– А как выгляжу я? – задавала следующий вопрос Керме.
Старуха призадумалась (а может, напрягала ослабевшее зрение) и ответила неожиданно многословно:
– У тебя лицо, похожее на маленькую круглую луну. У многих других, у мужчин и у женщин, и у таких старух как я, лица плоские, а у тебя не такое. Твои брови – словно силуэты гордых соколов в небе, а ресницы бесконечно стремятся к ним, как конская грива на ветру.
– А какие у меня глаза?
– Которые не знают, что ты слепышка, ничего могут и не заметить. Белки у тебя как козье молоко, совсем без прожилок, а зрачки посветлее, чем у остальных, – будто два солнца. Может, поэтому ты ничего не видишь, что эти солнца вечно загораживают тебе взор. Что ты видишь? Вечную темноту или вечный свет?
– Что такое темнота и что такое свет? – спросила Керме.
На самом деле перед ней всё было белое. Золотые пятна возникали иногда перед её взором и медленно, словно капли жира в мясном бульоне, плыли прочь, за границы зрения.
Старуха расстроилась.
– Никогда не видеть себя, ни других, ни солнца, ни луны – это самое страшное, что может случиться с человеком. Ты должна знать хотя бы, что ты очень красива. Тому, кто возьмёт тебя замуж, несказанно повезёт.
Керме не особо страдала по поводу того, что ничего не видит. Если бы она знала, что значит видеть, тогда дело другое. А так… У неё есть нюх, такой, говорят, какого нет даже у собаки, у неё есть слух, такой, что она слышит иногда, как тянется вверх, к солнцу, выпрямляя свою шею, одинокий подсолнух. Пальцы её ловки, настолько, что могут находить в пряже узелки и распутывать их одним движением – так к чему страдать?
– Ветру повезёт. Он уже готовит для меня шатёр, я уверена, как для старшей и самой любимой жены. Позавчера мы с ним гуляли за руку по ущельям. А когда он увезёт меня, его рука будет направлять все ваши стрелы, и не один зверь не сможет от них ускользнуть. Только птиц он будет хранить, потому что птицы и есть его стрелы.
Керме почувствовала на своей макушке старухину руку и замолкла.
– Если бы ты не была слепым тушканом, твой ум бы не стал таким острым и пытливым, как копьё.
– Какой ум, баба! Мне интересно только одно: когда он уже придёт за мной.
Керме вскочила, словно большой слепой овод, принялась кружиться вокруг старухи. Шатёр был достаточно просторный, но всё равно на пол полетела какая-то утварь.
– Ну, ну, спокойно, – прикрикнула старуха. – Сядь. Ты разольёшь молоко.
Керме сразу успокоилась. За спускание в землю еды или питья карают жестокими побоями и надолго лишают еды. Кроме того, в голосе старухи ей почудилось нечто такое…
– Послушай, что я скажу. Может, удастся выдать тебя за кого-то, в ком течёт настоящая кровь, а не бесцветная.
Керме замотала головой, так, что косы хлестнули её по щекам.
– Мой жених – ветер. Ты говорила, ещё когда я была вот такая вот маленькая. И даже пела о нём песню.
– Я не знала, какая ты будешь красивая, – терпеливо объясняла старуха, – таким цветком каждый захочет украсить свой шатёр. Кроме того, ты не невежда и руки у тебя умелые, даром, что незрячие…
– Но я хочу, как в песне!
– О тебе сложат новую песню. О тебе, а не о ветре, который похищает невинных девушек…
Игнорируя восклицание Керме («А он меня тоже похитит?»), старуха продолжала:
– Ты слышала о всаднике, что околачивался возле нашего аила последние три дня?
Керме замотала головой. Слышать о всадниках она ничего не хотела. Их и в самом аиле полным полно. Гораздо интереснее, кто же родится у беременной овечки, которую Керме назвала Нерпа–счастливица. Роды должны начаться через пару дней, и девочка дорожила каждой минуткой, проведённой рядом, каждой мелочью, которую она отмечала в поведении животного.
– Ходит слух, что ему приглянулась именно ты. Ты, не смотря на твои слепые беличьи глаза. Ходит слух, что вчера он сватался к старосте и обещал пригнать в качестве выкупа десять коней. Неизвестно, кто он, но десять коней – это не шутка! Особенно сейчас, в годы нашей слабости… прошлая зима поистине была несчастливой, столько заболело народу и так отощали кони… Староста отправил его восвояси, хитрый лис! До чего жадный! И завтра этот всадник повторит попытку, и будет обещать уже двадцать коней.
– А ветер бы меня украл просто так. Перекинул бы через седло и украл.
Старуха её не слышала. В её голосе смешивались солоноватые нотки и гордость.
– Ах, девочка моя. Девочка моя…
Она протянула руки, и Керме прижалась щекой к мокрому рту.
Керме думала, хорошо бы обнять так же этот Ветер. Он с самого детства обнимает её, иногда сурово, плеща по щекам заплетёнными в косы жёсткими волосами, и тело его дышит холодом и снегом, иногда нежно, берёт тёплыми пальцами за мочки ушей. Керме делает осторожные попытки обнять его в ответ, но каждый раз он, точно вертлявая рыбка, ускользает из её объятий, оставляя на руках чешую из лепестков бобовника.
Другие девчонки, видя её потуги, хохочут:
– Может, тебе попробовать сплести из вьюна сети? Может, твой суженый запутается в них и ты сможешь схватить его хотя бы за ногу?
Керме хмурилась.
– Это мой муж. И когда-нибудь он увезёт меня в свой шатёр на самой высокой туче. На самом высоком облаке. Мы сможем спускаться и гулять вместе по далёким степям.
– Он никогда не станет тебе мужем, – смеялись, видя её упрямство, девочки. – Это просто воздух, и он катится по степи, как большой клубок ниток. У него нет рук, чтобы тебя обнять, и нет губ, чтобы тебя целовать.
Керме стискивала зубы. Вокруг столько всего, что можно почувствовать и назвать по имени, услышать запах и позвать с собой играть… Как они этого не видят? Девочка давно заметила, те, у кого надкрылья поднимаются, выпуская крылышки зрения, не могут ощутить иногда и половины понятных для неё вещей. И это люди, которые могут ощущать и пробовать на вкус на расстоянии, могут понюхать цветок, до которого нужно идти почти двадцать шагов, да ещё и спускаться в овраг! Иногда Керме сомневалась: точно ли это она ущербная, а не они?
Она шла с этим вопросом к бабке.
– Ручеёк, перед которым стал холм на юге, поворачивает на запад, – говорила женщина. Керме нашла её за стиркой одежды, спустилась в овражек, чтобы помочь. – И там он течёт через заросли диких вишен, чтобы захватить с собой и нести через свою ручейную жизнь вишнёвые лепестки и косточки, которые роняют птицы. Он не стал бы вишнёвым ручьём, если бы не было холма, понимаешь? Может быть, каким-нибудь другим, может лучше, может, хуже, этого нам узнать не дано.
Керме кивала, полоща руки в ледяной воде, хотя почти ничего не поняла. Получается, она пахнет вишнями, а они нет?.. Или нет, не так. Получается, они текут в гору или у них нет своего коварного холма?
Доставали её и мальчишки. За пару лет с тех пор, как она была самой незаметной, самой скромной частью жизни аила, всё очень сильно поменялось, и Керме не понимала, с чего всем вдруг стало до неё дело.
– Мой Ветер стреляет из лука лучше каждого из вас! – отвечала Керме на какую-то очередную пустяковую нападку.
Нугай, один из пастушков и приятель Отхона, сказал:
– Лучше меня не стреляет никто. Меня учил сначала отец, но сейчас у него не хватает двух пальцев и стрелять он не может. Потом учил старик Терек, который мог по движению ковыля определить, где бежит суслик, и попасть ему в хвост с двадцати шагов. Теперь его руки рассохлись от старости и расползаются на щепки, как срезанная неделю назад вишнёвая ветвь. Теперь у меня руки гибкие, как розги, и лук в моих руках становится мной, а я становлюсь им. Лук из ивы? Я становлюсь ивой. Лук из орешника? Я орешник.
Он долго заучивал всю тираду и произнёс её на одном выдохе. После чего облегчённо вздохнул и прибавил:
– Скажите же, ребята?
– Он отлично стреляет, – подтвердил Отхон. – Не так хорошо, как дед Терек… дед Терек надрал бы ему шею семью розгами, если бы услышал про то, что его руки рассохлись, как срезанный вишнёвый прут… ох и голосил бы ты тогда, дружок…
Звук удара. Невнятная возня и недовольный шёпот примятой травы. Керме закричала:
– Прекратите! Я докажу вам, что мой жених стреляет куда лучше вас. У него есть свой лук, из камня, из а тетива из ковыля, и колосья ковыля привязаны к нижнему его плечу.
Возня прекратилась, и Нугай насмешливо сказал:
– Кто же делает тетиву из ковыля?
– А лук из камня? – вставил Отхон. – Такое даже придумать – не сразу придумаешь.
– Вот поэтому я ничего и не придумала, – сказала Керме. – Я же глупенькая. Мне все так говорят. Я слепой тушкан, и поэтому глупенькая. Как я могла что-то придумать?
– Да, и правда, – с сомнением сказал Нугай. Было слышно, как он поскрёб затылок между косами. – Тогда что же получается, ты правду нам говоришь?
– Идёмте, покажу.
На этой стоянке они встретили уже десяток пробуждений. Чтобы не заблудиться во времени, Керме брала иглу и ставила узелки на клочке войлока, который постоянно таскала с собой, за пояском. Узелки ставятся в столбик, если аил стоит на месте. Если шатры сложены и мир превращается в череду бесконечных покачиваний, грохотания колёс, Керме ставила отдельный узелок рядом и последующие ставила уже в ряд, до тех пор, пока мир, как пшено в кувшине, который хорошенько встряхнули, не становился на своё место и шатры снова прочно не врастали в землю. Тогда она начинала новый столбик.
Это помогало ей не потеряться в бесконечно пустом пространстве. Керме говорила себе: мы в дороге, всё хорошо. Вон тянет песню бабка, скрипит иголка, ныряя в чей-то халат, и прореха в нём становится всё хуже. Вон с весёлым гомоном отмечают путь каравана стрижи. Сминала в кулачках свой войлочный платок, и ждала нового утра, чтобы поставить очередной узелок. И мир переставал молотить копытами по воздуху, и худо-бедно опускался на четыре ноги, фыркая и прядая ушами.
Это стойбище отличалась от других. Встали они лагерем возле большого бугра, на который карабкались, поддерживая друг друга крючковатыми руками, кусты малины. Как жеребёнок, что припал к соску кобылицы влажными губами, дымом от печей окружил всхолмие аил.
Керме нашла это странное место, когда пошла искать отару. Что-то заставило её повернуть сюда, ободрать ступни о колючие кусты, которыми побрезговали бы даже верблюды. На острогу интереса насадил её тонкий голосок, словно звавший именно её: «Кермее-е, Керме-е-е…» Лишь подойдя вплотную, она поняла, что это вой ветра, утекающего в небольшой овраг и трущегося боками о голые камни, гладкие, словно голышки на дне ручья. «Земляная кость», – назвала её про себя девочка.
С минуту она колебалась, вслушиваясь в зов, а потом решилась и, раздвигая ветки, двинулась дальше.
«Конечно, он зовёт меня, – подумала она с нежностью, и немного со страхом. – Я же его невеста».
Сейчас она нашаривала ступнями свои следы, которые травяной покров за четыре дня запомнил и вплёл в рисунок рядом с вялыми цветами желтоцвета и кашки. Отхон позади ойкнул – укололся о малиновый куст. У Керме все руки были в подживающих уколах.
Наконец вышли на свободное место. Ветер здесь завывал и швырялся мелкими камушками и комками земли.
Нугай протянул:
– Во дела…
– Это выбрался наружу огромный крот, – авторитетно сказал Отхон.
Керме чувствовала лопатками, как начинают цепляться друг за друга, заслышав этот звук, мальчишки. Всё-таки они боялись. Её накрыла странная радость: они боятся её жениха, сильного и свирепого ветра!..
– Давай стрелу, – сказала Керме.
Нугай развязал тесёмки на своём колчане, и девочка ощутила между пальцами гладкое древко. Отец Нугая не пожалел времени, чтобы сделать сыну колчан стрел, правда, всего лишь учебных. Наконечник был туго обёрнут тряпицей, в которую для весу вложен круглый камешек.
Цепляясь за дёрн и камни, девочка спустилась вниз, и ветер осторожно взял у неё из рук стрелу. Сдвинул на затылок шапку – Керме готова была ответить перед Тенгри, что слышала подобающие звуки, – загудела тетива, и сверху, где остались мальчишки, раздался дружный вздох.
– Далеко? – спросила Керме.
Камни у основания оврага на самом деле густо поросли ковылём, и Керме была уверена, что свою волшебную тетиву он сплёл из него.
– Где она, – шепчутся ребята, не обращая на неё внимания. – Где она? Ты видел?
– Ну что там?
Керме опустилась на четвереньки, и стала выбираться из овражьего зева, похожего на раззявленную змеиную пасть.
– Он сломал стрелу и швырнул её на камни, – сказал Отхон.
– Твой ветер совсем не умеет пользоваться луком! – в нос сказал Нугай. Когда он сердился, ноздри его, казалось Керме, извергают целые облака горячего воздуха. – Кто его только учил?
– Он учился у лучших племён по всей степи, – произнесла Керме и впервые в жизни заметила в своём голосе нотки надменности. Но она понимала, что это её триумф. – Он не хочет стрелять напоказ, перед сопливыми юнцами и к тому же чужой стрелой. Его стрелы – это птицы и стрекозы, да такие быстрые, что ты едва успеешь услышать трепетание их крылышек.
Мальчишкам нечего было возразить. Свою речь она не репетировала и никогда не проговаривала про себя, но та звучала убедительней, чем слова Нугая.
– Ну, ты рассказывать, – наконец, неловко сказал Отхон.
А Нугай протянул нарочито беззаботно:
– Точно. Ну, мы пойдём. Оставайся тут со своим воображаемым другом. Сказать тебе, что он состоит из двух каменных стенок и мха на самом дне?.. Идём, Отхон.
Керме осталась побыть наедине с ветром и покормить его с руки малиновыми листочками. Никто не смел отнять у неё первую в жизни значительную победу.
Глава 3. Наран.
Бегунок был невысоким жеребцом каурой масти. С Нараном на двоих у них было множество общих воспоминаний. Он не такой, как другие лошади: Нарану это нравилось, хотя в некоторых случаях немного обижало. Жеребец не выказывал никакой радости, когда к коневязи подходил хозяин, хотя мог узнать его запах и даже звук, с которым хрустит под ногами земля, из сотни других. Он навострял уши, скашивал глаза и сосредоточено начинал жевать траву и пускать из-под хвоста газы. Если перед его мордой была голая земля, то просто делал жевательные движения, уткнув вниз морду. Седло постоянно сваливалось со внезапно становившейся скользкой и несимметричной спины, шёрстка становилось колючей и похожей на ежовые иголки. Для интереса Наран как-то принёс гриб и легко приколол его к боку шляпкой вниз.
Кроме того, иногда приходилось следить, чтобы жеребец не отдавил тебе ногу, что делал он, конечно, специально. Это уже вообще не лезло ни в какие аилы.
Но если попробовать сделать в брюхе надрез и сцедить лень, такой наберётся очень мало. Он не ленив – он просто был очень спесивым. Или обладал таким чувством юмора, которому могли бы позавидовать даже шаманы, вечно шатающиеся после своих снадобий или после потребления настоянного на травах козьего молока.
Как всегда, пришлось некоторое время побегать, вглядываясь в лошадиные силуэты, чтобы найти Бегунка. Он мог обнаружиться, например, ближе к кобылам с жеребятами, которых держали отдельно, никуда не привязывая, – всё равно без вожака стада друг от друга они никуда не уйдут. Бегунок же часто оказывался не там, где привязал его хозяин, и Наран видел, как его зеленоватые от травы зубы мусолят столбик коневязи.
– Я уверен, он берёт его в зубы и переносит, куда нужно, – как-то сказал Наран.
– Кто? Куда? – Урувай проследил за взглядом Нарана и увидел хитрые глаза каурого. – Он что, по-твоему, зарывает его копытами?
– Не знаю. Но они у него в земле. А в зубах щепки.
Друг смеётся.
– В дождь или в холодный снег – ты ни разу не обнаруживал этого демона в своём шатре?
Наран засмеялся тоже.
– Думаю, когда-нибудь я обнаружу себя привязанным к коневязи. И ничего не смогу сделать. У меня ведь нет таких вот зубов…
Ночь проходила мимо. В аиле постепенно стихла пирушка, и легко можно было представить, как мужчины, насытившись и вдоволь напившись воды, разлеглись прямо в шатре дяди Анхара. Женщины, бережно убирая их ноги со служившего столом ковра, тихо, как ночные мыши, очищают стол от объедков. Кто посмелее, будят мужей и уводят их в шатры.
Не спалось. Урувай пристроился возле своей лошади, зарывшись в одеяло, и Наран видел его живот, полукруглым клеймом отпечатавшийся на фоне неба. Это видение волшебным образом превращалось то в скорбный лоб бати Анхара, то в полукружья лепёшек с тмином, что подавали на пиру. Но настоящий сон так и не приходил. Зато над горизонтом заалела свежая полоска, предвещающая рассвет.
Наран поднялся. В темноте обошёл своего невысокого скакуна, два раза хлопнул в ладоши.
– Айе! Бегунок! Это я.
Жеребец сделал вид, что спит и в такое время суток хозяина узнавать не собирается.
– Отвязывайся и седлайся. Уздечку я тебе принёс, положу вот здесь. И нужно ещё начистить копыта. И мне тоже, вот эти сапоги.
После того, как отзвучала, шутка показалась Нарану очень неуместной. Бегунок стоял, уставив морду в землю, как будто собрался сделать кувырок, и лишь слегка топтал траву передними ногами.
Наран пристроился рядом, сложив под собой ноги и подставив горячему дыханию свою шевелюру.
– Сегодня мы отправляемся в дальнюю дорогу. Ты сжуёшь всю траву, до которой доскачут твои копыта, а я, чтобы не голодать, буду питаться слепнями, которых соберу с твоей шкуры. Так мы будем жить, пока не доберёмся до гор. Не будет ни шатров, ни костров, а от дождя или, если путешествие затянется, от снега я буду прятаться под твоим пузом. Ай!
Бегунок показал, что при таком образе жизни ему будет необходимо жевать хозяйские уши.
– Чтобы опередить зиму, нам нужно будет звать на подмогу ветер, чтобы даже ковыль склонялся в сторону нашего бега. Ты помнишь зиму? Которая сковывает твои ноги глубоким снегом и даёт тебе сделать только трудные и медленные шаги… Нельзя допустить, чтобы она нас застала!
Наран вскочил, обошёл жеребца. Проверил, красиво ли лежит грива. Даже попытался от полноты чувств перепрыгнуть через него, но не рассчитал высоту прыжка и съехал по боку обратно.
– Я придумал. Ты будешь скакать так, как будто у тебя нет всадника. А я стану твоими лёгкими и твоей кровью, буду ухаживать за тобой на привалах, как раб за добрым монголом. Тебе нравится эта идея? Я знаю, что нравится. Ну-ка, давай как знакомые с детства монголы пожмём лапы…
Завладев конским копытом, Наран стал чистить его, выковыривая землю специальной палочкой. Когда он добрался до третьего копыта, приглушённый гомон увядающей пирушки принёс грузные шаги. Это Урувай, он извлёк из полутьмы своё тело и тело лошади на поводу.
– Ты чего тут орёшь среди ночи?
– А ты чего припёрся?
Толстяк помахал перед лицом ладонью.
– Если уж суждено провести остаток ночи на ногах и по локти в лошадином поте, давай сделаем это вместе. Всё равно, не могу я спать когда… когда происходит такое.
Невыразимое Урувай продемонстрировал серией гримас. Наран кивнул.
– Представь, что мы отправляемся в далёкие земли за сокровищами – за шелками и расшитыми золотом одеждами. За оружием, украшенным такими блестящими камушками, как будто это сами звёзды.
Друг усмехнулся:
– Тогда мне нужен круп пошире. А ты… признайся, что сокровища тебе, как листья в тех лесах, о которых поётся в песнях. Только посмотреть, похмыкать, померить, длиннее ли тень от них тени от твоего члена. И пойти дальше.
Наран молчит, и Урувай не отстаёт.
– Ну вот куда тебе, с твоими щуплыми телесами, шубы и мантии?
– Сделаю из них попону для коня. Такую, чтобы сидеть повыше.
Смеются, а потом снова сгущается молчание.
– Я бы нашёл себе музыку, – сказал Урувай. – Какие-нибудь новые звуки. Знаешь, чему я сейчас учусь? Только послушай! Я научился воспроизводить, как деда Ошон пытается попросить своей половинкой языка ещё молока и мяса.
Наран снова усмехается. Деду Ошону, когда он ещё не был дедом и лёг прикорнуть под солнышком в высокой траве, съели половину языка мыши. Разговаривать он стал очень непонятно, зато прекратил храпеть, чему очень рады две его оставшиеся в живых жены.
– Сочиняй о нём сказки, – посоветовал Наран. – Получится очень здорово. Деда Ошон тебя боготворит и завещает тебе своё шатёр и своих старых кляч. Я про жён, конечно же…
– Тебе бы всё смеяться. Только представь! Новые звери, невиданные птицы, да послушать, как выдыхает из ноздрей горячий воздух земля… это было бы хорошо. Хорошо бы ещё научиться воспроизводить звуки битв: какие же сказки без драк и схваток, но для этого я слишком труслив. А те, что у меня получаются, похожи больше на возню моего деда с жёнами в постели, чем на битвы.
– Зря ты всё-таки хочешь со мной ехать. Там будет очень трудно. Представь только, нашим главным блюдом будут кузнечики!
Урувай сглотнул комок, но замотал головой:
– Пусть кузнечики. Но мы вместе с детства, и я не хочу отпускать тебя одного.
Наран сказал, пытаясь придать голосу суровости:
– Если отстанешь, обещай мне, что повернёшь обратно.
– Хорошо, – нехотя согласился друг. – Но поклянись небом, что не будешь специально от меня убегать.
На том и порешили. Помолчали немного, пытаясь пристальными взглядами как-то повлиять на расширяющуюся полоску рассвета. Наран сказал:
– Ритуал отправления в путь.
Урувай вздрогнул, и закивал.
– Да.
В аиле шаманы начали своё предутреннее представление для Тенгри. Считается, что когда спит его единственный глаз, он видит сны о том, что происходит на земле, и шаманы во всех аилах стараются подарить ему замечательные сны, полные огня и дыма. «Не то, – думал Наран, – чтобы Тенгри не узнал в горбатых шаманах в масках разных животных горбатых шаманов в масках разных животных, но может, он от души посмеётся».
– Поднимайся, нам пора, – говорит он Уруваю, и друг что-то невразумительно мычит, пытаясь вытянуть затёкшие ноги.
Оба сидят между лошадьми, расстелив на земле плащи. Обоим кажется, что на губах ещё держится горячий солёный привкус.
Надрезы сделали на крупе, передавая друг другу Наранов ножик и стараясь повредить шкуру животного как можно меньше. Днём на привале на образовавшуюся корку налетят мухи и слепни, но пока ранки не причиняют лошадям никакого беспокойства.
После этого припали губами к ранке, слизывая выступающую кровь и слушая, как глухо отдаются в затылке удары хвоста. И Наран, и Урувай слышали о таком ритуале, ритуале отправления в бой или в дальнюю, важную дорогу, когда нужно, чтобы всадник и лошадь были одним целым, но никому из их аила не было до этого в нём нужды.
Лошадей пугает запах крови, и поэтому обратная передача крови происходит через холку. Нужно прокусить себе язык или проковырять чем-нибудь десну, и сплюнуть на холку коня. Жидкость в этом месте впитывается лучше всего.
Они надеялись, что сделали всё правильно, а спустя какое-то время в их сознание проникла уверенность в этом. Кровь в венах вдруг стала вполне ощутимой, как будто жидкость замёрзла и корябала вены кристалликами льда. Тело лихорадило, и чуть позже Наран понял, что на самом деле она нагрелась, сравнялась по температуре с температурой тела лошади.
Перед самым выездом от аила к ним пожаловали несколько мужчин. За рукава их держались сонные мальчишки. Наран был рад, что гости не пришли раньше, и те, похоже, понимали, что двоим путникам нужно было подготовиться к дальней дороге.
– Это очень плохо, что вы идёте против воли старейшины, – сказал один.
– Я привезу ему степных цветов, – сказал Наран. – Может быть, горных маков.
Ответом ему был дружный хохот.
– Хорошо, что гриф пощадил твоё чувство юмора. Хотя, похоже, немного поклевал мозги. Но не думай плохо о старейшине. Он заботится об аиле, и для него важна каждая блоха на спине каждой овцы.
– Он их пересчитывает? И как же он справляется? Наверняка ему не хватает десятого пальца.
На этот раз монгол не улыбнулся, и Наран понял, что немного перетянул стремена.
– Ну хватит. Праздник не удался. Старший весь вечер сидел хмурый и рано ушёл спать. Главное, чтобы ус по этому поводу не обиделся и не прекратил расти. Ни один монгол не вынесет такого позора. Короткие усы! – мужчина покачал головой. – Такие могут быть только у детей.
Когда солнце показалось над горизонтом, они отправились в дорогу. Никто не вышел их провожать – напротив, случайный мальчишка-пастух, проснувшийся за час до этого и наблюдавший издалека за последними приготовлениями, поспешно отвернулся к юртам. Если смотреть на уходящего в степь путника достаточно долго, можно увидеть, как следом в высокой траве семенят маленькие степные божки и несут в руках лошадиный помёт и мёртвых птиц для проведения свадебной церемонии. В жизни наблюдателя и в жизни путника этот миг станет поворотным моментом, так как у каждого свои, тайные отношения с Великой Степью, и она никогда не прощает излишне любопытных. Йер-Су может быть жестокой, как бешеная волчица.
Урувай, насвистывая, обозревал горизонт, Наран жевал травинку. Страх прошёл. Может, тому помог ритуал, может, то, что они наконец сдвинулись с места. Не струсили и не испугались в последний момент.
Ехали небыстрой рысью, чтобы дать лошадям разогреться. Урувай подгонял кобылу тычками и пинками и тихо ругался.
– Когда ты издохнешь, в небесных степях для тебя уже заготовили роль шатра. Ему-то уж точно не нужно никуда ехать самому. Шевелись уже, ну?
Кобыла только грустно вздыхала и спотыкалась, словно бы специально, на самом ровном месте.
– Смотри, как бы ты в Небесных Степях не стал резвой кобылкой, – насмешливо сказал Наран.
Постепенно как-то сама собой возникла походная песня. Урувай устал свистеть, начал клевать носом и тогда, чтобы не уснуть, затянул:
– Горизо-о-онт и солнце прямо в глаза…
Трава ложится под копыта моего коня,
Жухлая, потому что скоро под копыта моего коня ляжет осе-е-ень…
Наран подхватил, сначала робко и негромко. Он всё умел делать лучше Урувая, но у того было два неоспоримых преимущества: лицо без отметин, пусть не самое симпатичное и похожее на морду земляной жабы, но зато без отметин – и голос.
– Бегут полевые мыши,
А зимородки, похожие на стрелы,
Летают вверху.
Толстяк одобрительно хмыкнул, и дальше затянули уже вместе:
– Справа камни, слева камни…
То маленькие камни, нужные только суслам.
Мы едем искать большие камни.
Большие камни – где стон бубна
Духов призывает…
Даже лошади подхрапывали в тон. Так и пели, пока не запыхались.
У Нарана с собой была небольшая дудочка-свистулька, сделанная из косточки какого-то животного. Играть он на ней почти не умел, но когда уставал петь, старался внести небольшой вклад в общую мелодию.
– Петь у меня получается не очень, – чуть смущённо сказал он.
На привале друзья спешиваются, и Урувай объясняет:
– Это довольно легко. Ты просто берёшь звуки, которые издаёт степь, и раскладываешь их на земле.
Он оглядывается и собирает куста сморщенные ягоды шиповника. Затем набирает с соседних растений каких-то семян и цветов кашки. Лошадь тянется к рукам, надеясь на подношение, и Урувай великодушно делится цветами.
Добыча его расположилась на проплешине, где трава уже была выедена с корнем лошадиными губами. Урувай рассыпает семена, бросает как попало ягоды и щёлкает по носу лошадь.
– Всё вокруг звучит как попало. Ты не найдёшь там никакой закономерности, никаких связей. Куропатка кричит только тогда, когда ей вздумается закричать, она никак не соотносит свой крик со скрипом кузнечиков. Но есть мистические звуки. Они постоянны и повторяются через равное время. Именно они делают музыку.
Пальцы копошатся в земле, делая в линию, на равном расстоянии друг от друга маленькие ямки.
– Когда тебе нужны эти звуки, ты вспоминаешь, как шумит в траве дождь. Или как идёт по ровной степи хороший иноходец. Цок-цок, ритм готов! Ты берёшь все звуки, которые нужны тебе, чтобы рассказать сказку, и голос своего морин-хуура, и выкладываешь на ритм, – он пальцами перекатываетягоды в углубления. – Получается песня. Если нет морин-хуура, просто слушаешь ритм природы. Вот и вся музыка. А ты говоришь – сложно.
– Это всё шаманское искусство, – пробурчал Наран. – И ты тоже шаман.
Тем не менее, когда снова запели, получилось в лад, аж удивительно. Словно сунули руки в две разных заячьих норы и встретились там крепким рукопожатием.
В голове Нарана сами собой всплывали слова отца:
– Мы живём в степи, мальчик. Она бесконечна. Когда ты скачешь по ней, её дыхание проявляется в тебе. Копыта коня становятся твоими ноздрями, и через них ты чувствуешь, как вздымается её грудь. Это грудь нашей матери. Если тебе повезёт найти сосок, ты вдоволь напьёшься её молока.
– А ты его пробовал? – спрашивает маленький Наран. Он сидит у отца на коленях и играет с его усами. Дёргает то за один, то за другой.
Отец жмурится, и морщины от этого становятся особенно заметны.
– Оно должно быть кислое, как кумыс. Только ещё гуще и ещё кислее. Нет. Я не пробовал. Грудь великой матери везёт найти только настоящим смельчакам. Притом что они совсем её не ищут, а следуют за своими мечтами…
Можно ли их двоих назвать смельчаками? О да, у них есть мечты, ну, во всяком случае, у Нарана. Накормит ли степь их своим молоком?..
Всё вокруг казалось неправдоподобно огромным, слишком громко заливались песней сверчки, слишком низко летали сойки. Будто людей рядом нет и не могло быть. Обычно кочующее племя сопровождали целые тучи пыли и различных кусачих насекомых, ведь за гружёными всадниками двигались повозки с юртами, а перед ними – табуны коней, кобыл и жеребят, и отары, и стада коров в окружении беспрестанно лающих собак. Только высылаемые вперёд дозорные могли видеть, куда движется аил.
Не было ничего, что не мог бы подмять под себя этот огромный слизень, и не было ничего, что бы он боялся. За ним оставалась скомканная и вмятая в землю трава и лепёшки навоза. В свежей земле, вывороченной колёсами телег, мелькали сырые черви.
Теперь же друзья чувствовали себя парой земляных жуков, заброшенных чьей-то безжалостной рукой слишком далеко от дома.
– Ты и вправду надеешься уйти в горы и вдруг встретить там Тенгри? – спросил Урувай.
Вся его фигура вызывала желание протянуть руку и спихнуть со спины коня, согнать, как большого, объевшегося крови овода. Сгорбился над загривком лошади, волосы повылезали из-под завязок и неопрятно висели по обеим сторонам лица.
Наран более жизнерадостно смотрел в будущее.
– Я найду тамошних шаманов. Они должны мне помочь. Наверняка они видят Тенгри каждый день за обедом.
– И ты думаешь, что он даст тебе новое лицо или новую жизнь, или что?
Тяжёлый поход развязал узлы на языках друзей.
– Над этим я ещё не думал, – честно ответил Наран. – Даже у мухи с одним крылом есть назначение. Погибнуть и послужить пищей травяной ящерке.. у меня же цели нет. Совсем. Знал бы ты, как я хочу быть хоть для чего-нибудь нужным.
Урувай задумался над тем, есть ли назначение у него самого, но вслух ничего не сказал. Наверное, подумал он, его назначение в том, чтобы сопровождать и поддерживать в путешествии друга. Эта мысль приободрила его, и он слегка выпрямился.
– Может, он уберёт твои шрамы.
Наран вытянул трубочкой губы.
– Он взглянет на меня и ужаснётся. Великая Кобылица ни за что не может родить ему такого уродливого сына и носить его потом на своей спине. Все её сыновья прекрасны. Конечно, он уберёт мои шрамы.
– И что ты будешь делать потом?
Наран открыл рот, чтобы ответить, но тут же его закрыл. Задумчиво проследил, как бежит ветерок по пустым коробочкам конского яблока. Семена уже вызрели и рассыпались по сдобренной дождём земле.
– Чего пристал, – ответил он наконец. – Я об этом ещё не думал. Может, вернусь в аил. Может, найду себе жену в горах, уйду в степь по другую сторону гор и стану зачинателем нового аила. Пока что это так же важно, как твоя грязная шея.
Летом монголы переходили горы и уходили далеко в северную степь, чтобы испробовать на вкус тамошнего ковыля. Звери там были непуганые и по ночам приближались к кочевью почти вплотную. Воздух более влажный, чем на засушливой родине, а при желании и если женщины и дети не будут сильно тормозить поход, можно дойти до мест, где сама земля становится топкой от влаги. Где до самого края мира тянутся болота и где нет никакого спасу от кусачих насекомых.
– Наши-то оводы, – говорил отец Нарана, – ни черта ночью не видят. Ну, разве что, такую тушу, как конь, разглядеть могут. А эти летают-летают, жужжат-жужжат… даже ночью донимают. Неет, наши оводы роднее, скажу я вам.
Зато трава здесь была на самом деле зелёная. Такая сочная, что как сорвёшь травинку, так брызжет из неё сок, как будто кровь из перебитой вены.
Люди там жили тем, что питались соками земли. Землю они взрезали длинными ножами, сеяли семена. Рыли каналы, чтобы рядом с посевами всегда была вода. Всё это было для кочевников в новинку.
– У нас бы ничего не получилось, – говорили они, – степь бы нас прихлопнула, словно муху. Больно сухая земля, да и не приняла бы она в себя теплолюбивую и нежную, вашу эту… как её? Гречиху.
К осени возвращались в родные земли, везя в животах коней тёплую молочную траву и залегали на зимовку как раз ко времени, когда небо начинало хмуриться непроглядными тучами и с земли поднимался, словно снежный барс, ветер, обдирающий семена со степного костра. Такая зима кочевникам привычнее, и когда выпадет первый снег, похожий на мелкую манку, они уже обустроят как нужно юрты.
– Те зимы не про нас, – прибавлял Наранов отец. – Они мягкие, как коровий навоз, в то время, как наша сечка, бывает, оставляет на незащищённых щеках царапины. Местные жители зарываются в снег, словно дикие барсы…
Видя, как толстяк поспешно плюёт на ладони, как трёт ими свою могучую шею, Наран засмеялся.
– Никто ведь тебя не видит. А мне какое дело до твоей шеи?
– Ты думаешь, я тоже прекрасен? – робко спросил Урувай.
– Волнуешься? Хочешь себе жену?
– Хочу.
Краснота перешла с шеи Урувая на его подбородок, а потом и на щёки.
– Вернёшься, подберёшь себе такую жену, какую только захочешь, – разрешил Наран.
Так, за песнями и разговорами ни о чём, они скоротали время для первого ночлега. Лошади, казалось, только слегка запыхались, да и то от вида свежего ветра и бескрайних просторов. Бегунок радостно подбрасывал круп, а Наран устало его бранил и шлёпал ладонью по ушам.
С наступлением сумерек степь превращалась в серию толчков и падений, все чувства кроме тактильных и в некоторой мере обоняния и слуха, пасуют перед слепой ночью. Стараешься идти медленной рысью. Падать на ночлег можно где придётся, друзья так и поступили, свалившись с коней, просто когда поняли, что на сегодня хватит путешествий. Наран долго присматривался к кустам, к которым собирался привязать коней. Боялся, что они могут, к примеру, сигануть с места двумя перепуганными сайгаками.
– Славная бы вышла сказка, – расхохотался Урувай. – О неудачниках, чьих коней похитили сайгаки. Я бы с удовольствием такую рассказал.
Поужинали собранными им в аиле лепёшками и кусками мяса и упали спать, даже не разводя костра.
Утром Наран проснулся, чувствуя, как мышцы играют в перетягивание каната. На руках вздулись волдыри, на голенях в паре мест показались синяки. Стряхнул с груди прикорнувшего там кузнечика, поднялся и с охом опустился обратно.
Урувай, похожий на беспомощного быка с подрезанными сухожилиями, сочувственно пошевелился:
– Что, тоже не очень спалось?
Наран разглядывал хмурое лицо толстяка.
– Ничего не поделаешь. Пришёл рассвет, значит, надо ехать дальше. Чем хорош рассвет: он всегда вовремя и никогда не даст тебе проспать.
Друг перекатился на бок. Для ползающих по нему букашек, одного шмеля и примостившейся на большом пальце левой ноги стрекозы это было настоящим землетрясением. Наран прибавил:
– Когда-нибудь кто-нибудь в великой степи придумает искусственный рассвет из глины, водяных капель, песка и двух-трёх прутиков камыша. И это их погубит.
Второй день пошёл далеко не так гладко, как первый, и начался с того, что когда они всё-таки поднялись и начали собирать плащи, Урувай что-то увидел. Глаза его расширились, изо рта брызнула слюна:
– Оглянись!
Позади них, всего в десяти шагах возвышался огромный муравейник. Такой, что толстяку доставал до подбородка, а Нарану едва ли не до макушки.
– Я никогда не видел таких муравейников, – сказал он.
Урувай покивал. Большая часть муравьёв, должно быть, гонялась за сайгаками-кузнечиками. Рабочие достраивали задетую каким-то животным стенку, стаскивая туда комочки засохших травинок, палочки и семена растений. С другой стороны женщины вывели на прогулку детишек-куколок. А на самой макушке муравьи-шаманы восславляли Тенгри, устраивая дикие пляски вокруг крылышек пойманной и давно уже съеденной стрекозы. В лучах солнца крылья серебрились и напоминали огонь.
– Так вот почему я так плохо спал. Эти зверюги небось понадёргали из меня лучшие куски.
Урувай задрал халат. Придирчиво измерил пальцами толщину жировой прослойки на боку.
Наран не мог оторвать взгляда от муравейника, смотрел, как отряд муравьёв, весело соприкасаясь усами, отправился доить колонию тли на лопухе здесь же, совсем рядом.
Урувай сказал:
– Я слышал, некоторые муравьи, кроме таких наземных юрт, роют ещё и подземные. Такие глубокие и с таким множеством ходов, что земля не выдерживала большого веса и люди или лошади, что проходили сверху, проваливались вниз. Это как червивое яблоко, что лопается в руках. Хлоп! – он сцепил пальцы, сделал движение ладонями друг к другу. – И нету. Пойдём-ка отсюда.
– Да. Позавтракаем где-нибудь в другом месте.
– Сейчас, только наберу нам муравьёв на закуску…
– Пошли, – Наран дёргал приятеля за рукав. – Наловишь их потом на себе.
За завтраком они до последней крошки доели то, что им собрали в аиле, сжевав даже листья щавеля, в которые была завёрнута еда, и начали свои запасы. Там был кусок вяленого мяса и горькие травы, которые помогают утолить аппетит. На сегодня и на завтра хватит. Послезавтра придётся глодать кости.
– Сколько дней ходу до гор? – выразил общие мысли в осторожном вопросе Урувай.