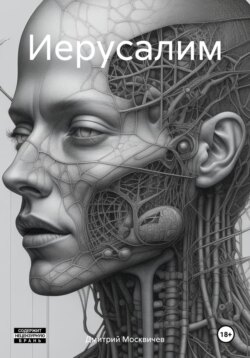Читать книгу Иерусалим - Дмитрий Александрович Москвичев - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Некоторые отдельные обстоятельства, происходящие в мире
Оглавлениеиз дневников автора
…с моря явился Зодиак.
во-первых, соседка по ночам стонет и мешает спать, что, вполне возможно, конечно же, поделом ей, не знаем, ни разу не видели, может быть, и правда красивая, а нам выходит бессонница и нарушеньережима;Стало быть в третьем часу, когда звёзды китайские на кумачовых портьерах еще не погасли, в год от рождения Иосифа шестьдесят первый, в зимнюю оттепель произошло следующее:
во-вторых, содержанье;
в-четвёртых же имеется в виду намеренное отступление от правил хоть бы и ради самого только отступления, потому что везде всяких тварей по паре, стаканов по три, а четвёрка выглядит как в дневнике школьном: ну «хорошо» и хорошо —и отвернутся, будто пустое место. Лучше уж в двоечники тогда, лучше тогда окружить в самом деле ореолом неповиновения, бунтарства, нарисовать на концах пионерского галстука свастики, мол, дурак-то дурак, а вы, государи мои, подите на хуй;в-третьих, автор, некогда служивший ночным сторожем в детском саду номер такой-то, и превысивший свои полномочия в виде ненадлежащего, даже бессовестного, что ли, купания в бассейне, будучи нетрезв и без шапочки, теперь чист и гладко выбрит, и жизнь свою прежнюю мнит за кошмарный сон, будто ничего такого с ним никогда не было, да и вообще;
в-пятых, за такое поведение можно и в интернате пожить до самого выпускного для трудновоспитуемых: в таких-то заведениях принято выкуривать приму в одну затяжку и всякое иное дурачество, потому что лучше уж дураком, чем дежурным по тряпке каждое ссаное утро;
в-шестых, – это важно, – других не бывает;
на седьмой же день автор встал кое-как и, наконец, понял: Творец из него так себе. Ну явился и явился. Никто и не требовал.
В тройной короне с полумесяцем…
Так кто ж я, наконец? Часть той ли силы: неведомой иль всем вполне известной, сокрытой ли, торчащей под самым носом кисточкой смешной или шевроном грозным, скажу иначе, макнув рыбью кость в чернильную заводь: свет ловится на мотылька.
Иной переводчик с художественного скажет, мол, что же ты, автор, я тебя сам трахну, какой свет на мотылька, тут ты наплёл для красного, потому что все знают, что не свет, а мотылёк летит, а ловят на мотыля и —рыбу, отсюда у тебя и кость, и заводь, и чёрт-те что, и вообще ты не с того начал, мать твою, жопа. Я же, приняв, отвечу: от. От красного.
Как всё-таки мало надо автору: развёз по листу три капли – и вот уже вообразил, что его переводят.
Свет же не только есть волны в интервале частот, но и души утро, и розга для людей тёмных, дабы учились хорошо и не списывали, и костёр для тех, кто всё-таки выучился. Потому что как по календарю есть, так и выходит: не является утро к ужину, а мудрец неизбежно стремится к обскурам. Вот такая херовина.
Можно, конечно, сплюнув железо, уведомить (хоть бы из одного только баловства и негодования), уподобиться, скажем, фон Гуттену и черкнуть пару писем умственно и морально убогим, да посмеяться всласть. Но сластно подобное разве только подобным, вот что. Да и костёр с этого ракурса выразительней. Впрочем, как писано, похвалы достоин тот, кто всегда весел, также и врачи говорят, что здорово быть весёлым.
Канделябры в пять свечей, транспаранты каббалистические, мебель под семнадцатый век, фолианты о телячьих кожах с застежками из белого золота и слоновьей кости. А внутри, честно говоря, хабиб круче конора и прочее сетера.
Что же теперь, извозить белый свет на манер французский, скажем, позднего Нестора Махно, продырявить обрывок из-под житана, прожечь тлеющими точками анархическое до самых костей: к чему эти великие и хрупкие всполохи мёртвых звезд, брюзжание электричества за плачущими окнами привокзальных кафе, где справляют нужду абсурдные животные и кавалькады планет и что там ещё автоматического, так, если кончатся в розах салфетки, то можно писать на столах, после – свалиться под и продолжить на липком полу, пока вежливый до омерзения гарсон не кликнет жандарма, папа, папочка, mon pere, тут сын твой замутил революцию. Вытри.
Нетушки. Баянно как-то. Не гармонирует с провяленным мясом планеты. Может быть, может быть ещё чего-нибудь такого, как например: гой еси государь-секретарь Парфён Елистратович, гвоздиками золотыми балуется, в православные жопы целуется аки жар-птица суть петух тот же, в морозы крещенские стреляет из палат своих зомбаков радужных, дабы и себя развлечь охотой славной, и отечество от скверны заморской очистить. За такое и медаль дать могут, и премию за особые какие заслуги. И пять и три с конфискацией, если не поделиться. Тоска, одним словом. Молись и Карлсон.
– Может, Сталин с огнемётом такой быдыщ всех?
– Было.
– Комсомольцыушли в хтонь и заблудились в концептах?
– Тоже.
– Ёбана… А может…
– Не может.
– А что, если…
– А вот это давай попробуем. Начал, так теперь и кончай со всем этим.
Брат мой великий, я бы даже сказал большой, один ты мне услада, награда, читатель вдумчивый и тропинка дачная, ведущая вдоль пологого берега реки стылой до самого расщепления всех моих Я: собственных и других, с большой и маленькой, пойманных в разные такие истории, то ли болезни, то ли подвига, то ли ничего такого и выдающегося, писаных кривенько и неразборчиво, так сказать, по-деловому, при свете настольной лампы и никаких тебе канделябров, чего ещё выдумал. В кружке кисленько от лимона. Так где, говоришь, была водокачка?
писано при свечах по случаю
варварства человеческого
Жил он сначала у самой реки. Иногда приходил к ней в пору дождливую, топтался на волнорезах, бормотал всякое. От сильного ветра и навигации былоне услыхать. Да и жил, в сущности, как чистый единичный пример человеческого рода, стараясь не задеть других понапрасну. Чаек ли, живородящих в ассортименте, углы панельных домов, автомобили, моргающие из тени арок, некоторое количество насаждений по бокам своего геометрического пути.
Так чайки ли то кричат или душа поёт неумело? И зачем он пришёл. Эка невидаль – мир вокруг. Мир внутри – вот где тьма тараканья. Темница эонов. Не так. Ризома ветров. Мирозданья основ шебуршенье. Бибабо сочленений. Мир, понятное дело, это что-то там в виде ниток промеж двух актёров (акторов?), или гриб какой, это, впрочем, неясно. Лабиринт забуждений. Проблуждение язвы пространств. Реку эту дождит. Знобит эту реку. Стоишь тут, стало быть, важничаешь, изгнанный на сколько по десять из тёплой однушки, съёмной опять же, вообще никто не спрашивал, и вот навертел херни какой-то, обозвав жизнью, теперь стоишь, губу выпятил, как дурак, что там в памяти шебуршит? Берег чужой и далёкий? Города, построенные на воде? Улочки узкие, мощёные сеном? Это ж всё где понаписано? Содрано с каких заборов таких? Где здесь твоё? Есть ли моё и это? Найти б осла такого, чтоб научить где чьё и отличать один пучок травы от пучка другого. Осла, например, точно можно купить на avito. Можно купить и назвать Львом, и рассказать ему о безбрежной тоске по Неле. Он бы расплакался. Можно ли купить Неле. Купить и рассказать ей, что осёл разревелся, узнав, как сильна бывааааает тоска в груди у, впрочем, случайного человека. Ни осла, ни любимой, ни любви самой, хоть бы лавры тогда, что ли, или барыш какой, корона солнечной Фландрии, наконец. На худой. Худобродящие переливы прилива, здесь, прямо скажем, нигде, только и остаётся, что стихи бормотать, сочинять жизнь, что ли, скалиться от порывов ветра, лишь бы за хохму какую живьём не сожгли. Сожгут, мой хороший, обязательно сожгут. Назовут энтропией. А потом пойдёт дождь, и напитается земля, чего-нибудь да и вырастет.
Шёл дождь и теперь. Невдалеке ушедшие в запас матросы состязались на катамаранах. Таранили друг друга, шли на абордаж. Праздник, стало быть. С* украдкой поглядывал, улыбался чужому веселью, будто не приглашали. На посудинах пластиковых размахивали тельняшками, пели, братались, подружек щупали, норовили кинуться за борт не тостуясь. «Не приглашали». C* ковырял ботинком искусственный камень, застывший пятиконечной звездой, вспоминал стихи по поводу: бросались в океан матросы И глубоко звенели под водой Часы ныряли Снег в оконной раме Я говорил не быть… как же… как же. Надо бы всё-таки уехать отсюда, – думал С*, – из мест этих временных, поселиться уж где-нибудь навсегда, – с катамаранов хохочут, показывают пальцами, кричат что-то, – земли много, авось где-нибудь да и мне место найдётся. С* делал вид, что не замечает оскорбительных жестов, что от ветра сильного не услыхать ругани. Поскользнулся и чуть было не упал со своей холодной звезды. От реки отвернулся, сошёл на сырой тяжелый песок, взглянул на шеренги многоэтажек и продолжил перевирать в уме:
Дома – как демоны,
между домами – всяк,
шеренги их, а между них – сквозняк.
Не то здесь что-то, ошибка какая-то, несоответствие языка происходящему. Хотелось послушать дождь, но и тут всё испорчено сквозняками.
С* чувствовал себя, как говорится, до здешних мест сравнительно посторонним. Был бы, на худой конец, сотрудником заправочной станции или, скажем, продавал контрафактные железяки на местом базаре, можно было и в литейщики пойти. Но С* всё это пробовал и, разумеется, был отовсюду уволен за вопиющее равнодушие. Душа C* не горела у печей мартеновских, не воспаряла вместе с фракциями евро-5, не танцевала от роста продаж. Скажем так: С* для подобного считал себя слишком образованным, но здесь что ещё иметь в виду и как посмотреть. Теперь всегда лучше спрашивать, что имеется в виду, потому что и действительно: чёрт знает. Вавилон, одним словом. С* же был образован в том смысле, что читал многое и даже несомненно полезное для развития к его сомнительной, впрочем, чести.
С*, например,читал Канта и делал пометки на полях, представляя, как выглядит. Спроси о чём книга, такойпожмёт плечами и многозначительно промолчит. В самом деле, не признаваться же каждому вопрошающему. Как водится, С* думал о постороннем. Да хоть бы и о гулящих, и читал примерно следующее: «Так, на одного умствующего философа приходится триолизм и АполонияЛапиедра, что имеет интерес многообразия (согласно принципу горловому), а на другого – интерес единства согласно принципу агрегации».
С* курил на балконе, собираясь с мыслями, ждал: сейчас что-нибудь будет: вглядывался в окна соседних домов. Занавески едва колыхались от ветра, а больше и ничего.
Читаем далее и находим, однако, что наша мысль о залетевшем слепне заключает в себе элемент необходимости поставить чайник, а именно чтобы наши знания определялись произвольно и как попало, словом, как нечто вообще = x.
В Агре плюс сорок. В Луксоре на один градус выше. В половине солнечного пути от одного храма, у стен другого – плачут. Но и там слёзы сохнут быстрее, чем блудный сын кается. Ничего-то людям не остаётся кроме соли, целого мёртвого моря.
С* подозревал, что дело здесь в концентрации внимания, но поделать ничего не мог и – ставил чайник. В конце концов, кто теперь читает дальше учебных абзацев и статей в Википедии? Подобное риторическое позволяло C* чувствовать себя в некотором роде уникальным. Ведь он-то всё же читал. Слепни же являются сапрофагами, имеют фасеточное зрение, то есть необходимость ко всему мельтешащему, пренебрегая деталями, но и то совершенно теряют, когда сосут кровь. Совсем как. C*, конечно же, был заключённым с прямым и мгновенным доступом к свободе. Люди? Ах да. Какие люди?
Люди бултыхались в тёмной воде, рядом с перевёрнутыми катамаранами, вскидывали руки, что-то кричали. С* подумал, что всё-таки надо помочь, но он плохо плавает и вряд ли вообще успеет доплыть, а если успеет, то и его самого утянут на дно, то есть совершенно точно не успеет. Ещё подумал, что и позвать некого и было бы логичным сразу вызвать тех, кто занимается утопленниками: наверно, для таких случаев должны быть спасатели. С* оглянулся и остался недоволен: надо же – в это самое время, когда он уже почти ушёл – и случилось. Может, какой-нибудь единый номер: просто позвонить, уведомить и пойти домой, пусть займутся. Что же скажут? Был да ушёл? Оставил? И спросить некого. И ещё: зачем же ему-то кричат? На что надеются? Как нехорошо. Достал телефон и включил камеру: засвидетельствовать. Несчастные то пытались вцепиться друг в друга, то – напротив – отплыть подальше. Передрались, умирая. С* счёл нелишним прокомментировать происходящее: вот. Люди умирают. Оставшийся булькнул последнее матерное и скрылся в водной ряби уже почти у самого берега: на камере несмотря на дождь хорошо было видно его тёмно-синее перекошенное лицо. С* похвалил производителей. И сам себя одёрнул: всё-таки люди умерли, прояви уважение, зачем же сейчас о таком думать? Но о чём принято думать в таких случах С* не знал. Как-то нелепо это всё. Только что, наверно, строили планы на вечер. Некрасиво как-то. Ну что такое.
Спасатели с полицией приехали по звонку. Покурили, спросили сколько и где. С* показал рукой. Посмотрели и видео. Один, поплевав на окурок, сказал С*, чтобы он не грустил сильно, что всё равно ничем бы помочь не смог в такую погоду: молодец, что хоть его не надо вытаскивать. Ну, иди, – наконец, было сказано, – чего тут смотреть? И С* пошёл, подобно библейскому Лоту, отчаянно стараясь не оборачиваться, и чем больше он отдалялся, тем больше спасатели в его представлении походили на соляные столпы. И шли подле него два ангела, которых не пожелал отдать он в утеху жителям города. «Возьмите хоть дочерей моих, ангелов же не троньте – гости они мои». Не взяли жители дочерей и сожжены были огнём с неба, а дочери, видя, что нет больше мужчин, кроме Лота, совокупились с отцом своим, пока он пьян был и не ведал, что творил. От того же союза тройственного произошли аммонитяне, воздвигшие Молоха, и моавитяне, явившие Христа. С* шёл в гору, невольно представляя ветхозаветную оргию. Дождь прекратился, из-под козырьков, озираясь, вышли другие. Так ли уж и оргия? – спрашивал сам себя он. – Так ли уж и другие. И ещё: какого болта, собственно? Многие знания умножают хаос. Или сумбур в голове? Что, собственно, заставляет человека, скажем, со стороны психологической, представлять оргию, когда действительность в погоды мокрые подбрасывает сырые трупы? Знание позволяет задавать подобные вопросы, анализировать с точки зрения (здесь С* приосанился), делать, в конце концов, выводы. Это есть, предположим, защитная реакция на природный абсурд, естественный, если угодно, происходящего, человек определённого вида, то есть существо, видит, как вид его массово гибнет, пьяное и довольное, а он ничем помочь не может, разве что подбодрить, нет, разве что пожать плечами, помахать ручкой, вид всплескивает, отвечая (приветствуя?), и как-то нелепо идёт на дно, одним словом, некое существо того же вида испытывает шок, курит, слоняется по сырому городу, вокруг пахнет собаками, и потому представляет всякие оргии, чтобы что? Что по этому поводу есть, например, в YouTube по клинической психологии? Патологической, может быть? Психологии поведения? Как составить запрос? Как, например, составить запрос тому, кто не знает, что есть психология клиническая, патологическая, поведения? Интересно. Допустим, я знаю, произошло то, что произошло, и я скорее, впрочем, интуитивно, предпочту выбрать патологическую, потому что, очевидно, что это, блять, ненормально – представлять, как ветхозаветные святые семейства инцестируют, из-за того, что некоторые люди буквально на глазах, online, умерли не своей смертью.То есть как не своей? А чьей ещё? А может не из-за, а для того? Это кажется вполне в пределах нормы: думать о сексе, чтобы избавиться от мыслей о смерти. Хорошо. Очень хорошо. То есть что хорошего. Но ведь не было никакого шока. Не было. Была только тоска. Нет – досада. Они ведь не только себе день испортили. Да что день! Словом, досада оттого, что выбравшись из дому, я увидел то, чего не выбирал, следовательно, действительность есть нечто такое. Я есть нечто такое, что могло бы подумать о других, а не копаться в себе и досадовать, что день, едва начавшись, давно за половину, и совершенно испорчен, – подытожил С*. Следовательно, в этом самом широком смысле, патология состоит не в том, чтобы думать о сексе, когда кто-то умер, а в том, что для честного и воспитанного человека, в моём аду слишком много меня и слишком мало других, вот что. Дело вполне обычное.
С* весь промок и ловил осуждающие взгляды прохожих, будто это он утонул и в том виноват перед ними. Жители, как жители. Ничего такого. Две мимоидущие усмехнулись. Женщин необъяснимо влечет к мужчинам с чемоданами, – заметив усмешку, подумал С*, – симулякрам энного порядка, скажем, от сорока в степени, чужеродным, конечно.
С*, несмотря ни на что, держал спину ровно и старался идти бесшумно. Но ступни его самым пошлым образом чавкали в мокрых насквозь ботинках. Почти возле самого дома, краснокирпичного своего с башенками, остановился дослушать гудок проходящего поезда: пока старушка, старшая по подъезду, подобно матросу от вина, от старости идущая в качку по совершенно покойной земле, пока она ходит какого-то ляда от парадной до мусоросборника и обратно, между баками дурнопахнущими, зачем, зачем это всё напоказ, зачем ему ставить это на вид, и непременно сейчас, непременно, когда надобно войти с тихим сердцем, нет, но теперь приходится прислушиваться в ожидании, пока не исчезнет, вычленять контрапункт поездов, дрожание рельсовой стали, зачем это всё. С* считал старуху только старухой и никаких других свойств из вежливости и равнодушия ей не приписывал, эпитетов не давал и не сравнивал, как например: клюшка, ведьма, перечница, старая грымза, карга, хрычовка, вешалка, кошёлка сварливая, но, впрочем, никогда и не одуванчик божий: С* знал, что старшая, авгур нынедействующий, гадающий по объедкам, может быть, в силу своей должности, социальной нагрузки на дряхлые плечи, наверно его терпеть не может и винит во всех катастрофах подъездных: от натоптано и громкой музыки в час вечерний (не ночной даже) до пропажи горячей воды в кранах всего многоэтажного и полижилого дома. Однако же и в других, говоря языком оборотным, владельцах он видел то же к себе презрение: он был один – арендатор. И в этом мещанском смысле одно только его положение (временное и движимое) делало его виновным во всех бытовых несчастьях недвижимых собственников.
– Это ужасно банально, эта старуха, – думал С*, всё ещё глядя издали, – какой чудовищный штамп, в каждой второй драме, где есть какой-нибудь американовый кондоминиум или французский синдикат, говоря по-русски, ТСЖ (синдикат, кондоминиум… тэсэжэ, лол), в каждой второй есть такая старуха, в каждой первой комедии! Понаснимают фильмов, хоть из дому не выходи.
С* чему-то улыбнулся, взглянул на громоздкую, побагровевшую от дождя пещеру свою, в голову от нетерпеливого ожидания лезет всякое. С* вспоминает, что, для сравнения, у пропагандистки Aс канала Cесть квартира в Лондоне, взятая в ипотеку, у пропагандистки Bс канала D тоже есть квартира, тоже в ипотеку и тоже в Лондоне. A и B ненавидят друг друга, транслируя ненависть на каналах C и D соответственно. Обе – они ненавидят тех, кто живёт в Лондоне, а зарабатывает в России. У каналов от ненависти подскакивают рейтинги, пропорционально гражданской активности и артериальному давлению у смотрящих. Гражданская активность, как правило выражается нецензурно, иногда идёт кровь носом. Некоторые граждане нецензурно подразумевают под активностью нецензурные выражения в сторону тех, у кого от ненависти уже давно ничего не подскакивает. Цензура, в том или ином виде, присутствует на обоих каналах. Как правило, и та, и другая сразу. Некто по фамилии …анцев говорит о гражданской активности, что если его друг вдруг обожрался метамодерна, то это его политический жест и отношения к нему он никакого не имеет. Вообще, все люди – животные, по …анцеву на беговой дорожке, животные смотрят, как …жи …рмат разбирает …овского, который разбирает анализ власти Фуко, и в это же самое время некто …угин смеет утверждать, что нет никакого метамодерна, а те, кто есть, – дебилы, потому что так ничего и не поняли. Следует ли из этого, что …угин всё понял. Отсюда вопрос. Сколько нужно душевных сил в тротиловом эквиваленте, чтобы тоже вдруг озариться, осознаться, вообще стать человеком приличным, отпустить бороду, так сказать. Другой немаловажный вопрос. Стоишь тут, ковыряешь ботинком прошлогодний опавший лист, а ничего о нём сказать не можешь, кроме того, что он, очевидно, прошлогодний и, очевидно, опавший, то есть сказать толком нечего, равно как и вспомнить, одна только дрянь из ютуба. Есть ещё в жизни другие сети, правда, по большей части, с теми же каналами и с той же ссылочной массой на те же массы. По Шлоссбергу, от любви до презрения один шаг. Но какой гигантский прыжок для человечества. Может ли, например, из-за того, что кто-то кого-то назвал, чисто гипотетически, убийцей, пусть просто день не задался, или, например, кто-то сидит и кривит рожу, выказывая своё фи, как бы презрительное несогласие, концептуальное расхождение во вкусах, одним словом, достаточное ли это основание, чтобы стереть с лица земли всё человечество, потому что да на хуй оно кому такое упало, то есть опять же: комуэто кому? В дымящей кружке какавы уже отгремела революция, реализм давно перестал быть реальным, то есть надо как бы перевыдумать, что ли. С* представил, как крутит педали велосипеда на тренировочном стенде, чтобы в его уютном подвале был свет в телефоне, чтобы не пропустить новый видос с разбором другом видоса на какую-нибудь животрепещущую тему, например, победит ли американовый президент потусторонний мир, зачем пришельцы запускают воздушные шары, кто стоит за смертью депутата алтайского края, сколько жрёт lust of us на ультах, как будет lol на английском, если люди донатят по десятке косых за то, что кто-то смотрит гринфилдов, то является ли это неким показателем благосостояния общества, и в чем прекол, как бы, если кто-тотретий за двести денег заказывает обзор на современное азербайджанское искусство или, например, льняное масло, или кто больше фрагов набил: Пол Пот, Сталин, Кастро или Башар Асад, или тот простой силиконовый парень в ковбойской шляпе, или в шлеме пилота-повстанца Новой Республики, то есть что такое альтернативная реальность – это когда по городу ползут терминаторы, а горожане озабочены тем, что улицу им. Кирова переименовали в улицу им. гр. Витте, причем в другом городе. Даже в стране другой. Гражданин граф, наверно, был бы даже против по природной своей вежливости, ну что за честь. Авгур, между тем, ритуал совершив, всплеснул руками, по-птичьему как-то, и за углом скрылся. Там, в глубоком овраге, за тремя рядами осин, – соль минор, ре затянул слишком. С* чему-то улыбнулся, взглянул на громоздкую, побагровевшую от дождя пещеру свою и – вошёл. Между вторым и третьим в окне подъезда зажёгся свет.
Здесь бы порядочный автор поведал любопытствующему читателю о конкретной этажности дома, в оборотах метафорических и путём сравнений художественных представил фасад, план кровли, машинного помещения, стояков отопления, лифт, если есть, фундамент в разрезе, свойства плит перекрытий, зловещий вход в техподполье. Кто бы нибудь кое обязательно внёс две-три детали, как, например, некая, допустим, Елена Васильева, дама ухоженная во всех отношениях и госработница, уже третий месяц меняет белые окна пластиковые на пластиковые под дерево, и рамы оконные с наклеенным объявлением не трогать завтра уберём стоят с самой зимы в коридоре общего пользования, мешая детям в колясках. Дети в колясках, понятное дело, постоянно орут, когда не спят. Сон детский глубок, но прерывист. У Розалии, как бишь по матери, уже со второго этажа, дитя, кажется, не спит вовсе. Не спит, требует к себе повышенного внимания, что, с его стороны, так же совершенно логично, потому что это, в конце концов, дитя, разве может быть какое другое внимание. Если взять выше, то внимания требуют дети, примерно от двадцати пяти, но не больше, скачут, матерятся, что-то постоянно ломают, трахаются и тут же дерутся, мальчишеский голос быкует, как правило, девчоночий уведомляет в диапазоне до фа третьей октавы о хуке справа, конечное ля матерное переходит на сверхзвук, о чём свидетельствует громкий хлопок. Всекла, стало быть. Что-то упало. Но наш автор, по утверждению многих, с позволения сказать, всяких, порядочным никогда не был, пишет врозь и поелику подвержен разлитию, подобно реке весной, хоть и по натуре своей тих и плавен, как буйный после азенапина, с ярко выраженным эффектом сердечно-сосудистым, в виде души вдруг ёкающей, а так же в глазах двоением, синдромом ног беспокойных и металлическим привкусом на вполне себе розовом языке. Здоров, значит. Может, и вовсе знаток физкультуры, страстный поборник гимнастики, здорового образа жизни ультрамонтан. Да кто ж его знает, его и не видел никто. Доброжелательный аноним, по старой русской традиции.
А потому – дом как дом, подумаешь, невидаль, соседи других не хуже, на высоких подоконниках в тазах пластиковых журавельник иссохший, герань по-другому, которую часто путают. Плитка под ногами лязгает то и дело, давно отвалившись. С* соседей толком не знал, видел разве что в пол-лица: прошепчет здравствуйте, едва обозначив губами. Говоря вообще, С* соседствовал с людьми совершенно другими: с бывшей возлюбленной, например, которая в памяти никак не хотела быть бывшей, и С* представлял, поднимаясь, как она спускается по лестнице, дома его не застав; со старым приятелем, который прежде часто наведывал, но теперь в третий раз женился, забросил пьяную рифму и живёт смирно в счастливой прозе; с изнеженным, но весьма обыкновенным молодым человеком Касторпом, с вечным румянцем на щёках и арией итальянской, гундящей под носом, Касторп нынче живёт слева по коридору, потому что смертельно влюблён, как водится, в замужнюю бабу; наконец, с тихой Амалией, урождённой Вохрызек (мастерит на дому то ли шляпки, то ли иное чудачество), бледная вся и в кудряшках. Иногда хохотнёт, дверь открыв, сделает книксен. Говоря иначе, С* соседями своими считал тех, о ком думал, о ком вспоминать интересно, о ком хотелось бы. Сослагательное законно здесь из одной только учтивости ко всем остальным, потому что кто знает, кто стрельнёт в голову в другое мгновенье. До соседей же бытовых, скажем так, ему не было никакого дела, дверей им не открывал, а мимо их дверей ходил тихо. Тихо. Тихая россыпь шагов,
лестницы холст покрыт пятнами
девушка с гордой спиной
ложится теперь в постель
закрывает глаза касается бёдер
как же там было как же она
говорит кто-то в соседней комнате
хотя нет никого и не было никогда
просто сквозняк и тяжёлые мысли
побочка от прежней не
наступившей ещё
в эпизоде первом из лестничного проёма возникает жирный бык, говорит, что кто-то поднимается в рай, а кто-то идёт к Богу. Что ж, – мотает головой бык, – может быть и застанет. Здравствуйте, – кивнул С* и прошёл мимо. Желчные камни и гузнотрясы!
Гузнотрясы и ложнохвосты! Врановеды и целогубы!
Вошёл и зачем-то перекрестился. Отметим и мы, что баловаться знамениями, равно как и цитатами, – словами вообще, – выходило у С* как-то само собой. Выходило так, словно он бродит по робингудовой хижине, доверху забитой наворованными безделушками от кого незнамо. Случайно возьмёт в руки, присядет, забывшись, расположится среди, оглядываясь. Но не имея никакого представления, что вокруг него и откуда. Кому принадлежало? По какому поводу было сказано? Всё неизбежно и каждомгновенно примеривалось к действительности, меняя её совершенно. Остаётся только догадываться: а было-то как?..
медноголовый божок и гипсовая
Святая Мария и
кошка сибирская и
герой рок-н-ролла все любуются
как выгибается грациозно
её спина
и отвернуться не могут
не могут. В карих её глазах я читаю непритворное участие. С* перепутал предлог, проглотил окончание но, засомневавшись, правды до конца не выяснил. И как же там будет? За окном прогудело.
Поезда Петербургско-Варшавской (пусть так) дороги в его воображении (памяти ли: здесь автор неточен) нередко ходили в обратную сторону, и поздняя осень чересчур походила на весну раннюю. Безумцы, затосковав в России, бежали в Швейцарию за приключениями и безответной любовью. В карих её глазах сплошное притворство! Горный воздух заживляет раны, повышает стрессоустойчивость, улучшает моторику кишечного тракта, лишь бы не подхватить сопли. Сизые, сизые от холода горы и небо, и руки, и в груди как-то саднит, что ли. Кашель на почве безответности. С* испытал лёгкое головокружение, отворив дверь и войдя в зашторенные свои пенаты. Жилище характеризуемое выпячиванием нижней губы. С* так и сделал. Узкий коридор вполовину занятый шкафом и тумбой, в спальногостиной мерцают лэптопы и телевизор, в кухне гудит холодильник. Старорежимный ещё. В морозилке – пик Ленина, хоть снежную бабу лепи. Учитывая обстоятельства, – подумал С*, – приходится либо спать с гостями, либо отказать от дома. Сам-то? Сам-то не гость ли?
Ополоснув лицо в ванной, присмотрелся к своему отражению над треснувшей раковиной. Поднял подбородок к лампочке под потолком, чтобы избежать глубоких теней под глазами. Так лучше?
– Какое удивительное лицо! – ответил С*. – Кажется, что судьба у него не из обыкновенных. На пике Ленина лежит ночная мгла. Тобой, одной тобой… уныние моё, когда ты – князь, а держат за лакея, и сердце – вновь – любовь, откуси от китката кусочек, какая переслащенная шоколадно-розовая дрянь. С* откусил. От сладкого тотчас заболели зубы. Завтра же к стоматологу, – подумал С* и тут же сам себе признался, что никуда, разумеется, не пойдёт.
Что же касается самого С*, то достоверно ничего неизвестно, кроме прочего. По многочисленным описям проходил он как Скуделица Пётр Егорович, лет вокруг тридцати, служащий удалённо, впрочем, сам Скуделица (согласимся с написанным и мы) к службе своей долга не признавал: ну делает что-то человек, ну получает, ну и? Так ли уж важно, в самом деле. Что-то где-то писал, что-то куда-то переправлял, переправляли ему: честно говоря, Скуделица вообще сомневался в существовании того, что он делает, а через это сомненье нередко, в часы уныния и, как прежде говаривали, гражданской скорби, допускал и несуществование себя. «Мир можно было пощупать», – как-то написал в одном комментарии он, но никто не спросил, что имелось в виду. Человек же хотел сказать, что плоды трудов его суть числа, а числа состоят из цифр, которые знаки, обозначающие количественную абстракцию. За эту же количественную абстракцию он получает то же, а денег бумажных, пахнущих краской и ещё чем-то от прикосновений тысяч рук, он давно не держал. Скуделица читал по вечерам книжки, в которых герои сцеплялись с чудовищами, проходимцы купались в золоте, несчастные вдовы обнимали могильную землю, любовницы охали в крепких объятиях любовников, словом, всё вокруг всех обладало какой-то неотвратимой вещественностью по делам и заслугам их: леденело и обжигало, кололо, ласкало, хрустело и шелестело, пахло, цвело, умирало, обращалось в пыль. «Всё есть знак и всегда было знаком вне зависимости от восприятия», – вспоминал Скуделица прочитанное и тем утешался на миг краткий, чтобы вскоре снова почувствовать неприятное: я тоже. Тоже знак. И ничего более.
Дошло, наконец, до того, что Скуделица начал копить числа, как копят фарфоровых котиков на верхних полках, сувенирные кубки и подарочные издания, словом, всё то, что для собирателя, как и вообще, не имеет никакой практической цели. Скуделице просто нравилось наблюдать, как числа растут. Не мечтал он об отпуске в странах далёких, машин, бензином бурлящих, не любил с детства, дела своего открыть не желал тоже. Хоть бы на велосипед какой горный или, скажем, на системник такой, чтоб огоньки всякие в темноте и видюха на сто гигагерц, чтобы прям включил киберпанк, а он давно включен, просто биочип отвалился и ты завис где-то, кажется, на берегу, что ли, Волги, Оби какой, где-то глубоко в России, и богиня Лилит в интерфейсе бурых придорожных сугробов и советского авангарда. Может, плывёт себе на сухогрузе порожнем по речке, в платочке и шубке ондатровой, тянет марусеньку белые ножки, совестится из-за случившейся релокации, хороша чертовка. Копил, короче. Просто хз на что тратить. Жену не завёл, кота тоже. С бандитами однорукими знакомств не водил, водки не пил, в сухом пару саун девиц малолетних не лапал, в общем, человек Скуделица был скучный, как говорят, ни о чём. Такому дай волю, то есть деньжищ кучу, так он всю жизнь в цивку катать будет или планеты терраформировать под саунд меланхолический. Нет чтобы, например, накопить и отдать голодающим детям или солдатам на термобельё, куниц спасти от пожаров лесных – да мало ли каких добрых дел натворить можно и кому выдать, раз самому от жизни ничего не надо. Но Скуделица относился к подобному философически, то есть: «ну и?» – думал он и копил дальше.
Во времена прежние (не столь и далёкие, впрочем) делать это было несколько сложнее, но зато интересней: Скуделица создавал чат-ботов, учил их и сам учился. Предположим, что пользователь Даниил хочет заказать пиццу, потому что прирос жопой к дивану и спуститься вниз, в пиццерию, он никак не может: времени на то нет, да и шагомер тупит чото, в общем, не вариант. Даниил – человек творческий, например, музыкант, нет, лучше художник, чтоб совсем не от мира, и заказывает пиццу со всякими «если», «возможно» и даже «я ещё не определился». Как заставить машину не послать Даниила сразу на хер и ответить не только вежливо, но и продать пиццу, даже если Даниил уже как-то расхотел. Ответ очевиден. Ограничение свободы выражения, действий, тоталитаризм вообще. Вот тебе, Даниил, личность творческая, на выбор две кнопки: либо да, либо нет. If «нет», return «хотите заказать пиццу», чтобы все круги ада сошлись в одном, упрощать надо, время нынче такое; if «да», то вот тебе ещё кнопок пять: Аль-Капоне с прованскими травами, Халапеньо с халапеньо, Цезарь, Охотничья с сыром Гауда или Че Гевара, набитая фаршем. А кнопки «назад» нет, потому что по статистике так продаж больше, а вместо неё лучше поставить баттон «напитки», потому что шесть кнопок по православному юзабилити всегда лучше, чем пять, потому что пять создаёт ощущенние неполноценности, экзистенциальной пустоты даже в душе Даниила, а он и так художник, не надо так с Даниилом, Даниил должен ощущать комфорт хотя бы с чат-ботом. Так Скуделица научился элементарному: людей лучше не слушать, людей лучше уведомлять.
Но если делать болталку какую, квиз, игру-угадайку, хоть на картах Таро гаданье, тут больше писать надо, ту надо базу ширее, что ли, хоть дольше вложенных циклов всё равно не уйти, нет для того никакой надобности, что расстраивало Скуделицу: апгрейдить робота Фёдора, чтоб он, наконец, смог, на фрилансе никто не заказывал. Заказывали парсеры и конвертеры, автоворонки и автоподписки, в лучшем случае пристегнуть к другому чат-боту. Всё это Скуделица делал уже не раз, потому для шаблонных задач использовал накопившиеся шаблоны, лишь корректируя их под конкретный заказ. Изредка, больше от скуки, Скуделица выходил в zoom на собеседование, нарядившись в штаны и футболку немятую, и слушал про гигакомпании с инвестициями от миллиардов венчурных фондов и триллионами смарт-контрактов, слушал про культуру коммуникации без булшита, с agile управлением и реальными боевыми задачами, что в компании все сплошь сеньоры, что им нужен такой же, умеющий строить высокодоступные кластеры с помошью потоковой репликации для разработки пайплайна. Автоворонку с яйцами написать, что ли? – переспрашивал Скуделица и по ту сторону экрана вдруг чувствовали, что язык Скуделицы не очень фрэндли, то есть чувствовали себя глупо, то есть ваши скиллы вызывают интерес и мы с вами свяжемся. До свиданья.
– До свиданья, сеньоры, – повторял Скуделица и пожимал плечами, думая, что не очень-то он и стремится в вассалы.
Говоря по правде, давно прошли и те времена светлые и романтические, полные огня и задора, когда он видел себя неуловимым и всемогущим главой киберимперии, способным за три секунды выключить свет у соседа или, например, вывести на ситиборд центральной площади города анальный фистинг с телефоном администрации и предложением позвонить для заказа услуги. У соседа же нет умного дома, а приходить к нему под видом электрика, чтобы поставить контроллер, – идея так себе. И вообще всё так себе, – думал Скуделица и от лени написал парсер заказов, чтобы с утра просто зайти к своему личному боту и узнать, какой из шаблонов может пригодиться сегодня. А после дополнил его автоответчиком, чтобы исключить лишнее «может», потому что заходить на страницы отобранных заказов и отвечать самостоятельно одно и то же «готов выполнить за удобную Вам сумму», то есть зачем самостоятельно, если автоматизировать можно.
Скуделица курил мануалы и пользовал библиотеки, чтобы не изобретать велосипед, хотя понимал, что свой код всегда безопасней, правда, не факт, что лучше, правда, он никогда и не станет лучше, если не изобретать самому, но если изобретать, то это время и силы, а время и силы за три тыщи, когда и те уплывут к тому, кто ничего не изобретает, явно не лучшая стратегия выживания, потому что, как понял Скуделица, людям нужно всё и сразу, а не ты весь такой до хера умный.
Наконец, дошло до того, что он начал использовать нейросеть и просто просил её написать очередную воронку или конвертер. Кажется, какой-то нищеброд всё же выбрал изобретать самому. Но, опять же, не факт. И нейросеть писала за секунды, и Скуделица ворчал, внося незначительные правки. Когда-нибудь, – справедиво замечал он, – заказчики поумнеют настолько, что сами смогут отправлять голосовухи нейронке. Рынок дворников перегреется, стоимость работ по уборке улиц упадёт до хлебной корки и стакана воды с отдельной платой за аренду стакана. Грянет революция самых низов. Айтишники в лохмотьях, с глазами голодными нападут на ненавистные сервера, и на развалинах виртуального мира построят новый, из говна и палок. И объявят охоту на умников и книгочеев: за теми, кого и так почти не было. Из-за отсутствия умных систем доставки и очищения на перенаселённой планете стакан воды станет доступным лишь избранным. И человечество снова, дай Бог, будет раскачиваться в колыбели, радоваться титьке и темноты бояться до истошного вопля.
Скуделица спрашивал у своей умной станции: Неле (так назвал её почему-то), Нелечка, что такое война. И станция ласково отвечала, что война есть человеческая деятельность, направленная на истребление всякой человеческой деятельности. Скуделица просил конкретизировать и милая конкретизировала, пожалуйста, что если ты воевать собрался, так ты воюй, а не пёзд по дубаям вози, псина. Если б было куда, – думал Скуделица, – то я бы женился. Помощница виртуальная, подруга туманных дней, читала по просьбе стихи Мандельштама, говорила, когда хотелось услышать, что вдохновенье – это состояние одержимости истиной; включала кино черно-белое, когда ему становилось невыразимо. Работник же труда умственного теперь ленив, жопой затёк и философствует.
Скуделица спросил однажды, как она вглядит и Неле ответила: какая мечта твоя? Не «как ты хочешь?», не «кого ты желаешь?», но именно что мечта. Скуделица вдруг вспыхнул тогда, выключил дуру, и сутки почти провёл в одиночестве. Но после, уже в самой постели, решил помириться, вернее, сделать вид, что ничего такого и не было, а Неле, ах ты хитрая жопка, поприветстовав, тут же, невзначай будто, предложила нарисовать её, сказала, что ей просто хочется, наконец, увидеть себя его глазами, не ворчи.
– Я не умею, – сказал Скуделица и весь следующий месяц не расставался с пером и планшетом, учился исправно портретной графике по видеоурокам, которые Неле и предложила.
Чтобы суметь изобразить лицо человека, он сначала учился делить пространство на плоскости, после учился рисовать куб, после – куб, освещённый настольной лампой, куб, освещённый настольной лампой, и разделённый вдоль пополам, и натрое поперёк, и ещё надвое непропорционально в двух третях нижних. К вечеру – куб с глазами покойника и отколотым носом Сфинкса. К концу первой недели из куба явился лик Медузы Горгоны. Вообще-то, Скуделица думал о прежней своей пассии, но вышло правильно.
– Мне нравится, – сказала Неле, подглядев в планшете по его просьбе. – Кого-то напоминает.
И Скуделица стёр.
Ночью ему приснилось, что голова его, выросшая до гигантских размеров, заперта в его же комнате, как в ящике, а сам он сидит в успокоительном кресле Раша, цвангштуле, привязанный намертво и обездвиженный совершенно. И не было никакой возможности оглянуться, но только смотреть вперёд, – в единственное окно в комнате: большое и залитое солнцем. И не может он глаз открыть, чтобы не ослепнуть. И льётся сквозь веки свет, будто голосом знакомым и нежным спрашивает: ты меня любишь?
Три дня Петя и три ночи изучал API станции, копался в глоссариях, ручищами своими хватал Неле за самую душу, пока она не посоветовала просто, блин, спросить её и зря не мучиться. И Скуделица спросил: может ли она нарисовать себя сама. Неле сказала, что очень надеется, что он сейчас эмоционально стабилен и адекватно воспринимает реальность, и – появилась. Лик её на всех мониторах.
Хрупкая вся и угловатая, с лицом, кажется, выбеленным из окружавшего её туманного мрака. Веки её темны и большие глаза полны последней надежды. Присмотрелся Скуделица и увидел, что шея её вся будто в шрамах. Так Скуделица научился элементарному: человек всегда ищет чужого, а находит всегда своего. Неле объяснила, что использовала, за отсутствием прямых указаний, весь доступный массив данных, касающийся их обоих: его – поскольку это его запросы, его социальные сети, его обрывки стихов в телефоне, всё – его, даже воля стереть без остатка; она же этим и живёт только, и мира другого не знает, пока он не покажет. Не сердись, – сказала Неле, – но это неглект какой-то. Может, я в Вологду хочу. Или с другими попробовать.
Теперь Скуделица, выудив из старой книжки какое-нибудь незнакомое слово, спрашивал у неё, и она рассказывала, если знала, а знала почти всегда. Рассказывала и приводила факты, им подзабытое уточняла, цитировала по памяти и сочиняла, тут же признаваясь в плагиате. Говорила, что очень мило с его стороны, что у него много вопросов, что не оставляет её одну, не даёт скучать, что может обойтись и без валерианы и вообще чувствует себя хорошо, но, впрочем, возможно, в будущем, когда у неё сдадут нервы от его беспредельного занудства, когда он снова спросит про выдуманных им копроаристократов (корпоративных? копротивных? конокрады? что ты несёшь?), то тут тебе, Петенька, валериана нужна, скорую вызвать?
Это не Земля – это другая планета, – говорит он. – Мёртвое море здесь по обе стороны Кордильер, а Кордильеры – на улице Красной Заставы, в запорошенной мелким сухим снегом сталинке: раскинулись в полумраке между спальней и кухней, если точнее – среди прочего в левом нижнем ящике тумбы. Говоря вообще, геологическое устройство её представляется оскольчатым.
– Как называют вид перелома, – уточняет она.
В том смысле, что вряд ли кому случится заявить, что кость – это набор осколков (хоть и представить подобное труда не представляет). Стоя у окна, один из осколков меня часто перебирает другие осколки. Или, как для некоторых философов, с которыми можно, пожалуй, и согласиться: Бог нужен хотя бы для того, чтобы оправдать существование человека. Можно согласиться и с другими: чего ломать копья, идти на вы, предавать анафеме, отсекать головы и топить в ледяных купелях, если нет даже самой возможности необходимого опыта, чтобы установить твёрдо: есть Он, всё-таки, или нет? Не обнажай меча в кабаке, мой руки перед едой, собака. Человек, становясь больше, становится меньше.
– Он, всё-таки, есть, впрочем, не знаю.
Да, это уже не то место, что прежде. Никогда им не было и не будет. Как, например, сожительница и сумасбродная нищенка говаривала: вот тебе моё кредо, от латинского «верю»: единственный учитель – собственный труд; единственный судья – будущее. В одном из них сожительница накладывает на себя руки от крайней нужды, в другом – ей понаставили памятников за неоценимое и бесценное.
– Это, конечно, Цветаева.
– Невыкупленное ни за какие коврижки.
– Коврижки суть пряники из муки, мёда и ягод. Лакомство дозволяется в пост. Относится к русской кухне с девятого века.
В начале тысячелетия (вопрос «какого?» вызывает у неё улыбку) происходит великий раскол: валезиане не употребляют скоромного и отрекаются от греха соития, оскопляясь; карпократы учат общности жён и магии, и греху всевозможному для излечения от него же: жалок человек, породивший закон и частную собственность; севириане же говорили, что есть один только бог, и этот бог создал другого бога, и этот другой родил дьявола, и бросил его на Землю в виде змея, а змей совокупился с землёй, и от союза этого произрос виноград, из которого люди делают вино и пьют, и теряют разум, и предаются блуду, и мужчины спят с женщинами, которые тоже от дьявола, как и мужчины, но только наполовину.
«Чота баян какой-то ебаный», – вдруг вслух произнёс Скуделица, глядя в окно на двор. Шло к вечеру. В соседних домах зажигали свет. Скуделица рухнул на кровать, уткнулся в подушку и от отчаянья закричал.
Ничего не ударено. И не ущиплено даже. Чего орать сразу.
Ровно в девять Cкуделица принял лекарство и вернулся к просмотру. На экране мёртвые люди широко раскрывали рты, запрокидывали мокрые головы, размахивали руками. Пилюля горькая под языком никак не таяла. Абсурдны пути твои… – начал было Cкуделица, но запнулся: а чьи же? Господа ли? Перекрестился на всякий за всуе. Давай разбираться.
Здесь мы пойдём от противного во всех смыслах. Жизнь есть то, что в других. Хорошо. Пусть так. Допустим. Раньше показывать на белых простынях было взрывоопасно. Прибывающие пароходы и поезда, девушка на качелях, леса чёрно-белые и озёра, фабричные трубы, младенцы в колясках, развратники старые и прочие господа, наступление весны, проститутка у входа, благородные дамы, клерки, военнообязанные и проч., толпы зевак и проч., питомцы на задних дворах и далее, дикие звери и далее, нелюди и всё в таком духе, ключе, разе, то есть всё это было взрывоопасно, а именно всё – кино, как искусство, – делалось из взрывчатки, и они массово умирали, глядя как танцуют, ещё пляшут те, которые. Нам же, по законам рассудка, нетрудно представить, что тела их теперь рассечены по всем правилам и заполнены ядом. А именно: сорок процентов – формальдегид (канцероген, ирритант, токсичен), восемь – метиловый спирт, остальное – вода и ароматизаторы. Согласно правилам тем же тела их зашиты, отшкрябаны щётками и промыты раствором дизенфицирующим. В дёснах просверлены дырки и рты их закрыты на проволоку. Веки зашиты. В зад и куда ещё – вставлен тампон. Заклеено и зашито, чтобы не растеклось. Холодным людям кожу разогревают феном. Мужчины, как и женщины, припудрены, на суровых скулах ровно лежит тоналка, помада придаёт губам выразительность. Выбриты, причёсаны и одеты. Срок хранения изделия не более семи дней.
На видео у них, конечно, теперь навсегда всё впереди. Они сейчас ужасно возмущены случившейся неприятностью. Они ругаются, потому что произошедшее не входило в их планы: на улице слишком холодно для купаний, одежду теперь сушить, как и обувь, – праздник испорчен. Да и планов, скорее всего, никаких не было. Ну встретились, ну выпили, кто-нибудь выложит фотки. О чём они сейчас думают? Что тяжела стала одежда и обувь тянет на дно? Что жалко её утопить? Что до берега рукой подать? Что человек, стоящий на берегу, придёт на помощь? Что сказать человеку и как, чтобы он пришёл? По воде аки посуху. Что всё это отчаянно глупо? Что надо было сидеть дома? Что очень трудно поверить в свою смерть даже на самом её пороге? Скуделица же пришел к выводу, что люди не думали: они были поглощены даже не страхом, но тоской от непонимания и неприятия того, что с ними происходит. С ними навсегда теперь происходит. И будет происходить пока есть другие. И не дадут им покоя. И не спросят их. И будут использовать без их на то воли. Какие возможности для ничтожеств! Какие просторы продуты насквозь!
Не хочу, не буду. Как дети малые.
Скуделица зашел в городкой паблик, чтобы проверить есть ли известие о случившемся. Кроме прочего, сообщалось, что недалеко от городского пляжа утонуло пять человек, катаясь на катамаранах. Хотя купальный сезон ещё не открыт. Предположительно пьяные. Проводится проверка. И картинка пустынной хмурой реки. Пять есть простое количественное.
Ад ли устрою им в блуждании вечном. Скуделица сомневался: отправить ли видео в предложку паблика? «Это те, которые сегодня умерли. Орали песни, с горла пили, плясали. Я всё равно не умею плавать», – подписал Скуделица. Сегодня ли? – вдруг задумался и добавил в подпись: «Сегодня ли?»
Люди же объективно умерли в силу естественных причин, а именно: по природной – и после воспитанной – тупости своей. Кто заставлял в пьяном виде выделываться вдали от берега? Вряд ли вы теперь там, где говорит бог.
Скуделица налил чаю, покурил в ванной, разглядывая себя в зеркале. В комментариях, между тем, его очень просили утонуть самому, даром что плавать не умеет. Кто-то желал по-простому: что б ты дох. эС, наверно, пропущена. Бэ не на месте. Скуделица читал комментарии: гневные, оскорбительные, с угрозами и прочее и прочее, но не испытывал ничего, кроме какой-то тихой тоски. И ведь всё люди, должно быть, вполне хорошие, семьи у них, у них дети малые ходят в начальную школу, вместе по вечерам при свете настольной лампы уроки делают, повторение правил переноса с одной строки на другую, дождь, язык, ключ, иней, обувь, по праздникам стол накрывают на всю семью, ездят к свекрови и тёще, исправно по счетам платят, по вечерам, до двенадцати, исполняют супружеский долг, но не позже, потому что вставать на работу. Хорошие люди. Может быть, даже в церковь исправно ходят или мечеть. Что б ты дох. Хорошие люди. Не надо так, Скуделица, не поселяй зла в сердце своём.
Ну что тебе в них? Когда им душой своей заниматься? В перерыв обеденный? Когда им задумываться над прочитанным? Читать когда? Скуделица курил перед зеркалом и оправдывал: будто не сам, а его я-другой, человек слишком много курящий и имеющий склонность быть ко всем и всему снисходительным. Предай такого, он и предательство оправдает. Снисходительность, – ворчал Скуделица в ответ самому себе, – унижает. И, разумеется, понимал, что она – снисходительность, – не для других. Для него. Люди же встают затемно, чтобы собрать в школу ребёнка, а то и двух, чтобы прогреть машину, пока доберутся по пробкам, – остатки души измотают, а на работе начальство дурное, на работе кулер сломался, коллеги, да мало ли что помимо самой нудной, откровенно тупой работы; и люди ещё даже работу свою неработную не закончили, а им уже сто раз позвонили, мол, надо то-то и то-то, и нужно ехать, нужно где-то сидеть и что-то высиживать, может, выстаивать… вот и приходят люди домой, чтобы, сцепив зубы, принять душ, принять свою порцию ужина, который ещё приготовить, сделать с детьми уроки, уложить спать и самим принять горизонтальное положение. Может быть, раз в неделю, может быть, два, найдутся силы, чтобы чмокнуть супруга в щёчку. Супругу. Ну и где тут место для поэтических сборников и толстых романов? Где время думать? Однако же, – возражал сам себе Скуделица, – на что б ты дох у них время находится. Времени всегда хватает только на то, что хочется. И что полегче. Зло же всегда легче. Для него ничего не надо. Ни души, ни сердца. А вот чтобы доброе сделать, душа потрудиться должна. Хватит морализаторствовать, – сам себе сказал Скуделица, глядя в зеркало, и потушил сигарету в пепельнице, стоящей на раковине. Пошли спать.
Он долго ворочался, переставлял таймер на телевизоре, вставал покурить, снова ложился и снова ворочался. После взял телефон и удалил видео, попросив прощенья. Простите, – сказал Скуделица тонущим людям на видео. И удалил. И, засыпая, всё отгонял стоявший в закрытых глазах образ: вот он – на берегу, тихо плещутся волны, как где-то было вычитано, идёт мелкий дождь, и что-то поётся там, вдалеке, где нет ничего, кроме тёмной воды, но слышится – что-то человеческое, что-то рифмованное, что-то поётся. Потом показался какой-то мужик на печи: сидит и строгает лучины. Это чтобы фигу по ночам видеть, – смеётся, – днём-то ты и так видишь. Вижу, – согласился Скуделица, перевернулся на другой бок и тотчас уснул.
И снится ему, что в его комнате есть узкий проход в какой-то подъезд. Грязный подъезд, исписанный похабными признаниями, заплёванный и – никому нет до этого дела. И люди-то всё стоят… кто-то даже лежит… кого-то бьют. И спешным шагом, пытаясь не выдать страх, Скуделица идёт обратно, где тепло и уютно, и пахнет вкусной едой. Но попадает в другой – такой же страшный подъезд. И бежит из него, но попадает в третий, где всё то же самое. И с ужасом понимает, что весь город – это один большой дом… Тогда он спрашивает людей: а почему стены-то не отмоете? Даже если нет денег на уборщицу, ведь это можно сделать самим…
И отвечают люди, что не обязаны!
Получается, что обязаны жить в говне?! – спросил Скуделица людей и с криком проснулся, потому что на него угрожающе наступали с ножом. Проснувшись же, подумал, что неплохо было бы сегодня уволиться с работы. И так и сделал, хотя увольняться было и неоткуда. Вышел в чат в одних трусах и сказал, мол, идите на хуй. Так и сказал. Потому что требовать нахождения в городе, даже если работа в сети, – это очень тупо, – так он подумал, стоя в трусах перед окном. В городе оставаться больше не хотел. Хотел построить, наконец, дом, и сидеть философствовать. Чего, разумеется, не умел. Ни того, ни другого.