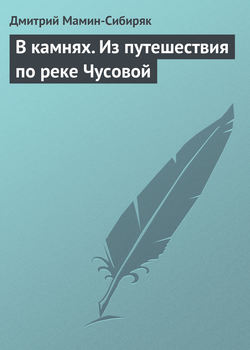Читать книгу В камнях. Из путешествия по реке Чусовой - Дмитрий Мамин-Сибиряк - Страница 1
I
ОглавлениеНаш полубарок отвалил от пристани Межевая Утка в первых числах сентября. Вода в Чусовой стояла очень низко, и наше сшитое на живую нитку суденышко постоянно задевало за «таши», то есть за подводные камни. Для непривычного человека, особенно в первый раз, даже делается страшно, когда по дну барки точно кто черкнет ножом. Вздрогнешь даже в первый момент. Только взглянув на спокойные лица бурлаков, успокаиваешься и стараешься скрыть невольное смущение. Бурлаки не обращают никакого внимания на такие почеркивания, и разве когда получится довольно сильный толчок, точно за дно барки схватит какая-то могучая рука, и наше суденышко все вздрогнет, – кто-нибудь проговорит стереотипную фразу:
– Тише, хозяин дома!..
Наш полубарок представлял собой судно длиной сажен в десять и шириной около четырех. На носу и корме были устроены легкие палубы, середина была открыта; медные «штыки», уложенные правильными рядами посередине и около бортов, издали представлялись поленницами каких-то коротеньких красных дров. Настоящие большие барки ходят по Чусовой только раз в году, весной; они имеют в длину 18 сажен, покрыты сплошной палубой и вмещают до 15 000 пудов груза, тогда как наш полубарок был нагружен всего 4 000 пудов штыковой меди. На середине нашего полубарка была устроена из рогож избушка водолива; около нее дымился очаг; у самого борта – льяло для откачивания из барки воды деревянным ковшом совершенно особенного устройства. На носу и на корме были прикреплены длинные бревна с широкими досками на концах – это «поносные» или «потеси», при помощи которых барку поворачивают в ту или другую сторону. Такая потесь представляет из себя громаднейшее весло, которое едва поворачивают пять человек. На задней палубе на большой скамеечке сидит обыкновенно сплавщик.
Две кучки бурлаков, стоявших у поносных, казались издали грязным пятном, кучей лохмотьев, которые начинали шевелиться вместе с поносными, повторяя каждое их движение. На носовой палубе, у конца поносного, под «губой», по бурлацкой терминологии, стоял высокий здоровенный мужик в рваном рыжем зипунишке и какой-то невероятно сплющенной и заношенной кожаной фуражке. Его лицо, красное и рябое, освещенное всего одним глазом, принадлежало к разряду тех особенных физиономий, которые не забываются. Новенькие лапти на ногах и синие порты дополняли его костюм. Как-то странно было видеть это могучее тело облеченным в такие жалкие лохмотья. Неужели эти могучие, жилистые руки не могли заработать даже на приличный костюм? Нет, Федька Рыбаков не мог пожаловаться на свои заработки и частенько щеголял в плисовых шароварах, красной кумачной рубахе и пуховой шляпе, но все эти предметы как-то не могли удержаться на нем и очень скоро уходили в ближайший кабак. Рядом с Рыбаковым стоял молодой парень лет семнадцати. Поверх старенькой ситцевой рубашки у него была надета только одна суконная жилетка, на ногах – лапти; его налитое розовой кровью лицо дышало здоровьем, а глаза так и блестели. На голове Васьки – так звали парня – была нахлобучена старая баранья шапчонка, из-под которой кольцами выбивались светло-русые кудри. Опытный глаз сразу отличил бы, что Васька и Рыбаков – утчане, то есть с Межовой Утки, в которой живут лучшие бурлаки. Они и держались не так, как другие, – с сознанием собственного достоинства, с оттенком презрительного спокойствия. Нужно сказать, что Васька во всем копировал Рыбакова, который по всей Чусовой славился, как один из лучших бурлаков и как самая отчаянная голова. За ними у поносного стояли две девки, старик в войлочной шляпе и отставной солдат с щетинистыми усами и узенькими слезившимися глазками. Девки были в коротеньких ваточных кофточках, из-под которых выставлялись подолы высоко подобранных ситцевых сарафанов и белые шерстяные чулки. Одна, Лушка, курносая и рябая, посматривала по сторонам своими небольшими черными глазами и постоянно скалила белые редкие зубы; другая, Степанька, рыхлый белый субъект, смотрела апатичным взглядом на все кругом и время от времени усиленно икала.
– Направо нос-от!.. Поддержи направо нос-от!!. – скомандует на корме сплавщик Окиня, и эта серая кучка бурлаков метнется на палубе, как спугнутые птицы. Рыбаков стоит под губой – это довольно видный пост в бурлацкой иерархии, потому что сюда ставят только надежных рабочих, которые не спутают команды. Он без всякого напряжения придавит бревно книзу, поведет его в сторону и, высоко подняв губу кверху, держит ее в этом положении все время, пока бурлаки, краснея от напряжения, отводят бревно. Васька покраснеет, как рак, навалится плечом, и только доски говорят под его лаптями; девки налегают грудью, старик подхватывает с кряхтеньем. Солдат, по выражению Рыбакова, «финтюрит», то есть ленится, и, кроме того, постоянно сбивается в команде.
– Хуже бабы, правой руки не знает! – хриплым голосом замечает Рыбаков.
– Инвалид, одним порохом палит, – вторит Васька, окидывая солдата подозрительным взглядом. – Крупа несчастная!
– А ты не собачься… – отзывается солдат. – Над землей-то ты не больно страшен, разве под землей тебе много осталось…
Лушка толкает локтем Степаньку и кокетливо закрывается рукавом кофточки; старик, кажется, безучастно относится к этой перебранке, но потом, сдвинув шляпу на ухо, замечает:
– Ну чего вы аркаетесь? Чего вам мало стало? Ах ты, господи милостивый…
На кормовой палубе, на первом плане, виднеется коренастая фигура сплавщика Окини. Он сидит бочком на низенькой деревянной скамеечке, заложив ногу на ногу. Ему на вид лет шестьдесят, но он выглядит еще молодцом. Кафтан из толстого серого крестьянского сукна ловко сидит на его широких плечах; из-под кафтана выбивается ворот пестрядевой толстой рубахи, плотно охватывая его могучую бронзовую шею, испещренную целой сетью глубоких морщин, точно она растрескалась под действием солнечного жара и непогод. На ногах у Окини надеты кунгурские сапоги, насквозь пропитанные дегтем. Маленькая, низенькая валеная шляпа сдвинута на ухо, и из-под нее режущим взглядом смотрит пара небольших серых глаз. Широкое лицо Окини, обрамленное небольшой русой бородкой, выглядит добродушно, и по его широким губам бродит неизменная улыбка. Из-за белых, частых зубов Окини так и сыплются бесконечные шуточки, прибауточки, пословицы и присказки. Даже в опасных местах Окиню не оставляет его неизменное добродушие. Плавать по межени, то есть когда вода в Чусовой стоит низко, составляет гигантский труд: на протяжении почти четырехсот верст нужно знать, как свои пять пальцев, каждый вершок, иначе барка будет садиться на каждой мели, на каждом таше. Можно себе представить, какой поистине колоссальной памятью обладал Окиня, если под его войлочной шляпой укладывается все течение Чусовой и он помнит тысячи мельчайших подробностей ее течения, берегов и русла. Кроме реки, он в несколько часов должен изучить все особенности своего судна, потому что между барками, как и между людьми, громадная разница, хотя на первый взгляд они, кажется, ничем не отличаются друг от друга. Живая сила, которой располагает Окиня в данный момент, тоже должна входить в его соображения, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Большинство бурлаков знакомы Окине несколько лет, поэтому он только мельком взглянет на новичков, прищурится, и на барке, как у себя дома на печке.
– Эй, служивый, не надсаживайся больно-то! – покрикивает Окиня. – Пожалуй, с натуги спина заболит… Девоньки, груздочки молоденьки, помешивай!.. А ты, Федя, не больно, тово, на девок-то не заглядывай…
Бурлаки посмеиваются. Звонкий голос Окини вызывает на суровых, изветрелых лицах ряд улыбок. Но нужно видеть старика в трудных местах, когда приходится «перебивать струю», «отработывать от камня» или пробежать щукой под самым «бойцом». Он стоит на палубе, широко раздвинув ноги, кафтан распахнулся, голос крепчает, глаза остановились на одной точке.
– Родимые, не выдай!.. Корму поддоржи… Нос налево, нос налево! Сильно-гораздо нос налево! Молодцы, нос налево!.. Навались, братцы… Шабаш нос-от!..
На корме подгубным Мамко, тоже утчанин, широкоплечий молодой парень с белокурой физиономией. Рядом с ним стоит небольшого роста, некрасивый мужик с редкой черной бородкой, Гаврилыч. За ним, рядом, стоят молодые парень и девка, Лекандра и Анка. Лекандра поражает своей мизерностью, особенно рядом с Мамком; это просто мусорный парень, как его называют бурлаки. Одет он в рваный зипунишко, лапти и меховую шапку. Рябое лицо Лекандры с узкими карими глазами более чем некрасиво; движения вялы, – вообще, как есть несуразный парень. По другую сторону поносного стоит сестра Рыбакова, среднего роста пожилая женщина с необыкновенно звонким голосом; рядом с ней прижался к бревну бывший заводский служащий Минеич. Жалко смотреть на его тщедушную фигурку, на которой, как на вешалке, болтаются отребья длиннополого суконного сюртука. За ним стоит заводская косточка, тагильский мастеровой Афонька. Можно им залюбоваться. Ему едва минуло семнадцать лет, но какая могучая сила в этой белой груди, которая так и выпирает из-под разреза рубахи косоворотки; какое открытое, смелое лицо с прямым правильным носом и большими серыми глазами!.. Слегка рыжие волосы прикрыты обносками отцовской шляпы, на ногах стоптанные сапожишки, на шее донельзя заношенная косынка с измочаленными концами.
– Ты, Минеич, не изломай поносного-то, – шутит Окиня, подмигивая и причмокивая. – Пожалей хоть дерево-то, ежели себя не жалеешь, старый-немолоденький!..
– У нас свадьба, Окиня, – говорит Афонька, встряхивая волосами. – Вон Лекандру с Анкой водой не разлить… Точно их приклеили к поносному!
– А тебе завидно? – спрашивает Лекандра.
– Стал я глядеть на этакое косое дерево!.. – презрительно отзывается Афонька.
Анка, небольшого роста, смуглая, круглолицая девка, была бы, пожалуй, красивой, если бы ее не портил косой глаз. Одета она лучше других и держится постоянно около Лекандры, потому что из одной с ним деревни. Эта парочка сосредоточивает на себе внимание кормовой палубы, и все изощряют на ней свое остроумие.
Когда я только что вошел на барку, бурлаки на первый раз показались какой-то безличной массой, из которой только после внимательного наблюдения выделились мало-помалу эти типичные физиономии, костюмы и характеры. Не прошло нескольких минут, в течение которых бурлаки оглядывали друг друга, как уже безмолвным соглашением выработалось то неуловимое общественное мнение, которое сказывалось во всем – в интонациях голоса, во взгляде, в движениях. Утчане, конечно, стояли на первом плане; они составляли ядро, их мнение брало перевес во всех вопросах; за ними выделились заводские: Афонька, старик в войлочной шляпе, Гаврилыч, Минеич. Остальные, как сброд, не пристали ни к кому, а так и остались сами по себе. Женщины вообще не шли в счет за исключением Степаньки, которая слыла любовницей Рыбакова, и поэтому над ней не смели подшучивать с такой откровенностью, как над Анкой или Лушкой.
– Разве в бабе есть душа? – резонирует водолив Прошка, ужасный враг всех женщин. – В бабе пар, а не душа… Как все равно в курице. Потому им и цена такая: мужику до Левшиной дают восемь целковых, а бабе – четыре. Ежели бы я был сплавщиком, я бы всех этих баб за косу да в воду…
– Ишь, какой строгой, – замечает сестра Рыбакова. – В бабе пар, а в тебе што? Ты лучше расскажи, как тебя жена дома ухватом обхаживает… Поди еще теперя бока болят?
Прошка только крутит своей черноволосой головой и отмахивается руками. После сплавщика водолив – самое значительное лицо на барке, потому что, во-первых, на его ответственности весь груз, а потом он следит за исправностью судна, чтобы не было течи, не выпадала конопатка, не накоплялось много воды. Водолив нанимается обыкновенно до самого места назначения, барки и получает жалованье помесячно. Сплавщик и бурлаки оставляют барку в Левшиной, последней пристани на Чусовой, а водолив остается до сдачи металла. В случае, если бы барка разбилась или окончательно обмелела, сплавщику и бурлакам больше нечего делать, как только брести по домам, а водолив остается караулить. Поэтому в водоливы выбираются самые надежные мужики, особенно на барках с медью. Нет ничего легче, как взять двадцатифунтовую штыку меди и незаметным образом вынести на берег или даже спустить в воду, чтобы на обратном пути продать эту лакомую добычу. Водоливу приходится день и ночь следить за бурлаками, иначе он может жестоко поплатиться, потому что у него вычтут из жалованья за всякую недостачу меди.
Прошка был пробойный мужик, тертый калач и хаживал на барках водоливом до Петербурга. Благодаря этим путешествиям он уже вошел во вкус подлаживания под барина: умел угодить, прислужиться, чего совсем не было в Окине. Мне нужно было доехать на барке только до Кыновского завода, верст семьдесят, но Прошка сейчас же разгородил свой балаган на две половины и предоставил одну из них мне, как барину. Эта политика была очень незамысловата, но приводила в изумление бурлаков. Эти угрюмые создания еще не освоились с тем типом барина, который дает на каждом шагу на чаек и на водку: для них барин являлся в образе караванного, исправника, приказчика и тому подобной грозу наводящей братии. Впрочем, я был очень благодарен Прошке за его любезность, потому что было очень холодно и вдобавок начинал накрапывать осенний дождь. Лежать в такую приятную погоду даже под прикрытием рогоженного балагана составляло истинное счастье, блаженство, сравнительно с положением несчастных бурлаков, которым приходилось стоять у поносного под открытым небом.
– Что же они не наденут ничего на себя? – спрашивал я Прошку, когда дождь смочил у всех рубашки и заставил Окиню застегнуть кафтан.
– Было бы чего надеть, барин…
– Неужели у них больше ничего нет с собой?
– Все на себе; в котомках хлеб да харчи. Разве у баб есть што-нибудь.
– Ведь холодно… Как они поплывут?
– Вот так и поплывут…
Оставалось только пожать плечами. Мне было холодно в теплом осеннем пальто, под прикрытием балагана, а там стояли люди в одних рубашках под холодным осенним дождем. Нужно заметить, что осень на Урале вообще стоит всегда холодная, а на воде еще холоднее, чем на берегу.
– Привышный народ, – говорил Прошка, являясь в балаган с медным чайником вскипяченной для чаю воды. – Им не впервой в одних рубахах плыть. Ну, да и на работе тоже греются… Водку берут другие.
Мне просто было совестно прохлаждаться чаем в балагане Прошки и возбуждать общую зависть этой роскошью. На одном плесе, где не было работы, я пригласил Окиню и Минеича, а остальным бурлакам пообещал водки в первой деревне, какую встретим на берегу.
Сплавщик пришел первым. Перекрестившись, он осторожно налил чаю на блюдечко и, отдувая пар, выпил стакана четыре. В широкую щель, которая образовалась между рогожами, он следил все время за берегом и время от времени командовал «ударить нос направо» или «поддоржать корму».
– Ему глаза завяжи, так проплывет, – говорил Прошка, кивая на сплавщика.
– Всяко, Прошь, бывает, – уклончиво отвечал Окиня.
– Мы где сегодня остановимся? – спрашивал я, потому что начинало уже вечереть.
– Зачем нам остановляться?
– Как зачем: ведь ночью не поплывешь здесь…
– Ничего, бог поможет, проплывем.
– Да ведь темно будет?
– По приметам сбежим… На камни будем глядеть.
Бурлаки никогда не говорят, что барка плывет, а непременно «бежит»; горы они называют камнями. Поблагодарив за угощенье, Окиня ушел на свою скамеечку, а вместо себя послал Минеича. На бедняка было страшно смотреть: это был скелет, обтянутый кожей. Все на нем было смочено до последней нитки. Худое, изможденное лицо смотрело таким страдальческим, губы посинели, кожа получила мертвенно-серый цвет. Тощая, жилистая шея была вытянута, пальцы на руках судорожно скорчились и даже почти почернели. Мне показалось, что Минеич замерзал.
– Минеич у нас завсегда в худых душах, – шутил Прошка (на заводах выражение «в худых душах» равносильно нашему «при смерти»). – Ты которую путину ломаешь, Минеич?
«Сломать путину» – значит сплыть на барке.
– Пятый раз плыву, – отвечал служащий, принимая дрожащими руками стакан чаю.
– Вы раньше в Тагиле служили?
– Да, служил… Лет двадцать послужил, а потом отказали от службы.
– Что же, у вас семья есть?
– Как же, и жена и дети. Целых пятеро… Да, четыре девочки и один мальчик.
Минеич с жадностью глотал горячий чай. Его бесстрастный, взгляд оживился, и он только вздрагивал, когда струйка холодной воды пробегала у него по спине.
– Неужели вы никакой другой службы себе не нашли? – спрашивал я.
– Был несколько лет учителем, потом штегерем… Везде отказывают.
– Все водочка нашего брата в малодушие производит, – резонировал Прошка, когда Минеич уплелся на палубу.
– Когда же бурлаки спать будут? – спрашивал я.
– По сменам спать будут. Вот приткнемся где-нибудь к огрудку или набежим на таш, тогда спи, сколько влезет. Или вот когда из камней бежим, за Камасиным места открытые пойдут, ветер как ударит – и стоишь дён пять в другой раз. В камнях и успеваем поскорее выбежать…