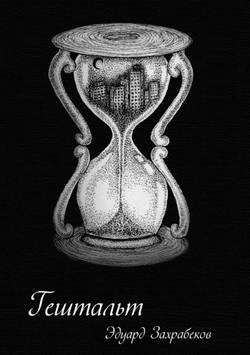Читать книгу Гештальт - Эдуард Захарович Захрабеков - Страница 1
ОглавлениеОт Автора
Жизнь хороша своими сюжетами: печальными, весёлыми, смешными, нелепыми.
Но есть такие люди, которые думают, что всё знают о нас. Кто-то их не любит, кто-то боится, кто-то всецело доверяет, забывая, что Они – обычные люди из крови и плоти, у них есть свои страхи, свои увлечения, свои заблуждения. Часто Они могут помочь, но могут и навредить, ведь Они люди, которым свойственно заблуждаться, любить, ненавидеть. Помогая другим, Они подчас не в силах помочь себе, им приходится буквально восстанавливать себя по кирпичику, по клеточке. Они страдают, как все. Они не ангелы, Они не бесы, Они просто стремятся округлять, делать незавершённое – завершённым, несовершенное – совершенным. Ведь круг не будет кругом, если мы один конец не соединим с другим. Так и Они подчас соединяют наши разорванные души, судьбы, ситуации. А в праве ли Они это делать? Может надо оставить всё как есть?
Выход есть? Выбор есть?
Содержание:
Я I часть
Верка
Любаша
Павел
Димон
Светка
Лера
Матвей
Олег
Валера
Я II часть
Я
I
Повседневная жизнь человека проста и состоит из удовлетворения обычных потребностей. Так полагал я, придумывая, чем бы сегодня поужинать. Мне представлялась свиная рулька и картофельное пюре. Можно и пива выпить.
Закрывая машину у ближайшего супермаркета, я мучительно думал, как стану ходить между рядами, представляя, что можно из этих продуктов приготовить, а потом выберу пельмени и чай в пакетиках. Поэтому пока стеклянная дверь медленно открывалась передо мной и ещё парочкой таких же мучающихся, я твердо решил, что возьму кусок, нет, два куска семги, замороженную зелёную фасоль и белое сухое.
Полуночный супермаркет был тих и стерилен, только кассирша портила всё, рассматривая каждого как террориста: смотрела вслед, пытаясь запомнить, у кого какая сумка при себе, кто куда пошел и с чем возвращается. Я начал с вина: бутылки, бутылки, бутылки; водка, водка, водка и пиво. Дальше я не пошел, надо выбирать. Какое бывает белое? Эй, на кассе, какое белое мне выбрать? «Сухое выбираете?» – участливый юноша заглядывал мне в глаза. «Возьмите рислинг, вот этот, – он показал рукой в белой перчатке на ряд нарядных бутылок с полупрозрачной жидкостью, – австрийский рислинг. К лёгкому ужину лучше всего. К тому же мы сегодня продавали его по акции, завтра ещё не наступило в полном смысле, поэтому если его выберете, то сможете воспользоваться нашим суперпредложением». Он по-дружески улыбнулся. «Экономить приятно» – подумал я и взял рислинг. Фасоль с лёгким шуршанием упала на дно корзины. Далее следовала рыба. Шагая между полками с продуктами, я даже успел представить, как она будет выглядеть: этаких два аккуратных кусочка только что из духовки, с блестящей от оливкового масла поверхностью, посыпанные приправой, чёрным душистым перцем. Мечты. Сёмги не оказалось, форели не было, и даже горбуша отсутствовала на холодильном подносе. «Есть минтай, – недовольно ответила крупногабаритная дама за прилавком, – свежий, мороженный. Там, в холодильнике».
И тут меня понесло.
– Ты! Сельпо! Какой минтай!
– Мущщина! Говорю, что есть. Селёдка еще есть и всё!
– Я не хочу этот ссаный минтай, мне нормальную рыбу надо!
– Почему это он ссаный?
– Потому! Жёлтый он и воняет, в горло не лезет!
Работница прилавка подбежала к холодильнику, достала затуманенный пакет с рыбой, стала ее вытряхивать из пакета, нюхать и совать мне в нос со словами «Да што бы ты понимал в рыбе-то!»
Было поздно. Я почти бегом бросился к прилавку, грохнул корзиной перед возмущённым лицом кассирши, расплатился за рислинг и опрометью из магазина. Успокоение пришло только дома на диване, после трёх стаканов вина, без сёмги, без фасоли, без настроения.
До утра думал, чего это я так завёлся. Пришел к выводу, что это мой гештальт, абсолютно незавершённый гештальт так вышел из меня: хотел вкусно поужинать, вместо этого вдрызг напился, и это хорошо, что только так. Ведь могло быть и хуже.
Человек едет на рынок, чтобы купить помидоры, а покупает крыжовник.
Человек хочет всю жизнь прожить с Алёной, а живет с Наташей.
Человек пришел в салон сделать пирсинг, а ушёл с татуировкой на плече.
Человек ощущает себя брюнетом, а каждый месяц осветляет волосы.
Человек содержит прибыльный стоматологический кабинет, хотя собирался стать дизайнером жилых помещений.
Что со мной не так? Неужели какой-то там гештальт делает мою жизнь?
Я покупаю билет на самолет, хотя предпочитаю поезда.
В какой-то точке планеты я погибаю от эпидемии малоизученного вируса, хотя собирался умереть в преклонном возрасте в любимом продавленном кресле с чашкой какао в руках.
Господи? Всевышний? Боже? Ты управляешь моим гештальтом? Или не ты? Кто сумел просчитать, что и как будет в моей жизни? Откуда появились те весы, на которых всё взвесили, и что это за мера, которой всё измерили? И в итоге – кто несёт ответственность за мои поступки, моё существование, мою жизнь?
Верка
Поезд выдохнул «ш-ш-ш», и поток горячего воздуха обнял Олю за ноги.
Он стоял на узком перроне и улыбался. Юрка был молодым подполковником. Маленький, весь из себя неказистый, с белесыми редкими ресницами, он походил на хулигана и двоечника. Одевался скромно, будто дворник или грузчик. Когда Юрка ехал в рейсовом автобусе на дачу, никто бы и не подумал заподозрить его в военном чине. Таким он, Юрка, был всегда, будто стеснялся своей успешной карьеры. Успешная карьера наложила на Юркин характер свой тяжёлый отпечаток: драчлив, высокомерен, презирает всех. Его жена Вера, бедная, страдала от своего неказистого и заносчивого мужа всегда: сквернословил, поколачивал, выгонял из дома. Но был у Юрки огромный плюс – он получал большую зарплату. Официально Юрка с Верой были в разводе, и она воспитывала его двоих детей. По этой причине и получала солидные алименты. Поэтому-то и жили под одной крышей, ругались, дрались, но неизменно мирились. Сегодня Юрка в форме, с букетом цветов, пришёл встречать свою жену и сына на вокзал. Юрка стоял на узком перроне и улыбался тёплой улыбкой. Оля махнула ему рукой, он – кивнул в ответ.
Началось всё как-то просто. Верка и Оля решили рвануть в отпуск, в Крым. Воспоминания детства, обещание жаркого лета и мечты о море воплотились в жизнь – купили сарафаны, подхватили младшеньких детей и сели в поезд. Отпуск начался, когда за окном мелькнул пыльный облик городка и грустное лицо Юрки. Привет, море!
Море плескалось у самых рельсов. Восход солнца, крик чаек, песни муллы и море, бирюзово-кровавое море за окном. Хотелось выпрыгнуть из душного вагона прямо в эту чудесную воду, бездумно качаться на её волнах, чтобы волосы, губы, руки – солёные, и счастье по капельке вливалось в тебя, переполняло и подступало к горлу диким криком дикой свободы. Дети, это – море! Море, это – мы!
Сейчас, когда Оля вспоминала своё морское счастье, Юрка казался мелким и незначительным. Но их траектории сближались, руки и глаза должны были пересечься. И чем ближе был этот момент, тем больше Оле хотелось уменьшиться и превратиться просто в камешек на асфальте. В одной руке у неё была ручка чемодана, его колесики громыхали по гальке где-то за спиной, в другой руке – рука дочери. Дочь держала за руку Веркиного и Юркиного сына. Юрка улыбнулся Оле, перехватил своего сына и, как-то буднично и просто, спросил: «А Вера где?». Очевидно, что Вера должна была выпорхнуть загорелым облаком из поезда Иркутск-Симферополь и чмокнуть его в щёку. Он ждал этого, и Оля тоже стала ждать. Казалось, иначе быть не может, вот ещё один миг и …. Поезд шикнул и покатил. Юрка обернулся и уже крикнул в Олин раскрытый от удивления рот: «Жена моя где?»
Купались прямо с набережной. Шагнув на скользкие камни и стесняясь своих пока белых тел, упали в море и поплыли. Море забиралось в нос, щекотало щёки, плескалось в уши, водоросли опутали ноги, розовые пятки мелькали в их зелени. Натянули сарафаны на мокрые купальники и пошли искать жильё. Оно нашлось быстро, недорогое, нефешенебельное, но прямо у набережной, в историческом центре рядом с мечетью и недалеко от рынка.
В Крыму считается хорошим тоном рано поутру всем отдыхающим, курортникам и местным жителям посещать рынок. Витамины – непременная составляющая любого приличного отдыха. И хорошо, если витамины только что сорвали с ветки, собрали с грядки, обобрали с куста. Ну, или ещё только прошедшей ночью разгрузили с турецкого морского судна. Местным хочется, чтобы курортники сорили деньгами, ели в ресторанах, платили за пляж, море, солнце, фоткались с мартышками и в камзолах, катались на аттракционах и ездили в такси. Они же деньги экономят, варят в общей кухоньке на газу, купаются с набережной, загорают там же, мартышкам и камзолам только улыбаются и спрашивают о цене, аттракционы не выбирают – боятся несчастных случаев и упорно ходят пешком или в толчее едут в общественном трамвайчике. Хотя пару раз срываются и делают приятное себе и местным. Кто не был в Крыму – не знает крымского безалаберного дурного счастья.
Южный рынок – не рынок, песня юга с примесью востока. Чего там только нет. Глаз радуется, язык хочет всё попробовать, желудок мечтательно урчит, с языка стекает предательская слюнка, руки тянутся – кошелек незаметно пустеет. И самый важный на рынке – продавец гранатов. Деревянный навес сколочен крепко, наверное, продавец фантазировал, что его прилавок курортники станут штурмовать. Под крышей, связанные соломенным шпагатом, висят-качаются гранаты в пучках и ожерельях. Гранаты висят там давно, их спалило жаркое солнце и иссушил степной ветер. Красные головки ритмично бьются о балки в такт выкрикам молодого торговца: «Гранат! Спелый гранат! Гранатовый сок! Гранатовый чай! Берём гранат!» Гранаты отшлифованы каждодневным солнцем и даже треснули кое-где, по балкам стекает сукровица гранатового сока, окрашивает древесину, и от этого купить гранат хочется ещё сильнее. Отжатый сок разлит по всевозможным графинчикам, бутылочкам, баночкам. Щедрый торговец зовёт всех попробовать сок из маленьких стаканчиков объёмом как раз в один глоток. Торговец, ещё совсем молодой парень, кричит громко, никого не зовёт, но всем улыбается белыми зубами. Люди подходят, пробуют, чмокают кровавыми губами, улыбаются в ответ широко, благодарно, но покупают гранаты редко. Торговец стоит целыми днями, кажется, что он и ночует за своим прилавком, обняв связки со своими замечательными плодами.
Как раз такую авоську с гранатами Оля сейчас и держала в руке, протягивала Веркиному мужу, зажав от страха в кулаке уголок разорванного края. Дырка была совсем маленькая, гранаты выпасть не могли, но ей было почему-то стыдно перед Юркой, что эта дырка вообще есть. А может, она вместе с дыркой зажала в своём кулаке страх посмотреть Юрке в глаза. Оля боялась Юрку, боялась с ним разговаривать, тем более встречаться взглядом. Дети, чувствуя нерв в голосах взрослых, затихли. Веркин и Юркин сын вздохнул и сдавленным шепотом выдавил: «Папа…».
– Юра, давай зайдём в вокзал! – Оле хотелось отвести чужого мужа подальше и поговорить тихо и самозабвенно, так, чтобы он ей поверил.
– Юра, давай пойдём и присядем где-нибудь!
Юрка стоял и смотрел на Олю страшными глазами. Надо было его увести с перрона. Она проявила инициативу и рванула вперед, волоча за руку и свою дочь, и сына Верки и Юрки, стуча колёсами чемодана и подняв высоко голову. Казалось, что приступ страха немного отпустил. Юрка, изобразив на лице нечто вроде недоумения, быстро пошел за ними. Скамейка в зарослях акации была пуста.
– Юра, случилось небольшое недоразумение. Вера, она отстала от поезда. На границе. Где-то в Лисках. Пошла за пирожками и немного не успела. Но у неё всё в порядке, начальник поезда уже узнавал по рации. Её отправили следующим поездом, она будет через три дня дома. Ты встречай её. Так получилось, мы не смогли позвонить тебе.
И Оля, наконец-то, засунула Юрке в руки авоську с гранатами.
– Вот! Это гранаты! Вера просила передать их тебе, как только приедем. Не грусти, всё будет хорошо!
Последняя фраза, конечно, была неуместна, но Оле хотелось подбодрить растерянного чужого мужа. Схватив своего ребенка в охапку, чемодан и многочисленные корзинки и пакетики, она стала все это запихивать в подъехавшее такси.
– Юра, не грусти! Жди её скоро! Через три дня!
Больше Оля на Юрку не смотрела. В открытое окно такси донеслись только последние слова Юрки: «Ладно…» и жалобное сыновнее: «Пап, пошли домой. Я хочу домой».
«Пусть разбираются сами! Пусть разбираются сами!» – пел кто-то в Олиных ушах голосом продавца гранатов.
День следовал за днём, отпуск был в разгаре. Томным крымским утром Верка пришла с рынка с огромной корзиной, в которой, среди прочей снеди, царственно возлегал гранат, небольшая бутылочка гранатового сока с кокетливо повязанной бантом крышечкой выглядывала между молоком и персиками. На Олины расспросы Верка только дернула плечом:
– Казбек подарил!
– Гора что ли?
– Ага, человек-гора. Казбек зовут. Продавца гранатов с рынка помнишь? Вот он и подарил.
– А с чего это нам Казбеки подарки делают?
Верка улыбнулась как-то совсем счастливо:
– Понравилась я ему. Думаешь, я чего с утра пораньше за покупками зачастила? Казбек меня ждёт. Такой Казбек…
И она самозабвенно закружилась по комнате каким-то безумным танцем, пятками оттоптала нечто русское, национальное, и закончила лезгинкой.
– Грузин он, что ли?
– Не знаю. Даже не знаю, как его зовут. Он – Казбек, Казбек – и всё. Мне так нравится и ему нравится. Зачем мне его имя?
– А зачем тебе его гранаты? За гранаты расплачиваться придётся. Тебе.
– А тебе печаль какая? Мне же, а не тебе!
Было в Веркином голосе что-то непростое, чего стоило испугаться. И Оля испугалась. Но южное солнце располагает к прощению. Вскоре забылось и о Казбеке, и о Веркиных предосудительных танцах. Тем более на рынок Верка больше не ходила. Боясь неразумных поступков подруги, Оля решила, что на рынок отныне ходит сама. Верка про Казбека больше не говорила, а только мечтательно смотрела в голубое крымское небо и вздыхала так томно, что соседи на пляжных лежаках стали посматривать на неё с интересом.
– Верка, если бы море лежало на твоей груди, оно бы уже давно вышло из берегов. Кончай вздыхать, мадам Грицацуева нервно курит в сторонке. У твоего Казбека четыре жены, пятнадцать детей, любовницы-смертницы и глаз с порчей.
– Я согласна стать его ещё одной женой, любимой. Как думаешь?
– Я думаю, что у дам бальзаковского возраста, чьи мужья работают в полиции, часто случается курортный гон. Но мы же с тобой сюда не за этим приехали? А?
– И за этим тоже.
Верка отряхнула песчинки с круглого зада и, расталкивая млеющих пляжников, не переставая извиняться, побежала к морю. Пара русских Иванов с жиром на пузе, наплывающим на плавки, алчно посмотрели ей вслед. По сравнению с ними Казбек был совершенством. Подруга понимала Верку.
Отпуск, как всё приятное в нашей жизни, имеет свойство заканчиваться. Вот и счастливые дни под южным солнцем были уже почти сочтены. Всё чаще думалось о работе, покупались глупые сувениры и чемоданы наполнялись, чтобы в один день захлопнуться, закрыться, погрузиться и отбыть на родину. Три дня до конца отпуска, магические три дня до отъезда, когда ум уже всё осознал, а тело не верит ему и желает продлить крымское солнце, сухой обжигающий ветер и нежное море.
Сквозь трепещущие ресницы в час самого раннего рассвета, когда местные жители ещё и не думали просыпаться, Оля наблюдала, как Верка собиралась на рынок. Красный сарафан на голое тело, плетеные босоножки, распущенные по плечам русые волосы, заботливо уложенные в кудри, и шляпа.
– Забыла про губы – алые гранаты и глаза-сливы, русская краса – Лето этого года!
Верка от неожиданности даже пяткой дернула.
– Решила-таки перед отъездом судьбу на любит-не любит попытать?
– Какая ты злая! – зашипела она. – Курортный роман должен быть. Для жизненного тонуса, чтобы жизнь пресным комом в груди не стояла, а бурлила, неслась и клокотала. У меня в планах – небольшая интрижка. Ма-а-а-ленькая такая, совсем малюсенькая, никто и не заметит.
Верка размер интрижки показывала на маленьком пальце, упирая куда-то в район розового ноготка. И на этом её пальце интрижка выглядела совсем пустяковой. «Пусть!» – решила Оля, и дверь за Веркой захлопнулась.
Весь день Оля гуляла с детьми, купалась, наслаждаясь последними днями на юге. Дети, чувствуя скорый отъезд, тоже пытались изо всех сил запечатлеть в себе лето. Только мысли о Верке не давали совсем расслабиться.
– Почему так поздно? Как я должна объяснять детям, куда умотала мама Вера?
– Мама Вера весь день провела в утомительных прогулках по ботаническому саду, в нырянии в море с огромных камней и в поцелуях-поцелуях-поцелуях. Нацеловалась на всю жизнь!
– А почему нацеловалась?
– Сегодня вечером пойдём благословляться, без этого у них можно только целоваться.
– Как благословляться?
– Ну, Казбек же мусульманин, ему надо в мечеть, чтобы его благословили на брак со мной.
– На брак? Какой ещё брак? Ты совсем из ума выжила?
– Ничего ты не понимаешь! Брак на одну ночь. У них так положено, я сама, конечно, ничего не понимаю, но Казбек сказал, что так положено. Сегодня праздник и его благословят.
Всё было как-то странно. Верка пропала на оставшиеся два дня. Оля провела эти дни в нервном ожидании, что вот откроется дверь и внесут её бездыханное тело. Ночами мучили кошмары. Однако Верка явилась домой ровно в оговоренное время, свежая, счастливая, ничего не объясняя, приступила к сбору вещей и только на вокзале, воспользовавшись, что дети рассматривали прибывающие поезда, шепнула: «Супер! Все было супер!»
Ночью в поезде Оля провалилась в глубокий сон, Верка была на месте, дети дружно сопели на соседних полках, расслабление пришло как наваждение. Когда Веркино лицо встало перед Олей в свете мелькающих за окнами фонарей, аж дурно сделалось. Верка сидела на корточках, загородив обзор от мирно спящих соседей шляпой, она что-то быстро шептала.
– Не могу. Совсем не могу. Это любовь. Я схожу с ума. Безумие. Он простит. Возьми документы сына.
–Что-о-о?
Мгновенная догадка подбросила Олю с полки. Верка собирается бросить ей своего сына, сбежать с Казбеком, заставить объяснять это её мужу Юрке.
– Сейчас граница, тебя никто никуда не пустит. Снимай свой парадно-эротичный наряд и ложись спать. Утром образумишься – сама над собой смеяться будешь. Вера!
– Я всё решила, до границы одна станция, я соскочу. Прошу, присмотри за ребёнком, в сумках всё необходимое есть, ты же сама мать, поймешь, что надо.
Мысль, что Верка это спланировала, сразу и прочно засела в Олиной голове.
– Вера! Вера!
В темноте Веркин прыжок никто не заметил, только под её быстрыми ногами зашуршал песок и мелкие камни. Вслед Оля бросила ей сумку с вещами и документами. Бледная фигура пошла быстро к перрону, голос сдавлено крикнул: «Ничего мне не говори! Я все решила!» Набрав Веркин номер телефона, подруга попросила: «Если будет плохо или передумаешь, набери меня, придумаем что-нибудь». Это было последнее, что она могла предложить этой сумасшедшей.
«Гранат! Красный гранат! Сочный гранат! Пробуем гранат!» – пел кто-то в ушах голосом продавца гранатов.
Верку Оля встретила уже в сентябре. Она вернулась домой через пять дней, почти как обещала Оля чужому мужу. Когда Верка на перекладных добралась до Крыма и ранним утром прибежала на рынок в своем красном сарафане и зрачками, расширенными страстью, Казбек мило беседовал с молодой туристкой, ещё не тронутой загаром, о том, что не только красные гранаты могут быть спелыми, но и даже самые бледные на вид. Верку Казбек, как водится, не узнал. Прослонявшись ещё около двух дней по пустеющим пляжам, она поняла, что лето и любовь подошли к концу, и пора бы вернуться в обычную жизнь, к мужу. Тем более что попугай седого старика на набережной вытянул для неё из старой шляпы записку: «Собачьего нрава не изменишь». Охнув, Верка купила обратный билет. Никто ни о чём не узнал, только Веркин сын как-то утром позвонил Оле и счастливым голосом сообщил: «Мама вернулась!»
Любаша
Мечтой всего Любашиного детства было наесться досыта.
Полуголодное существование развивало фантазию. Любаша засыпала, думая о блинах с маслом, которые можно макать в густую, чуть желтоватую сметану, или о маленьких булочках с изюмом и маком, или о рыбном пироге, где много поджаренного лука и яичные круги, смазанные сливочным маслом. Верхом всех фантазий был небольшой, но высокий, в несколько слоев, торт с кремом, белым и розовым, на котором разместились малюсенькие ягодки, цветы, бабочки и, обязательно, завитые буквы в надписи «Поздравляем». Любаша представляла себе, как одними губами снимает с торта ягодки, слизывает розочки и красные завитушки надписи, а потом – доедает бисквит, промазанный клубничным конфитюром. С этой вкусной фантазией и сладким привкусом во рту Любаша и засыпала.
Любашина семья была бедной. Любаша жила с мамой, которая работала гардеробщицей, и отчимом. Отчим, очевидно, нигде не работал, но содержал семью. Маминой зарплаты хватало только на неделю, а потом начинались мучительные дни в ожидании новой. В такие дни мама говорила: «Вот получу получку…» Но после зарплаты ничего не менялось, долги раздавались, покупалась сечка, хлеб и растительное масло, фанфырик для отчима и сигареты. Теперь была очередь отчима, он долго курил взатяг, а потом уходил «на работу». Иной раз он возвращался с пустыми руками и злой, случалось, что-то приносил, и тогда мать начинала метаться по соседям, продавать. После этого в доме появлялась вкусная еда. Но Любаше из еды почти ничего не перепадало, отчим говорил, что кормить «чужое отродье» не станет. Любаша сочувствовала матери и отчиму, им слишком тяжело давалась эта жизнь, она никогда ничего для себя не просила, терпела. Только ночью, в снах своих, она могла отведать таких яств, о которых только слышала или читала.
Любаша выучилась на повара в училище, а потом, в технологическом колледже, получила специальность технолога общественного питания. Теперь она работала в пиццерии заведующей производством и совсем забыла, как засыпала в детстве, мечтая о булках и тортах. В её теперешней жизни было много теста, начинки, разной сдобной радости. Любашина счастливая натура приподнимала хозяйку над землей, как опарное тесто поднимает крышку кастрюльки, как съестные запахи поднимают душу голодного над бренным бытием. Любаша делилась этой своей сдобностью с каждым: она пекла «Маргариту» с фирменным соусом, «Большую Бонанзу» с соусом Барбекью и острыми перчиками халапеньо, «Пепперони» и «Чикен Бургер», пиццу «Четыре сыра» и «Мясное удовольствие». Любаша с легкостью выговаривала любые ингредиенты самой сложной пиццы, знала всё о толстом и тонком тесте, готовила индийскую пиццу, мексиканскую и американскую и, конечно, итальянскую. И вечером засыпала вполне довольная, без воспоминаний о несчастливом детстве, трудной юности; она радовалась, что смогла накормить человечество вкусно и досыта.
Только одно терзало Любашину душу и лишало е ё душевного равновесия: у неё не было детей. Никак Любашино доброе, сдобное, пышное, где надо – узкое, где надо – широкое, тело не хотело беременеть. Любаша просто рождена была для детей, у неё были широкие бёдра и грудь приличного размера, она не была слишком худа или толста. И тело, и душа Любаши желали дитя, но его всё не было. У Любашиной прабабки было десять детей, у бабки – восемь, правда Любашина мать смогла родить только её, но это от трудной жизни. Любаша пестовала этого ребенка в своей душе уже очень давно, считала, что её счастливая и полноценная жизнь начнется только с рождением ребенка, младенца, мальчика или девочки.
Мужей в Любашиной жизни было трое.
С первым она сошлась по глупости. Все Любашины подруги собирались в скором времени выйти замуж, а она подзадержалась. У Любаши был влюбленный в неё сосед. Он был толст и ленив, но всё же – мужчина. Женившись на Любаше, он своих привычек не поменял, лишь стал ещё толще. За руль машины (а он работал в такси) его приходилось долго усаживать. Зимой муж и вовсе не работал, в теплой зимней одежде за рулём он не помещался. Любаша даже боялась думать, что с ним случится, попади он в аварию. Это было бы душераздирающее зрелище, много мяса, много крови, а ещё он наверняка бы задохнулся в подушках безопасности. Ко всем его недостаткам муж очень вонял, грибок, казалось, распространился по всему его телу, ел кожу, ногти, волосы. Перед тем как уйти от своего первого мужа, она перестала его кормить. Он бесился, обзывал её обидными словами, швырял в неё всем, что попадало под руку. Но Любаша уже решила, что уходит, и это её мало задевало.
Второй муж был полная противоположность первому: поджар и мускулист, как хорошая гончая. Он привозил в кафе, где тогда работала Любаша, овощи – огурцы, помидоры, хрен и зелень. Выгружал всё сам, сам же заносил деревянные лотки и громко смеялся, отсчитывая татуированными пальцами мятые сотни и полтинники. Он работал на фермерском хозяйстве, был там и рабочим, и охранником, и водителем. Особенно Любаше нравился секс с ним, он был ненасытен, готов был заниматься любовью в любое время дня и ночи, в любых условиях. Любаша смущалась, но что скрывать, ей нравилось. Сексом надо заниматься сразу, как только захотелось. Что за болтовня про подходящие условия? Этим он жил. Любаше нравилось, как он трудился над её сдобным телом. В конце акта он хлопал Любашу по розовому заду своими татуированными ладонями со словами: «Цимус!» и засыпал между Любашиных тяжелых грудей. Любаша любила его как младенца, как котенка своего любит кошка, как о птенце заботится птица, со снисходительной нежностью следила за его действиями и боялась, что он пропадёт. И однажды он и вправду пропал, вместе с женой фермера и японским грузовичком, полным свежих овощей. Жена и грузовичок вскоре нашлись, а вот второй муж – нет. Пропал. Она его искала, но он просто испарился со своим откровенным смехом и татуированными пальцами. Кстати, татуировки у него были только на трех средних пальцах правой руки – «Ищи». «Буду искать,» – думала Любаша, засыпая каждую ночь в слезах, прижимаясь румяной щекой к белому квадрату подушки, на которой совсем недавно лежала голова её второго мужа.
Третий, теперешний муж был чем-то средним между первым и вторым. Вечно недовольный, обиженный жизнью, он чем-то напоминал Любаше её отчима, чёрный и снаружи, и внутри. Нет работы – злится, есть работа – злится ещё больше. Он был автослесарем и работал в гараже, грязная тяжёлая работа. Улыбался он только в двух случаях, когда жалел бродячих собак или когда ему в гараже какой-нибудь довольный ремонтом владелец давал сверху пару тысячных купюр. Любаша понимала своего мужа, чего скалиться-то без толку. «Миленький, давай ребёночка родим?» – иногда робко спрашивала она. «Рожай, – отвечал он. – Только запомни, у мужиков детей не бывает. Сама расхлебывать будешь». Любаша вздыхала, она бы и родила, и расхлебывала, да не получалось.
В праздник отправилась Любаша в городскую церковь, хоть и не была крещёна. Купила три больших восковых свечи и стала размышлять, кому поставить: одну поставила Иисусу, одну – Матери Божией, а с третьей долго определялась. Бродила по церковным закуткам, целовала оклады икон, крестила свою пышную грудь. Наконец выбрала какого-то седого старика в черном одеянии с золотыми крестами и поставила свечу перед ним. Пятясь к выходу, она что-то шептала, с мольбой глядя на всех святых. Краем глаза она заметила в углу сухонькую старуху, которая, казалось, дремала. «Бабушка! Бабушка! – громко произнесла Любаша. – Это кто?» Старуха встрепенулась. Любаша решила, что старуха глухая. «Бабушка, кто это?» – повторила свой вопрос Любаша, одними глазами показывая на седого старика с иконы. «Деточка, это Николай-Чудотворец, житие вот его возьми, почитай», – показала пальцем на стеклянный церковный прилавок с книгами старуха. Да, Любаше чудо бы совсем не помешало. Она попятилась к выходу, почти задыхаясь, выбежала на улицу. Долго, пока не заслезились глаза, смотрела на золотые луковки церковных куполов. «Дышать в церкви очень тяжело», – объяснила она нищенке у ограды и подала сто рублей.
Ночью Любаше снился Николай-Чудотворец, он участливо смотрел на неё: «Пойдёшь гулять, под горой найдёшь камень, – старик смерил взглядом Любашу, – килограмм на пятьдесят. Будешь его три раза катать в гору столько дней, сколько сможешь. Закатишь, передохнешь и кати вниз. Так трижды. Оставишь его там, где нашла. Потом испеки столько хлебов, сколько дней камень катила. Пироги раздашь жёнкам, у которых детей много. И будешь с дитём. Не бойся, родильная ложка всегда с солью, с перцем».
Любаша после сна долго сидела на кровати, шевелила пальцами ног и удивлялась, какие у неё ноги белые да гладкие. Рядом, почти неслышно, спал третий муж.
Любаша жила в домике на пригорке, внизу был городской пруд. Утром, до работы, пока не приехал служебный автобус, Любаша бродила вдоль берега и нашла свой камень, большой, неправильной формы, он рос прямо из земли, вроде как ожидал её. «Трудно катить будет», – подумала она, но других больших камней поблизости нигде не было. Вечером, в сумерках, Любаша пришла к берегу с туристической лопаткой и принялась выкапывать камень, с трудом она отделила его от родного углубления, долго сидела на нём, не могла никак отдышаться. Принялась катить, было тяжело и неудобно. Ещё она поняла, что одежда её никак не предназначена для такого труда. Поэтому восхождение с камнем было отложено на завтра.
Вечером другого дня Любаша пересмотрела свой гардероб, нужны были брюки, но она принципиально не носила брюк, они стесняли её сдобное тело. Любаша выбрала длинный льняной сарафан, под него надела флуоресцентные жёлтые лосины, которые использовала летом для прополки грядок. В сарафане сдвигание и закатывание камня пошло быстрее, она не боялась нагнуться низко или упереться ногами в неудобной позе, сарафан надежно скрывал её ладные ноги в ярких лосинах. В тот вечер, или точнее – ночь, камень закатился к Любашиной ограде довольно быстро. Несколько минут Любаша хватала воздух ртом, размышляя, стоит ли его сегодня скатывать. Нагнулась и, что было сил, толкнула его вниз, крикнула зачем-то: «Поберегись!» Хотя ясно было, что на улице уже совсем никого нет. Вроде никого не задавила, только внизу заливисто залаяла собака. Было два часа ночи, третий муж неслышно спал в супружеской кровати.
С утра, собираясь на работу в пиццерию, Любаша засомневалась в своём поведении: руки-ноги в синяках, плечи болят, ногти обломаны. Перед автобусом Любаша отправилась взглянуть, куда укатился её камень. Оказалось, что он вовсе не скатился вниз, а застрял на полпути, попав в какую-то выемку. Любаша докатила камень к пруду как раз к самому приезду автобуса. Когда раздалось шуршание колёс по гравию, Любаша приводила в порядок свою прическу. Садясь в автобус, она старалась не поднимать руки вверх, чтобы никто не заметил тёмные пятна пота.
Так продолжалось неделю. Никем не замеченная, она каждый день катала свой камень, забывала есть, да и готовила ужин только для мужа, любимый сериал не смотрела, к соседке поболтать не забегала. Третий муж вёл себя так, будто ничего не замечал, равнодушно сопел в стенку, когда, глубоко за полночь, Любаша возвращалась домой. «Какой бесчувственный! Спросил бы хоть, где была. Ночь ведь на дворе!» – думала она, укладываясь спать уже под утро. В седьмой день, когда Любаша заталкивала камень обратно в его естественное углубление и присыпала землёй, помогая себе туристической лопаткой, к ней из кустов вышел Василий, водитель служебного автобуса, который каждое утро увозил её в пиццерию. Любаша этому даже и не удивилась, не испугалась, она была вымотана, тяжело дышала, крупные капли пота блестели в её бровях. Молча, ничего не говоря, Василий присел рядом с Любашей на камень, погладил её по круглой коленке, обтянутой желтыми лосинами. Любаша остатками своего усталого сонного сознания подумала: «А чего бы и нет?» И они занялись любовью прямо тут же, у камня на берегу пруда. Потом Василий курил, задумчиво разглядывая Любашу, как она натягивала флуоресцентные лосины на похудевшие ноги. Разошлись также молча, как и встретились.
«Родильная ложка с солью, с перцем», – думала про себя Любаша, разделывая семь пирожков. Было воскресное утро, ехать в пиццерию было не надо. Любаша всё думала, как утром в понедельник сядет в служебный автобус. От этого её, и без того румяные, щёки становились ещё румянее. Впрочем, её сейчас более заботило, кому раздать стряпню, это было важнее, чем ночное приключение. Детей современные женщины рожают мало, больше двух в семье – большая редкость. «У вас в гараже есть многодетные мужики?» – спросила Любаша за завтраком третьего мужа. «А тебе что с этого?» – как-то с агрессией ответил он. «Так просто», – ответила Любаша, мысленно вычитая гараж из зоны предполагаемого распространения. В конце улицы жила многодетная семья, туда Любаша и отправилась первым делом. Изумлённым хозяевам она протянула булку ещё тёплого белого хлеба. Ещё один хлебец она отдала нищенке у церкви, у той оказалось трое детей. Потом гуляла в парке, смотрела, у кого сколько детей на прогулке, недоумевающим мамашам она отдала ещё два хлеба. Столько же удалось пристроить в магазине детских игрушек. Оставалась одна булочка. Сидя на скамейке у пруда, усталая Любаша половину съела сама, а половину скормила уткам, очень уж они попрошайничали, хлопая крыльями по водной глади. Спохватилась, но было уже поздно, хлеб был съеден. Любаша даже всплакнула от огорчения, ведь столько было пережито и могло пропасть зазря из-за её рассеянности. Потом она рассудила, что утка тоже, наверняка, многодетная мать, и успокоилась.
Через месяц Любаша поняла, что беременна. Её стало тошнить по утрам, отекали ноги, и все солёные корнишоны в пиццерии вызывали отделение слюны. Водитель Василий ласково улыбался измученной рвотой Любаше каждое утро, она же делала вид, что ничего не замечает. Третий муж совсем перестал смотреть на Любашу.
Как-то ночью Любаша поняла, что она родит своего долгожданного ребёнка вот этому равнодушному третьему мужу. Третий муж, и в этом не было никаких сомнений, будет знать, что ребенок не от него, станет называть его «чужим отродьем», как когда-то Любашу называл отчим. Это открытие придало Любаше сил, утром она собрала мужу чемодан и объявила о разводе. Тот даже и не удивлялся, не сопротивлялся, съел завтрак и ушел, так ничего и не спросив.
Нарядная Любаша, улыбаясь всем своим румяным сдобным существом, встречала служебный автобус. «Сегодня нужно камень к дому перекатить», – попросила она Василия и протянула ему семь блинов с творогом в пластиковом контейнере для завтраков.
Павел
Протяжно гудел поезд. Люди входили, двери хлопали. Шумящие потоки равномерно распределялись по залу: кресла, подоконники, скамейки, кассы. Кто-то выходил, двери хлопали. Шуршащие звуки скребли слух: чемоданы, тележки, сумки, пакеты, коробки. Вокзальные шумы поднимались высоко под купол здания и летали там гулким эхом, вырывались на перрон и были заглушены грохотом прибывающего поезда.
Павел вместе со всеми вошёл в зал ожидания.
Студенты у газетного ларька грызли семечки и громко смеялись, продавщица пирожков отсчитывала сдачу мятыми пятидесятками, семейная пара негромко переругивалась, туристы с огромными рюкзаками изучали электронное табло, влюбленные обнимались, цыганка с оравой малышей клянчила «на хлебушек». Обычная вокзальная жизнь. Павел присел на край деревянной скамьи и наблюдал, как девушка покупала у красного автомата кофе в стаканчике. Автомат выбрасывал стаканчик вверх ногами, подбирал в своё нутро и опять выбрасывал вверх ногами. Девушка смеялась, привлекая внимание студентов у ларька. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не повешалось!» – крикнул один. Девушка сняла с держателя дымящийся стаканчик: «Лишь бы не плакало, дурак!»
Запах кофе растекся по старому вокзалу. Павел сглотнул.
Утро началось буднично. Старуха сметала со стола крошки вчерашнего ужина, Павел смотрел, как она неторопливо водит тряпкой по столу, меняет местами солонку и перечницу. Старый передник повязан ровно, волосы собраны под гребенку в аккуратный пучок. И передник, и гребёнка были знакомы Павлу целую жизнь. Всё было в этой жизни у них, одного не хватало – интереса. Все известно, знакомо, по накатанной, а интереса нет. Без этого и жизнь пресна, и утро похоже на вечер, и день на день, и год на год. Павел смотрел на свою старуху из-под одеяла, и всё яснее ему становилось, что жить так больше ему невозможно. Завтракали молча вчерашней пшенной кашей и яйцами «в мешочек».
С дерматиновым чемоданчиком Павел никогда не расставался, когда работал слесарем, носил в нём инструмент, осенью там спели помидоры, а недавно в нём окатилась кошка. Пара белья, колючий свитер, шерстяные носки, охотничий нож. Костюм надел на себя, в карман положил чистый платок. Подумал и засунул ноги в кирзовые сапоги, ботинки завернул в газету и – в чемодан, чуть повозился со старым замком и был готов. Старуха сметала со стола крошки после завтрака. Передник. Гребенка.
– Я пошел.
– Куда? В магазин? За шкаликом?
Павел молчал. Слышно было только, как тряпка в старухиных руках шуршит по клеёнке.
– Куда пошел-то?
Старуха оглянулась. Павел в парадном костюме и с дерматиновым чемоданом в руке стоял навытяжку.
– Что? Опять? Опять уходишь?
– Так, видно.
– И куда?
– К Павле поеду. Она меня звала, вот я и решил. Она бабка хорошая, осанистая, фигуристая, песни любит.
– А я?
– А тебе долгих лет счастливой жизни и не болеть.
Павел шагнул к порогу, старуха шатнулась к нему.
– А я?
– Ты старая уж вся, меня не привлекаешь. Накладки вон носишь, а я-то знаю, что всё оно не твоё. А Павла, она такая. У ней все своё.
– А тебе почём знать?
– Я знаю, трогал.
Поезд радостно свистнул. По залу прокатился рокот: «Прибывает! Прибывает!» Туристы технично, по очереди, покидали здание. Студенты, шумно толкаясь и хохоча, поволочили огромные сумки к выходу. Девушка, что покупала кофе, печально посмотрела на автомат и попросила у продавщицы пирожков кофе «три-в-одном». Цыганка вышла на перрон. Вокзальные двери, не переставая, хлопали, принося перронный шум и запахи. Павел слезящимися глазами наблюдал за дверью.
Никому знать не дано, что ждёт его в дороге. Может, транспорт сломается, задержится, бензин закончится, а может, всё пройдёт по распорядку, без суеты и накладок. Павел размышлял, какой будет его дорога. Мерный стук и шёпот напомнил ему о необходимости купить билет. Кто-то протяжно творил молитву, и местный батюшка, обметая полами рясы гладкие половые плитки, семенил к выходу. Несли икону. Пахло сладко, и сердце Павла вывернулось и торопливо застучало: «Плохо-плохо, плохо-плохо!» Все путешественники так суеверны. «Мощи привезли!» – проговорили на соседней лавке. «Чьи?» – чирикнула молодуха рядом с Павлом. «Не знаю. Старик какой-то с бородой, – ответила женщина в плаще, – Иннокентий, может». Павел вздохнул и шумно высморкался в чистый платок. Надо было привести себя в состояние душевного равновесия, пройтись, поглазеть на поезда, купить билет, опять же. Правда вокзальная дверь внушала Павлу опасения.