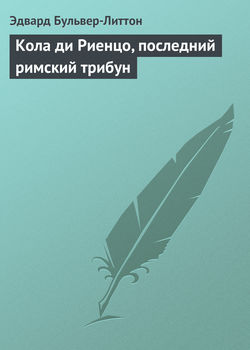Читать книгу Кола ди Риенцо, последний римский трибун - Эдвард Бульвер-Литтон - Страница 1
Книга I
Время, место и люди
I
Братья
ОглавлениеНачало моей истории относится к первой половине XIV века.
В один летний вечер двое молодых людей прогуливались близ берегов Тибра, недалеко от той части его извилистого течения, которая огибает подошву горы Авентина. Выбранная ими тропинка была уединенна и спокойна. Вдали виднелись разбросанные по берегу реки бедные домики; над ними местами с мрачным видом подымались огромные башни и высокая кровля жилища какого-нибудь римского вельможи. С одной стороны реки, за хижинами рыбаков, видна была гора Яникулум, темная от массивных деревьев, из-за которых в частых промежутках пока мнились серые стены замков, шпицы и колонны множества церквей. С другой стороны круто и обрывисто подымалась гора Авентин, покрытая густым кустарником; а на высоте из незримых, но многочисленных монастырей, над спокойным ландшафтом и струистыми волнами, довольно музыкально раздавался звук церковного колокола.
Старшему из двух молодых людей можно было дать несколько более двадцати лет. Он был высок и имел в своей осанке что-то повелительное, черты лица его отличались выразительностью и благородством, несмотря на скромный его наряд, состоявший из широкого плаща и простой туники темно-серой саржи. Это была обыкновенная одежда скромных студентов того времени, которые посещали монастыри для приобретения познаний, представлявших скудное вознаграждение за напряженный труд. Лицо его было весьма приятно, и выражение его можно было бы назвать скорее веселым, нежели задумчивым, если бы в глазах его не было той неопределенной и рассеянной томности, которая обыкновенно показывает, что данный человек склонен к меланхолии и самоуглублению, что мечты о прошедшем и будущем более сродни его душе, нежели наслаждение и реальность настоящей минуты.
Младший, еще мальчик, не имел в своей наружности ничего особенного, кроме выражения мягкости и ласки. Было что-то женственное в нежной почтительности, с которой он слушал своего товарища. На нем была одежда, какую обыкновенно носили люди, принадлежавшие к низшим классам, хотя, может быть, поопрятнее и поновее, и любящая гордость матери была заметна в той тщательности, с какой были причесаны и разделены пробором шелковые кудри, выбивавшиеся из-под фуражки и рассыпавшиеся по плечам.
Они шли возле шумящего тростника реки, обняв друг друга за талию; не только в осанке и поступи, но и в молодости и очевидной взаимной любви двух братьев выказывались грация и чувство, которые возвышали незначительность их состояния.
– Милый брат, – сказал старший, – я не в силах выразить, как наслаждаюсь этими вечерними часами. Только с тобой я чувствую, что я не пустой мечтатель и празднолюбец, когда говорю о неизвестном будущем и строю свои воздушные замки. Отец и мать слушают меня с таким видом, как будто я говорю прекрасные вещи, вычитанные из книги; дорогая матушка, – да благословит ее Бог! – говорит, утирая слезы, посмотрите, как он учен! Что касается монахов, то, если я осмеливаюсь оторвать глаза от своего Ливия и говорю: таким Рим должен быть опять, – они пялят глаза и разевают рты, и хмурятся, как будто я сказал какую-нибудь ересь. Ты же, милый брат, хотя и не разделяешь моих занятий, но с такой добротой сочувствуешь их результатам, – ты, по-видимому, так одобряешь мои сумасбродные планы и поощряешь мои честолюбивые надежды, – что иногда я забываю наше происхождение и нашу бедность и чувствую в себе такие мысли и смелость, как будто в наших жилах течет кровь какого-нибудь тевтонского императора.
– Мне кажется, милый Кола, – сказал младший брат, – что природа сыграла с нами дурную шутку, тебе она дала царственную душу, перешедшую от отцовской линии, а мне – спокойный и простой дух скромного родства нашей матери.
– Если бы это было так, – возразил Кола, с живостью, – то твоя участь была бы блистательнее: я происходил бы от варваров, а ты – от римлян. Было время, когда простой римлянин считался благороднее какого-нибудь северного короля. Ну, да мы еще увидим большие перемены на своем веку.
– Я буду жить, чтобы увидеть тебя великим человеком; это меня будет радовать, – сказал младший, ласково улыбаясь. – Тебя уже все признают великим ученым. Мать предсказывает тебе счастье всякий раз, когда слышит о твоих посещениях дома Колоннов, где тебя так ласково принимают.
– Колонны? – сказал Кола с горькой улыбкой. – Колонны – педанты! Тупые головы – они притворяются знающими древность, играют роль меценатов и без толку приводят латинские цитаты, сидя за своими кубиками! Им приятно видеть меня у себя, потому что римские доктора называют меня ученым, а природа наделила меня причудливым остроумием, которое для них забавнее пошлых острот какого-нибудь наемного шута. Да, они желают продвинуть меня, но как? Дав мне место в общественном управлении, которое постыдным образом наполняет свою кассу, с жестокостью выжимая от наших голодных граждан деньги, добытые ими с тяжким трудом! Нет ничего гаже плебея, которого возвысили патриции не для того, чтобы он руководил своим сословием, а для того, чтобы он служил орудием для их низких интересов. Человек, происходящий из народа, изменяет своему происхождению, если делается куклой для лицемерных тиранов, которые указывают на него и кричат: посмотрите, какая свобода царствует в Риме, – мы, патриции, так возвысили плебея! Разве они возвысили бы кого-нибудь из плебеев, если бы имели к ним сочувствие? Нет, если я подымусь выше своего состояния, то этим буду обязан рукам, а не шеям своих сограждан!
– Все мои надежды, Кола, состоят в том, что ты, в своем усердии к согражданам, не забудешь, как ты дорог нам. Никакое величие не примирит меня с мыслью, что оно подвергало тебя опасности.
– А я смеюсь над всеми опасностями, если только они ведут к величию. Но – величие, величие! Это пустая мечта! Предоставим ее ночным грезам. Довольно о моих планах; поговорим теперь о твоих, милый брат.
И, со свойственной ему сангвинической и веселой гибкостью, молодой Кола, оставив все свои мечтательные помыслы, приготовился выслушать с участием скромные мечты своего брата. Это были – новая лодка, праздничная одежда, хижина в месте, наиболее удаленном от притеснений вельмож, и тому подобные картины, свойственные неопределенным стремлениям мальчика с темными глазами и веселыми губками. Кола с приветливым лицом и нежной улыбкой выслушивал эти незатейливые надежды и желания и часто впоследствии вспоминал об этом разговоре, когда он с тоской спрашивал свое сердце, какой из этих двух родов честолюбия благоразумнее.
– Таким образом, – продолжал младший брат, – мало-помалу я могу собрать довольно денег, чтобы купить судно, подобное вот этому, которое, без сомнения, нагружено хлебом и товарами; мое судно будет приносить такой хороший доход, что я буду в состоянии наполнить твою комнату книгами и не услышу более твоих жалоб на то, что ты недовольно богат для покупки какого-нибудь старого истертого монашеского манускрипта. Ах, как я тогда буду счастлив!
Кола улыбнулся и сжал брата в своих объятиях.
– Дорогой мальчик, – сказал он, – пусть лучше моим делом будет заботиться об исполнении твоих желаний. Но мне кажется, что хозяева этого судна владеют незавидной собственностью. Взгляни, как беспокойно эти люди смотрят и вперед, и назад, и по сторонам. Хотя это мирные торговцы, но, кажется, даже и в городе, который был некогда рынком всего цивилизованного мира, они боятся преследований какого-нибудь пирата. До окончания своего путешествия они могут найти этого пирата в каком-нибудь из римских патрициев. Увы, до чего мы дожили?
Судно, о котором говорили два брата, быстро неслось вниз по реке, и в самом деле два или три человека на палубе с напряженным вниманием осматривали оба берега, как бы предчувствуя врага. Однако же скоро оно ушло из виду, и братья возобновили свой разговор о предметах, которые имели для молодых людей привлекательность уже потому, что принадлежали к области будущего.
Вечерняя тьма становилась гуще, и они вспомнили, что прошел уже тот час, когда они обыкновенно возвращались домой. Они повернули назад.
– Постой, – сказал вдруг Кола, – как я разговорился! Отец Уберт обещал мне редкую рукопись, которая, как он признается, поставила в тупик весь монастырь. Я должен буду сходить сегодня вечером к нему. Побудь здесь несколько минут, я скоро ворочусь.
– А мне нельзя идти с тобой?
– Нет, – сказал Кола с рассудительной лаской, – ты работал целый день и верно устал; моя же работа, по крайней мере телесная, была довольно легка, притом ты слаб, у тебя утомленный вид; отдых подкрепит тебя. Я не замешкаюсь.
Мальчик согласился, хотя ему хотелось идти с братом. Он имел характер мягкий и уступчивый и редко противился малейшим приказаниям тех, кого любил. Он сел на берегу реки, и скоро твердая поступь и величавая фигура его брата скрылись от его глаз за густой и меланхолической листвой.
Сначала он сидел очень спокойно, наслаждаясь холодным воздухом и думая о преданиях древнего Рима, которые рассказывал ему брат во время их прогулки. Наконец, он вспомнил, что его маленькая сестра, Ирена, просила принести ей цветов. Нарвав их, он сел и начал плести один из тех венков, к которым южные крестьяне до сих пор сохраняют свою древнюю любовь, делая их с каким-то классическим искусством.
Между тем как мальчик занимался этой работой, вдали послышались громкие крики людей и лошадиный топот. Они раздавались все ближе и ближе.
– Вероятно, это поезд какого-нибудь барона, – подумал мальчик, – славный вид – их белые перья и красные мантии. Я люблю такие зрелища, а все-таки отойду в сторону.
Продолжая плести венок и в то же время глядя туда, где должен был показаться поезд, молодой человек еще ближе подошел к реке.
Поезд был уже в виду, – в самом деле прекрасное зрелище. Впереди ехали всадники по два в ряд там, где позволяла дорога; их лошади были покрыты великолепными чепраками, их перья красиво волновались, латы и кольчуги сияли в вечернем сумраке. Это была большая и разнообразная толпа; все были вооружены; пикинеры в кольчугах ехали впереди, другие, не столь хорошо и красиво вооруженные, следовали пешком за всадниками. Над отрядом развевалось красное, как кровь, знамя дома Орсини, с надписью и девизом из полированного золота и с гвельфским изображением ключей св. Петра. На минуту страх овладел душой мальчика, потому что в те времена, в Риме, патриций, окруженный своими вооруженными приверженцами, наводил на плебеев более страха, нежели дикий зверь. Но бежать было слишком поздно: толпа уже приблизилась.
– Эй, мальчик! – вскричал предводитель всадников, Мартино ди Порто, принадлежавший к знатному дому Орсини. – Видел ты судно на реке? Ты должен был его видеть – как давно?
– Я видел большое судно, полчаса тому назад, – отвечал мальчик, испуганный грубым голосом и повелительным видом всадника.
– Оно шло прямо, с зеленым флагом на корме?
– Да, благородный синьор.
– Ну, так вперед! Мы остановим его до восхода луны, – сказал барон. – Теперь пусть мальчик отправляется с нами, чтобы он нас не выдал и не уведомил Колоннов.
– Орсини! Орсини! – вскричала толпа. – Вперед, вперед! – И несмотря на мольбы и уверения мальчика, он был помещен в самую средину толпы и увлечен вместе с другими. Он был испуган, он задыхался и чуть не плакал; на одной руке его все еще висел маленький венок, на другую была наброшена веревка. Однако же, несмотря на свое беспокойство, он чувствовал какое-то детское любопытство, желая увидеть результат этого преследования.
Из громкого и жаркого разговора окружающих его людей он узнал, что судно, которое он видел, везло запасы хлеба в крепость, находившуюся возле реки и принадлежавшую дому Колоннов, который был тогда в смертельной вражде с домом Орсини. Целью экспедиции, в которую попал бедный мальчик, было перехватить провизию и отдать ее гарнизону Мартино ди Порто. Эти сведения увеличили смущение мальчика, потому что он принадлежал к семейству, состоявшему под покровительством Колоннов.
Беспокойно и со слезами на глазах он оглядывался каждую минуту, взбираясь по крутому подъему Авентина; но его хранитель и покровитель еще не показывался.
Таким образом, толпа несколько времени подвигалась вперед, как вдруг, при повороте дороги, глазам ее внезапно представился предмет ее преследования. При свете первых вечерних звезд, судно быстро неслось вниз по течению.
– Ну, теперь – благодарение святым! – вскричал предводитель, – оно наше!
– Постойте, – сказал полушепотом один из начальников (немец), ехавший рядом с Мартино, – я слышу звуки, которые мне не нравятся: за деревьями ржет лошадь, и вон – латы блестят!
– Вперед, господа, – вскричал Мартино, – цапля не обманет орла – вперед!
С новыми криками пешие двинулись вперед. Когда они приблизились к кустарнику, на который указывал немец, небольшой сомкнутый отряд всадников, вооруженных с головы до ног, выехал из-за деревьев и с копьями наперевес бросился на ряды преследователей.
– Колонна! Колонна!
– Орсини! Орсини!
Таковы были крики, которые громко и дико мешались один с другим. Мартино ди Порто, отличавшийся свирепостью и огромным ростом, и его всадники – по большей части немецкие наемники, не пошатнувшись, выдержали атаку.
– Берегись медвежьих лап, – вскричал Орсини подъезжавшему к нему противнику.
Борьба была непродолжительна и жестока. Латы всадников защищали их со всех сторон от ран; не так невредимы были плохо вооруженные пешие орсинисты, когда они, подталкиваемые друг другом, надвигались на Колоннов. Вытерпев дождь камней и стрел, которые делали толстым кольчугам всадников не более вреда, чем град, они столпились вокруг и своей многочисленностью мешали движению коней, между тем как пики, мечи и секиры их противников делали беспощадное опустошение в их недисциплинированных рядах. Мартино, мало обращавший внимание на то, как много изрублено «сволочи» в его рядах, и видя, что его неприятели на минуту задержаны яростным нападением и сомкнувшейся толпой его пехотинцев (место схватки было узко и тесно), – дал некоторым из своих всадников знак и хотел продолжать путь для преследования судна, которое теперь почти совсем скрылось из виду. Но вдруг, в некотором расстоянии, послушался звук рога; на этот сигнал ответил один из неприятелей, и затем вдали раздался крик: «Колонна, на выручку!» Через несколько минут показался многочисленный конный отряд, который несся во весь карьер; впереди него великолепно развевались знамена Колоннов.
– Черт возьми этих колдунов! Кто бы подумал, что они так хитро отгадают наши намерения! – проворчал Мартино. – Нам не следует оставаться здесь при таком неравенстве сил. – И рука его, вместо того, чтобы указать вперед, дала теперь знак к отступлению.
Плотно сомкнувшись и в совершенном порядке, всадники Мартино ди Порто повернули назад; пешая «сволочь», которая шла на добычу, осталась на жертву. Эти люди старались последовать примеру своих вождей, но как могли они уйти от стремительного напора лошадей и от острых пик своих противников? Кровь этих последних была разгорячена схваткой, а на жизнь своих жертв, находившуюся теперь в их власти, они смотрели так же, как мальчик смотрит на разоренное им гнездо ос. Толпа рассеялась по разным направлениям: некоторым удалось уйти на холмы, куда лошади не могли взобраться, другие бросились в реку и переплыли на противоположный берег; менее хладнокровные и опытные бежали прямо вперед, и загораживая собой дорогу неприятелям, облегчали тем бегство своим вождям, но зато сами падали трупами друг на друга, под сокрушительными ударами неутомимых и ничем не удерживаемых преследователей.
– Не щадить негодяев! Со смертью каждого из Орсини делается одним разбойником меньше. Рубите, во славу Бога, императора и Колонны! – Таковы были крики, служившие похоронным колоколом устрашенным и падающим беглецам между бежавшими прямо по дороге; в месте, наиболее доступном для конницы, находился и младший брат Колы, так неожиданно вовлеченный в схватку. Быстро, обезумев от ужаса, бежал бедный мальчик, почти никогда не отлучавшийся от родителей или от брата. Деревья мелькали мимо, берега оставались все дальше и дальше за ним, и он бежал, а по пятам его несся лошадиный топот, раздавались крики и проклятия, и зверский хохот врагов, когда они перескакивали через убитых и умиравших на тропинке. Теперь он был на том самом месте, где его оставил брат. Он быстро оглянулся, и глаза его встретили наклоненное копье и страшный шишак всадника, бывшего близко за ним; в отчаянии он взглянул вверх и увидел своего брата, который выскочил из частого перепутанного кустарника, покрывавшего гору, и летел к нему на помощь.
– Спаси меня, спаси меня, брат! – громко закричал он. Этот крик достиг слуха Колы; мальчик чувствовал уже жаркое дыхание горячего коня своего преследователя; еще минута – и с громким, пронзительным криком: – Пощадите, пощадите! – он упал трупом: копье всадника пробило его насквозь и пригвоздило к тому самому дерну, на котором он сидел менее часа тому назад, исполненный молодой жизни и беззаботной надежды.
Всадник вырвал копье и помчался за новыми жертвами; другие последовали за ним. Кола сошел с горы и стал на колени возле убитого брата.
Возвратимся теперь к тому моменту, когда раздался звук рога и трубы. Отряд, из которого он послышался, был благороднее того, который составлял авангард и до сих пор участвовал в битве. Во главе его ехал человек преклонных лет. Седые волосы его выглядывали из-под шапки, украшенной перьями, и смешивались с его почтенной бородой.
– Что это значит? – спросил он, останавливая своего коня. – Молодой Риенцо!
При звуке этого голоса молодой человек поднял глаза, потом, вскочив, стал перед конем старого патриция и, сложив руки, проговорил едва внятно:
– Это мой брат, благородный Стефан! Еще мальчик, совсем ребенок! Лучшее, добрейшее дитя! Смотрите, как трава обагрена его кровью! Назад, назад, копыта вашей лошади стоят в кровавом потоке! Правосудия, синьор, правосудия, вы большой человек!
– Кто убил его? Без сомнения, какой-нибудь Орсини. Вам будет оказано правосудие.
– Благодарю, благодарю, – прошептал Риенцо и, шатаясь, пошел к брату, повернул его лицо из травы наружу, приложил руку к его груди, в тщетной надежде почувствовать биение его сердца, но тотчас же отнял ее, потому что она покрылась кровью. И подняв эту руку вверх, он опять вскричал: – Правосудия! Правосудия!
Несмотря на свою привычку к подобным сценам, группа людей, собравшихся вокруг Стефана Колонны, была растрогана этим зрелищем. Находившийся возле него прекрасный мальчик, по щекам которого текли слезы, обнажил меч.
– Синьор, – сказал он, едва удерживаясь от рыдания, – только орсинист мог умертвить такого невинного мальчика; не будем терять ни минуты; поедем в погоню за злодеями.
– Нет, Адриан, нет, – возразил Стефан, положив руку на плечо мальчика, – твое усердие похвально, но мы должны остерегаться засады. Наши люди заехали слишком далеко. Но вот – слышишь – они возвращаются.
Через несколько минут звук рога отозвал преследователей назад; в числе их был и тот всадник, копье которого сделало такую роковую ошибку. Он начальствовал отрядом, завязавшим битву с Мартино ди Порто; его латы, украшенные золотом, и богатая сбруя его лошади показывали его высокое происхождение.
– Благодарю, сын мой, благодарю, – сказал старый Колонна, – ты действовал хорошо и храбро. Но скажи, не знаешь ли, – у тебя орлиное зрение, – кто из Орсини убил этого несчастного мальчика? Гнусное дело! Притом его семейство – наши клиенты.
– Кого? Этого мальчика? – сказал всадник, снимая с головы свой шлем и утирая свой вспотевший лоб. – Что вы говорите! Как же он попал в толпу негодяев Мартино ди Порто? Боюсь, что моя ошибка обошлась ему дорого. Мне не могло прийти в голову, что он не принадлежит к сволочи Орсини, и – и…
– Вы убили его! – вскричал Риенцо громовым голосом, быстро вскочив на ноги. – Правосудия, синьор Стефан, правосудия! Вы мне обещали правосудие, и сдержите слово.
– Бедный молодой человек, – сказал Стефан с состраданием, – вам было бы оказано правосудие против Орсини; но разве вы не видите, что это случилось по ошибке? Я не удивляюсь тому, что вы теперь слишком огорчены и не можете слушать доводов рассудка. Мы должны быть к вам снисходительны.
– Возьмите это на обедни по душе мальчика; меня очень печалит этот случай, – сказал младший Колонна, бросая Риенцо кошелек с золотом. – Приходите на той неделе к нам в палаццо, Кола, на той неделе. Батюшка, мы должны опять вернуться к судну; нам еще надо позаботиться о его безопасности.
– Правда, Джанни, – отвечал старик. – Двое из вас, – прибавил он, обращаясь к солдатам, – пусть останутся здесь у тела мальчика; горестный случай! Как могло это произойти?
И компания возвратилась туда, откуда приехала; у трупа остались только двое солдат, да мальчик Адриан. Последний остался на несколько минут, чтобы утешить Риенцо, который, подобно человеку, лишившемуся чувств, был неподвижен, смотря на мчавшийся мимо него строй всадников и бормоча про себя:
– Правосудия! Правосудия! Я добьюсь его!
Громкий голос Колонны-старшего звал Адриана, и он неохотно и со слезами на глазах должен был ехать.
– Позвольте мне быть вашим братом, – сказал благородный мальчик, с чувством прижимая руку Риенцо к своему сердцу, – я имею нужду в брате, подобном вам.
Риенцо не отвечал; он не обратил внимания на эти слова, или не слышал их; в его сердце волновались мрачные и смутные мысли, в которых таился зародыш могущественной революции. Он, вздрогнув, очнулся от своих дум, когда солдаты начали устраивать из своих щитов нечто вроде катафалка для трупа; из глаз его хлынули слезы, он с силой оттолкнул солдат и сжимал тело брата в своих объятиях до тех пор, пока его платье буквально не вымокло от струившейся крови.
Венок несчастного мальчика, запутавшись в складках одежды, еще был при нем. Вид этого венка напомнил Коле всю нежность, доброту и очаровательную ласковость его брата – его единственного друга. Это было зрелище, которое, казалось, еще увеличивало безжалостную жестокость преждевременной и незаслуженной кончины невинного мальчика.
– Брат мой, брат! – стонал Риенцо. – Как я теперь покажусь на глаза матери? Такой молодой! Кому он мог вредить! Такой добрый! И они не хотят оказать нам правосудия, потому что его убийца – патриций Колонна. А это золото, золото за кровь брата! Неужели они (при этих словах глаза молодого человека засверкали) не окажут нам правосудия? Увидим! – И Риенцо наклонился над трупом; губы его шевелились, как будто шепча молитву или заклинание; потом он встал; лицо его было столь же бледно, как у мертвого, который лежал перед ним, – но бледно уже не от горя!
От трупа, от внутренней молитвы, Кола ди Риенцо воспрянул другим человеком. Вместе с его юным братом умерла и его собственная юность. Без этого события будущий освободитель Рима мог быть только мечтателем, ученым, поэтом, мирным соперником Петрарки, – человеком мысли, а не дела. Но теперь все его способности, энергия, воображение, ум – сосредоточились в этом пункте; патриотизм его, бывший до этих пор призраком, получил жизнь и силу страсти, которая постоянно была воспламеняема, упорно поддерживаема и благоговейно освещаема местью!