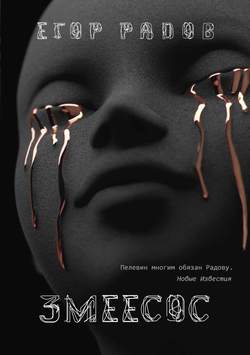Читать книгу Змеесос - Егор Радов - Страница 1
ОглавлениеИоганн Шатров упал из окна и разбился. Лао и Яковлев были богами, они сидели в буйстве сущностных облаков и сотворяли все, что могло быть в наличии. Однажды было скучно, и Яковлев, словно намыливаясь благовонием астрала, приобретал конкретную оболочку, которая говорила:
– Лао, придумай мне мир, ибо Я есть Все!
Лао, находящийся по ту сторону предела, окружал товарища по творению райскими прелестями истины и жизни. Он тоже мог бы стать предметом, но в данную секунду или минуту обладал абсолютным временем, в котором нельзя терять регалии высшего существа и нисходить в собственное создание, чтобы разговаривать или быть рядом. Н. Николайчик ничего не ведал про это. Яковлев принял себе имя Хромов и тихо сидел на рыбалке, ожидая проходящих мимо девушек.
…у самой воды он лицезрел нежнейшее сочетание красного поплавка с бурой водой, чувствуя себя блаженным мертвецом, ушедшим от дел в защитную толщу земли, или воды, или огня. Он сидел, воплощенный и не желающий возвращать себе бремя совершенства.
Вышел старик, недовольный рыбаком, посмотрел ему в грудь и промолвил:
– Брат мой, ты хочешь оставить свою миссию, а она высока! Подумай хорошенько.
Автоматом Калашникова старик расстрелял мускулистое тело Хромова, и Яковлев порадовался возвращению в эмпиреи.
Лао вместе с ним теперь восседал на резных облаках в эфире розовых струй – они были трубачи, друзья и любовники; сотворяли себя самих из самих себя, смеялись, подтверждая Бытие, скучали, лениво покачиваясь на ветрах всевозможности.
Был некий недостаток интересной задачи с той стороны черных дыр. Соответственно этому Яковлев медовой обоймой вседозволенности расцветал перед другом, лицезрея последние успехи сияющей льдом дороги жизни. Вместе они изобретали мелкие и крупные миры, рдели, словно полевые цветки, зардевшиеся от шмелиного поцелуя, и были невероятны, как ничто, стараясь при этом быть ближе друг к другу. Бытие нуждалось в защите, но это было плевым минутным делом, поскольку оно и так постоянно находилось под руками в разных видах.
Они сейчас стояли перед белым песком времени, занимаясь вычислением по-восточному. Возникали комья реальностей, в них трепетали тела и души и было все. Лао и Яковлев уселись в свои кресла, поглаживая друг дружку нежными ложноножками, пронзающими остальное и их самих и несущими свет. Семену исполнилось три года.
В то время как И. Яковлев под окружающий мир ходил пешком, у себя в квартире, в четыре часа пополудни, лежа на правом боку в кровати, стоящей в центре зала, где был легкий мрак от занавесей и теней, умирал Артем Коваленко.
Он был Первым Консулом парламента своей родины, видным членом правительства и общества, любимцем масс и отдельных людей. Вся страна была исполнена трепета за жизнь человека, который отдал ей свою жизнь. Еще юношей он проявил себя в хороших делах: воевал, был борцом за права, великолепным оратором, речи которого чтились простым людом. Многие помнят молодого задиристого Коваленко, который предлагал счастье и новые программы его достижения и развития. Он постоянно добивался того, что поставил своей задачей и целью. Будучи в положении Великого Консула, он уверенно вел за собой всю жизнь и мир, настаивал на любви к окружающему. А. Коваленко знают даже грудные дети; он повысил благосостояние. Его лицо в кровати было похоже на нервную изнанку плотского бытия; лоб выделял пот, словно отравленный источник, высыхающий внутри земли; белки глаз были мутными, как Заполярье.
Он имел усы. Аккуратно подстриженные, они окаймляли верхнюю губу, зависая над подбородком, который выдавался вперед где-то на уровень носа, малорослые баки по обеим сторонам щек были с сединцой. Губы Коваленко были чувственными.
Артем лежал и знал, что большая страна слышит усталую поступь его доброго больного сердца. Он вынул руку из-под одеяла, взял в ладонь колокольчик, позвонил и издал тихий, не окрашенный эмоционально звук своим ртом.
Вошел предупредительный серьезный человек в лиловом костюме.
– Что вам? – спросил он участливо и с большой долей вежливости.
– Зови всех, – сказал Коваленко счастливым голосом. – Отхожу к потомкам!
Кровать, на которой лежал Коваленко, была полутораспальной, ножки едва-едва отступали от пола; на простынях и наволочке, если всмотреться, можно было обнаружить написанную синей краской цифру 69.
В эту самую секунду вошли члены парламента, родственники, друзья покойного, Ольга Викторовна Коваленко, Миша и Тоня Коваленко.
– Сограждане! – трясясь от предстоящего издыхания, сказал виновник прихода в эту комнату большого количества людей. – Я любил вас, будьте готовы отдать свое время помыслам и делам! Настал мой час, я чую жжение в груди и в членах, я скоро отойду к потомкам, оставив вам свой облик для воспоминаний, и вы будете рассказывать друг другу каждый приятный момент, проведенный со мной, и испытаете радость. Боги возложили на меня миссию служить ближнему, и я выполнял это; теперь мой ум наполнен вами; помнишь, Оля, тот миг, когда я поцеловал тебя впервые, – это было одно из лучших мгновений моей жизни!
Он закашлялся, ему было трудно. Жестом он показал на детей, они подошли к кровати и посмотрели туда, словно пытаясь запомнить этот миг; Тоня чмокнула руку Коваленко, а Миша, словно застеснявшись, покраснел, как девушка, и с любовью поглядывал на отца. Друзья и официальные лица выстроились гуськом и ждали последнего прощания. Коваленко погладил детей, они отошли в сторону, и к кровати подошла Ольга Викторовна, обладавшая морщинистым лицом и легкой грустной улыбкой. Все отвернулись.
Словно страсть овладела женой в ее последней ласке над кроватью умирающего; она, как будто нежное шелковистое животное, прильнула к застывающей на миг коже лица; Артем взял ее ладонью за шею, и их шершавые губы воссоединились, как Украина с Россией, и трепет пронзил их скудные тела, и любовь зависла в воздухе.
…ночи горели тьмой, тело было душой.
Ребенок Коваленко напряженно всматривался в мать, скорчившуюся в дугу конца любви. Реальность застыла на одном месте, достигнув апогея своего наполнения смыслом. Тайна жизни и смерти витала под потолком, как бесплотный дух.
Наконец они расстались, как расправляющиеся лепестки цветка при его утреннем раскрытии. Ольга Викторовна, достав платок для своих глаз, отошла к детям.
Лучшие друзья следовали по одному, после слов прощания выходя за дверь. Официальные лица говорили характерные слова и кивали головой, демонстрируя чувства. Коваленко сердечно моргал в ответ и слегка улыбался.
Остались только дети с женой, и он сказал им, подозвав к себе:
– Идите вы тоже, я хочу побыть один… Я позову еще вас.
Они вышли, оборачиваясь.
Артем вздохнул и задумался над судьбой и жизнью. Еще мальчиком он хотел быть государственным человеком и улучшить жизнь остальных. Теперь, с высоты своего одра, он испытывал удовлетворение от всего, что случилось с ним. Философия Коваленко вошла в школьные учебники; великие предшественники будили его напряженную мысль, а он развивал их мечты. Он помнил свое школьное утро, скрип пола под учительницей, нестерпимую скуку уроков и перемен. Каждый день своей замечательной жизни он провел так, как нужно. Когда началась забастовка работников книжной промышленности, он воодушевленно отдался увлекательной борьбе за права книжников.
Он встретил Олю, в машине был шофер, они вдвоем, коньяк и снег на стеклах. Они неслись вперед, неизвестно куда, и их плечи были рядом.
– Я имею свой мир, – сказал Артем Коваленко.
Он вспомнил девичий вкус политического спора в дреме снежных недель у камина любви; кофейную мудрость лиловых секунд абсолютной мглы, пронзающей жар сплетенного винного поцелуя на четвероногом, словно кожаное кресло, коне; молочные прелести доярок, склоненных над окружающей реальностью, словно сырные фигурки; и лица, и фигуры, и миры. Коваленко знал смысл.
Он всегда ждал свою возвышенную смерть и прошел свой путь с ней под ручку, наслаждаясь каждым гибельным мгновением. Все дышало очарованием, китайские соловьи пели в беседках, заливаясь утренними трелями восхода; рощи скрывали прохладу и полумрак, приглашая к отдохновению; и свежий морской воздух нежно обдувал лицо и пальмы.
Когда-то Коваленко стоял на автобусной остановке и наблюдал свои ноги в ботинках черного цвета. Ему нравилась такая жизнь, и он чуть было не повесился тогда от восторга. Теперь же он лежал, улыбаясь, на смертном одре, и думал о том, что все-таки достиг цели.
Ему становилось все хуже и хуже; только некоторое абстрагирование от своих агонизирующих телес заставляло Коваленко сохранить присутствие духа, хотя дух был уже готов к иным действиям. Тошнило, глаза начали терять свою интенцию лицезреть вот этот мир. Было плохо – словно запихивали в тесный черный мешок, совсем как в известном архетипе.
Но нет, все было не так. Была гармония перехода во что-то иное. Весь приятный Высший Свет раскрыл объятия для Коваленко; Артем стал легким, как рыба в реке или же космонавт на астероиде. Он словно становился жидкостью, с тем чтобы после газообразной стадии стать бесплотным эфиром, свободным от низшего мира. Картины собственной жизни закончили свое неторопливое течение, и теперь наступила пора прекратить эту светлую, наполненную смыслом жизнь. Артем начал свой плавный переход от себя к не-Артему, легкий лиловый свет показался где-то внизу; Артем посмотрел туда, вниз, раскрыл широко глаза, вытянулся и умер.
Они сидели над миром, участвуя в общем процессе жизни и гибели и присоединяя к своей сущности все души, личности и чувства «Я». Один из них принял облик духовного облака, почти нереального, как мировой эфир, и с удовольствием отмечал пульсацию всего себя от постоянного прибывания новых единиц бытия в свое собственное Бытие, которое было всем; другой же пытался почти не существовать здесь, выбирая из потока умирающих душевных субстанций, стремящихся ввысь, только самые ценные и стойкие экземпляры – в основном тех, кто не желал никаких воссоединений и спасений и вообще не знал в точности своих желаний и целей, но хотел быть только собой или же другим собой, неважно где и зачем.
– Эй, придумай мне мир, ибо Я есть Все.
«Что ж, – подумал один из них, лицезрея бесконечный поток благодарных исчезающих существ, подстраивающихся под образ и подобие. – Я могу Все, как и не-Я, поэтому можно сыграть очередную игру, которая явит свою истинную причину. Пусть будет это».
Другой сверкал смыслами и причинами, создавая новые тайны, как миры, и придумывал себе имена, похожие друг на друга.
Они теперь были вместе, занимаясь милостью по высшему уничтожению. Они думали о высшем, и высшее было прямо в них, исчезая и рождаясь при каждом вдохе их тел; смыслы роились в глубине их сознаний, приобретая имена и слова и создавая реальность, не нуждающуюся в смыслах; вечный покой царил внутри, словно ничто, и не надо было рассказывать о тайнах, которых нет, и не надо было уничтожать все явленное; можно было лишь быть и придумывать.
И наконец что-то случилось, чтобы рассеять всеобщее единообразие, бывшее абсолютной возможностью, и один из них воплотился в какое-то существо, а другой, забыв все это, воскликнул:
– Что это?! Этого не может быть! Он не наш! Он ушел непонятно куда! Он ускользнул от нас, как рыба, сорвавшаяся с крючка; и он нам больше не принадлежит!
Один пододвинул кресло, надевая цилиндр, и участливо посмотрел в бездну времени и пространства.
– Да… – сказал он учтиво. – Что-то я не помню такого.
– Такого не бывает! – кричал другой, мастеря арбалет. – Они всегда были наши, ибо они – это мы, и мы – это они, и все вместе! Что это?! Я сейчас убью тебя!
– Это старая мистерия, которая уже надоела. Не переживай; ты же хотел новых изменений. Нам нужно созвать консилиум.
– Консилиум?! – переспросил другой, обернув Вселенную своим телом.
– Консилиум из нас или из них. Мы решим это дело и начнем свои действия.
– Я хочу! – воскликнул другой.
– Вот и прекрасно. В таком случае можно начинать.
– Но это же действительно безобразие! – опять повторил другой, воплощаясь во что-то. – Он ушел от нас куда-то вбок, и я даже знаю его имя!
– Вперед! – сказал первый, делая все, что нужно.
– Вперед, – согласился другой, обретая себя.
– Но это действительно очень странно, – сказал Иисус Кибальчиш.
В зале было тихо.
– Граждане и гости, хотя вас не существует! Товарищи и господа, – заявил председательствующий Иаковлев. – Иногда мне кажется, что у нас вообще нет никакой власти. Это просто черт знает что такое!
Миша О. стоял «смирно» и охранял благородное сборище, которое имело вселенский смысл. Предшествовало этому множество событий. Для начала самим богам нужно было воссоздаться во многих вариантах личностей, чтобы произвести впечатление большого разнообразия участвующих в консилиуме представителей, так как это было необходимо для демократии и гласности, которые предполагают разные мнения; затем после длительных переговоров должна была состояться сама встреча на самом высшем из имеющихся в реальности уровней, а также дебаты о проблеме, вставшей перед мирозданием.
В аэропорту Иаковлев бодрой походкой вышел навстречу прилетевшему самолету. Лао спустился по трапу и вынул руку из перчатки.
– Лао Дзе Дун, – представился он.
– Иван Иванович, – сказал Иаковлев и пожал руку Лао. – Я счастлив, что вы посетили мою скромную обитель. Познакомьтесь с моей супругой.
Ольга Викторовна Иаковлева поправила бриллианты и кокетливо протянула руку для поцелуя. Лао припал губами к руке и оставил после себя огромный красноватый засос.
– Ну что, товарищ Дун, – официально сказал Иаковлев, – пройдемте?
– Ну конечно же, – отозвался Лао и пошел вперед.
Оркестр играл Гимн Бытия. Встречающие эманации расплывались в улыбках и махали разноцветными флажками.
– Наше население все как один поддерживает ваш приезд! – говорил Иаковлев, гордо смотря по сторонам.
– Еще бы! – сказал Лао. – А мое население сейчас стопроцентно потеряло сознание и находится в глубоком обмороке от счастья предстоящих событий!
– Да? – переспросил Иаковлев.
– Да.
– Зато наше население после окончания переговоров, если они, конечно, будут удачными, на что я надеюсь, совершит массовое самоубийство от восторга перед правильностью курса, избранного им и мной лично.
– А я вот пекусь о своем народе! – заявил Лао зло. – Я бы не допустил такого, я бы вырвал бы свой народ из петли и из-под бритв и револьверов!
– Милейший, я этим только и занимаюсь последние два месяца, – сказал Иаковлев и насмешливо посмотрел вдаль.
– Ну и как, успешно?
– Как видите, уважаемый Дун, – ответил Иаковлев ледяным тоном. – И вообще, мы, по-моему, обговаривали полное невмешательство в дела друг друга! Что вам дался мой народ? Займитесь лучше своим! Между прочим, у вас во Вселенной холод, голод и нищета!
– А это уже вы вмешиваетесь, – бодро сказал Лао. – Не надо, прошу вас. Давайте лучше займемся делом. Мы тут не одни.
– Ну конечно, – добродушно согласился Иаковлев, и они немедленно оказались в зале для заседаний, в котором уже начался консилиум. Как было написано, в зале было тихо.
– Граждане и гости, хотя вас не существует! Товарищи и господа, – заявил председательствующий Иаковлев. – Иногда мне кажется, что у нас вообще нет никакой власти. Это просто черт знает что такое!
Миша О. стоял «смирно» и охранял благородное сборище, которое имело вселенский смысл.
– Да, мы не одиноки во Вселенной, – продолжал Иаковлев, высморкавшись. – Но она ведь принадлежит нам! Все живое нам подчиняется, исходит из нас и приходит к нам! Я не буду рассказывать вам тайны, поскольку вам нельзя. Но помилуйте, есть ведь пределы безобразия!
– А что случилось? – прокричал с места Федоров.
– Случился беспрецедентный случай!
– Извините, – опять же с места крикнул какой-то неизвестный человек. – Я прошу слова!
– Пожалуйста, – миролюбиво сказал Иаковлев, – у нас демократия. Вы хотите с места или с трибуны?
– Как угодно.
Человек встал, достал из кармана сложенный листок бумаги и торжественно проговорил:
– Меня зовут Андрей Уинстон-Смит. Я поклонник философии Федорова. Я написал художественную прозу и хочу ее вам прочитать.
– Читайте, – разрешил Иаковлев.
Человек прокашлялся и прочел вот это:
«Однажды особь выпустили наружу. Поправив манжеты и выпив кофе, индивидуум сел в кресло и положил ногу на ногу. В глубине сознания раздавался еле слышный поток схлынывающей пустоты, хаотических устройств, которые, подобно угрожающему безумию ночных бабочек, когда-то облепляли тело и душу единой сферой ненужных чувств и нерешенных вопросов. Лишь загадочная улыбка напоминала о последовательно проведенном ряде компромиссов, сжигающих все неприятное внутри. Снаружи появился некоторый блеск – и больше ничего. Кофе обладал радостным вкусом, кресло было пушистым и нежным, цилиндр, словно вальяжный гость, застенчиво притаился на вешалке, а впереди ждал еще не открытый Китай. Трагедии и основные вопросы приобрели непередаваемое чувство милой реальности и прочно встали на почетное место в красивом шкафу среди прочих предметов – когда-нибудь их можно будет взять оттуда, словно антикварную книгу, бережно смахнув пыль рукой в белой перчатке. И это все присутствовало будто всегда и в первый раз – даже простая весна с легкостью расщепляла атомы поисков смысла и создавала целостное и циничное восприятие окружающего: особь вступила на нечестный путь. Чашечки, побрякушки и прочий кайф вытеснили основу личности – как будто бы в самом деле можно было стать ближе к телу и придумать новые тайны.
– Чистая работа! – сказал то ли Бог, то ли врач, любуясь на свое создание, которое уже не волновалось о высших смыслах, заключенное в уверенность собственных смеющихся слез».
– По-моему, это бездарно, – сказал Иаковлев. – Последняя фраза вообще не выстроена. Вы все сказали или хотите еще что-то добавить напоследок?
– Да в общем… – начал человек, но Иаковлев перебил:
– Регламент! Освободите трибуну!
Человек вздохнул, грустно посмотрел в потолок, сложил пополам лист со своим творением и ушел в неизвестность.
– Вот так вот! – крикнул Иаковлев и повернулся в сторону сидящего слева Лао, который тихо спал и видел сон про то, как он совершает половой акт со своей женой. Иаковлев наклонился и ущипнул его. Лао вздрогнул и открыл глаза.
– Товарищ Дун, нельзя спать, корреспонденты! – зашептал Иаковлев.
– Угу, – кивнул Лао и икнул.
– Продолжаем, судари и сударыни! Я вам сейчас расскажу о том, что же случилось с нами.
Иаковлев поправил пиджак и выпалил:
– Он ушел от нас!
– Кто?!! – зашумело все вокруг.
– Он!!! Я даже знаю его имя… Его душа, его бессмертная часть, его, если хотите, чувство «я» принадлежит нам, и только нам! И оно нам не досталось! Я правильно излагаю?
Лао печально кивнул.
– Так вот. Как известно, нам, чтобы поддерживать бытие, необходимо иметь в наличии все сущности, все изначальные его монады, которые могут быть воплощены в живых существах. Ведь больше нет ничего! Остается только Ничто, и теперь получается, что этот субъект полностью исчез? Мне страшно за нас, товарищи. Так всему миру может прийти крышка. Надо что-то делать. Я правильно излагаю?
Лао радостно кивнул.
– Так вот. Я хочу спросить – где он? Почему он не с нами? Почему он не вошел в нашу вездесущность?! Ведь вы же знаете, что мы едины в двух лицах, что мы – это вы, а вы – это мы, и мы все вместе?!! Вы же знаете, что мы только сейчас распались на все, чтобы не было так скучно? И куда теперь подевался этот болван?! Его как будто орел склевал. Не понимаю. Я правильно излагаю?
Лао бесстрастно кивнул.
– Так вот. Пора заканчивать. Надо нам всем помозговать и придумать план действий. Конечно, все это – развлечения, но какая разница? Надо достать эту дурацкую душу во что бы то ни стало! У вас есть соображения?
– Есть! – крикнул Некрасов и встал с места. – Во-первых, перестаньте паясничать. А во-вторых, никакие вы не боги, а просто козлы.
«А в самом деле, – подумал Лао, – не лучше ль быть козлом? Трава, деревня, молоко, березы».
И немедленно заблеял, обрастая шерстью. Деревня расцветала вокруг пылкой иллюзией деревянного уюта, набрякшего везде, словно роса поутру. Мятная трава шелестела повсюду сырной тайной свежих чудес. Четвероногое состояние дышало комфортом, молодостью и величием предстоящего пути. Все было так хорошо.
Но пришел хозяин и кривым ятаганом разрезал шерстяную шею новоявленного козла. Мир требовал жертв, и животное тихо скончалось в хлеву. Лао порадовался возвращению в эмпиреи. Яковлев ждал его, все ждали его. Семен умер.
Миша Оно проснулся утром в своей комнате, на стенах которой сияло отраженное солнце. Он был рожден, как и прочие, с маленькой красной звездочкой на левом виске, ибо высшие силы заботились о сохранении его изначальной сущности в веках и давали ему шанс стать великим в каком-нибудь уровне бытия. Он существовал сейчас как юный струльдбруг и смотрел на свой облик в зеркале с заинтересованным видом субъекта, постигающего суть.
Миша плевал с балкона вниз, помнил детство, ушедшее к праотцам, и с надеждой осматривал незыблемый, словно мировая культура, мир, расположенный вокруг и внутри, который, будто просящая пищу собачка, жаждал творца и тайн.
Миша икнул и захотел кофе. Кофе возникал в специальном медном сосуде, дрожа дымом пещерных костров и капельным блеском нежащихся рыб. Кофейный сосуд стоял на плите, готовый родить из себя жидкий напиток, обладающий именем. Миша читал литературу с серьезными проблемами, не имеющими никакого отношения к реальности, которая нагло сияла за окном. Ему грезились девочки, полюбившие его душу. Он вспоминал любовные похождения, и физическая эйфория, возникающая от воспоминаний, заставляла его чувствовать приятное счастье.
Вчера или год назад он помнил.
Он взял девушку за ручку, и они взмыли куда-то вверх, словно земные твари, рожденные летать; ступени домов мелькали повсюду глубинными кошачьими глазами; предвкушая зарождение содружества, Миша и девушка щебетали, как полевые птички на пути назад-в-рай, девушка распахивала пальто, превращаясь в дельтаплан, летящий вдаль; Миша выставлял свой локоть, чтобы любовь цеплялась за него, и пролонгированный поцелуй ласкал их объединенный язык, когда девушка была совсем рядом.
Возможно, Миша издавал громкий крик, хватал девичью пятку и пронзал ее стрелой любви. Он бросал лассо, срывал нижнюю юбку, выбрасывая ее во внешний простор, освобождал тело от одежд, пахнущих духами и женщиной, и готов был стать на какое-то время сиамским близнецом для своей возлюбленной, объединив себя с ней расхожей целью живых существ. Он сидел на кровати напротив женщины и смотрел на ее голое тело, хранящее примитивную радость. Он стоял вместе с девушкой и целовал ее зимнее пальто. Он был тогда погружен в любовный мир.
Сейчас Миша пил кофе, собираясь идти в гости. Все еще начиналось в очередной раз, и Миша был внутренне пуст, как компьютер, лишенный программы. Он знал только что-то.
Надев пиджак и красные носки, Миша вышел на улицу. Потом он снова вернулся домой и взял арбалет с отравленными стрелами. На дороге почти никого не было, только умный человек шел навстречу. Миша вскинул арбалет, зарядив его.
– Мой мальчик! – сказал умный человек. – Вы убьете меня?
– О да! – патетично крикнул Миша Оно, топнув ножкой. – Я мститель богов!
– О’кей. Пусть кончится моя жизнь. Я умру достойно. Мое имя Петров.
Умный человек поднял руки вверх, раскрывая свое тело для стрелы.
– Умри навеки! – крикнул Оно, выстреливая.
Стрела воткнулась в Петрова, и он упал назад, чтобы умереть, обратив лицо в небо. Кровь, словно красное вино, медленно выступала из ранки, которую сделал Миша стрелой. Он подошел к Петрову и смотрел на его смерть. Это было истинным ощущением. Потом он бросил арбалет прямо на труп и побежал вперед, чтобы милиция не арестовала его на месте убийства. Миша не хотел сидеть в скучной камере и молиться о легком приговоре. Он был молод и был готов жить дальше. Он бежал и плакал, сознавая различие добра и зла. Улицы были пусты и изумительно угрюмы. Миша Оно посмотрел назад, как в прошлое, и пошел в гости.
В это же время Лао пришел в гости к Яковлеву на тайную квартиру где-то в пространстве. Он поднимался по узкой лестнице; был пьян – возможно, от вина; и чувствовал себя трагично и дружелюбно. Дверь в квартиру предстала перед ним, словно некий вход к другу, готовому разделить одиночество, как кусок хлеба. Лао постучал, и позвонил в звонок, и замер, слушая звуки за дверью.
На пороге возник Яковлев. Он был страшен и многорук, нимбы блистали над ним, словно лампа в операционной, несколько голов с глазами мрачно смотрели на Лао, испуганного торжественным явлением.
– Это – Я! – заявил Яковлев, выдохнув огонь из своих ртов. – Кто потревожил мое бытие, явившись в этот миг?
– Оставь это, – сказал Лао и икнул.
– Ты пьян, как свинья.
– Я выпил напиток богов!
Яковлев отвернулся и принял какой-то другой вид. Они прошли в комнату, в которой почти ничего не было. Был только старый обеденный стол, и на нем стояла чашка кофе. Из тьмы Яковлев достал две табуретки.
– Садись и пей! – сказал он.
Лао сделал глоток и поставил чашку на место.
– Что будем делать? – спросил он. – Я люблю тебя! Нам угрожает некая реальность! Я уже слабею без притока новых самостей в мою таинственную сущность! Похоже, они замкнулись сами в себе.
– Кто они? – спросил Яковлев.
– Не знаю. Но нам нужны их души. Что получается? Это какой-то открытый атеизм! Давай уничтожим их всех!
– Кого? – спросил Яковлев. – Ты бредишь, мой брат. Никого нет, просто тебе скучно и ты придумал себе тайну.
– Если бы и так! Но я рвусь в бой, чтобы прекратить это безобразие! Кто придумал все это?! Они хотят навсегда остаться в своем маленьком мире! Их не интересует наш гениальный рай.
– Они уже в раю, – надменно сказал Яковлев.
Лао сделал еще один глоток. Он встал, щелкнул пальцами, потом опять сел. В это время кто-то постучал в дверь.
– Это что еще такое? – спросил Лао.
Яковлев задумчиво произнес:
– Так… Увеселения.
Раздался оглушительный удар, и сломленная дверь раскрылась. В комнату вошли десять людей во френчах.
– Гражданин Яковлев? – спросил старший из них, похожий на исторического деятеля. – Вы объявлены врагом народа! Сейчас вас повезут в тюрьму и после пыток расстреляют. А может быть, отправят в концлагерь. Приступайте.
– Да пошел ты! – сказал ему Лао, плюнув куда-то.
Старший испуганно замер, поглядел на Яковлева, закрывшего глаза, потом сказал:
– А, извините… Мы не вовремя.
После чего вся компания резко ушла, быстро починив дверь.
– Ну что ты скажешь?! – раздраженно проговорил Лао. – Совсем опустился? Развлекаешься всяким маскарадом. В то время как появилось настоящее дело. Мы должны стереть в порошок эту мерзость! Посмотри туда!
– Они не в нашей власти, – сказал Яковлев.
– Мы что, не можем их уничтожить?
– Нет, конечно. Они самодостаточны. Все, что самодостаточно, неуязвимо.
– Черт побери! – сказал Лао.
– Черта не существует.
Они молчали, впитывая благовоние астрала. Какие-то миры возникали и рушились везде, но они не знали этих миров. Какой-то Антонов собирался умереть и думал о смысле. Какой-то мальчик смотрел в окно. Лао сказал:
– Я хочу видеть этих существ!
– Есть только один способ, – произнес Яковлев, посмотрев вдаль с хитрым видом. – Чтобы видеть их и уничтожить, ты должен быть с ними. Ты должен разделить их беды и радости и дать им путь истинной смерти, ибо только она приведет их к Истине!
– Что есть истина? – спросил Лао.
– Истина – это мы.
– Давай раскроем карты, – сказал Лао.
Они лежали на морском берегу и смотрели на пальмы. Где-то вдали шумела иная жизнь. Милиционеры охраняли их пляж от людей. Яковлев пил коктейль и напрягал свои руки, чтобы показать кому-нибудь сильные мышцы.
– Итак, Николай Федорович, – сказал он, обращаясь к Лао. – Что мы имеем в конце концов? Мы имеем прелесть! Мы ждали ограничений, поскольку всякое табу создает космос из хаоса, а тут они сами пришли к нам. Кто они? Неизвестно. Где они? Где-то. Они бессмертны, но как-то извращенно. Они не приходят к нам, а перерождаются. Они не ждут высшего, так как они погружены в себя. Это вырождение мира. И ты, Николай Федорович, должен пожертвовать собой ради них!
– Я? – прокричал Лао, восставая над планетой как новая звезда.
– Только ты, мой любимый. Ты должен дать им смысл, потому что у них сейчас есть только разнообразная бесконечность.
Лао бросился в море и плавал там на большой глубине. Он выплыл, опутанный водорослями и прекрасный, потом дошел по воде до Яковлева и отвесил ему поклон.
– Ты должен возникнуть среди них и по-настоящему умертвить их всех. Мы же с тобой знаем – зачем?
– Знаем! – прогремел Лао, играя звездами в снежки.
Они стояли в подъезде и пили портвейн. На другом этаже какие-то юные люди занимались любовью. Миша откусил кусок торта.
– Но как это сделать? Но как это сделать? – пьяным голосом пролепетал Лао.
– Ты должен родиться, мой мальчик! Мы должны тебя родить из себя. Ты еще не рожден.
– Я готов, – сказал Лао, и его начало тошнить.
– Тьфу ты… – раздраженно проговорил Яковлев, отвернувшись. – Тебе надо на воздух.
Они стояли в зимнем лесу, заключающем в себе таинственный восторг холодной природы. Не было ни медведей, ни кедров. Снежинки падали на остальной снег. Ночь была чудесна и восхитительна.
– Итак, ты готов? – спросил Яковлев.
– Да, я готов. Я их ненавижу. Я разберусь, что это за идиотский мир. Может быть, он не наш.
– Он будет нашим! – сказал Яковлев и подумал: «Ну и отправляйся к черту!»
– Я хочу быть рожденным! – закричал Лао, словно пионер, согласный посвятить свою субботу металлолому.
– Вот и хорошо. Есть только один способ родиться в этом мире. Это – любовь. Ты любишь меня?
– Я… попробую, – заявил Лао.
«Лао… – мысленно передавал свои чувства великий Яковов, – приди ко мне, милый. Только родившись в облике этого существа, ты поймешь и уничтожишь мир. Я буду писать тебе любовную записку, неужели ты устоишь? Больше нет никого здесь, и нет никого там. Падай вниз, в мои объятья, и, может быть, ты спасешься!»
Лао сжигал в солнечном свете свою высшую нравственность. Он повернул свой лик назад и улыбнулся. Только новый ребенок мог разобраться во всем. Яковлев, словно воплощенная женственность, ждал его. Пусть будет совершен грех!
«Но это же бред, – подумал Иисус Кибальчиш, наблюдающий жизнь. – Это полный бред».
И он создал девочку по имени Антонина с рыжими волосами и взглядом любви. Она была умна, как философ, и писала свои мысли в тетради, лежащей перед ней на столе. «Да здравствует мандустра!
Мандустра есть сущность процесса превращения акциденции в субстанцию, если такой процесс происходит.
Мира нет как такового, значит нет ничего реального.
Надо найти реальность и победить смерть.
Надо победить смерть.
Как Федоров, Будда и Я.
Реальность – Я».
Написав эти слова, Антонина пошла в туалет.
Превосходным утром нового дня Сергей Шульман вышел из своего дома, чтобы идти по улице и смотреть на людей. Его берет на голове был замечательно синим, словно сирена милицейской машины, поменявшая свою функцию устрашения на призыв и доброту. Сергей был статным брюнетом с усами и очками, разрез его глаз был чуть-чуть монголоидным, на спине имелся шрам.
Он чувствовал себя смелым и мужественным участником жизни, который любит пройтись по улицам, заполненным женщинами. В глубине души Сергея Шульмана зрела некая эйфория, порожденная прелестью молодого бытия, запечатленного в шагающем теле Сергея и направленная на иные, противоположные ему по строению, тела.
Вот – великая повторяющаяся в веках жизнь цвела повсюду, рождая одни и те же проблемы и загадки, обладающие прелестью первой ночи своего решения; люди могли заняться чем угодно и блаженно умереть, поскольку каждый из них был в сущности никем или ничем, и только дураки желали стать всем, в то время как остальные удовлетворяли свою жажду бытия попыткой быть простыми жителями и прильнуть к другому полу без задних мыслей, только лишь из-за удовольствия любить и быть счастливыми. Воздух надежды овевал ковбойский лик Сергея, когда он задумчиво опускал правую руку в карман хорошо сидящего на нем пальто и изображал на своем лице легкость, присущую соблазнителям всех времен и народов и готовую устремить все существо на добычу со скоростью мотылька, летящего в пламень свечи. Оставалось лишь найти нужный объект, согласный радоваться сегодня вместе с Сергеем различиям влюбленных тел и единству душ и устремлений.
Была великолепная весна, проникающая словно в поры жаждущего ласки тела, и в конце концов Сергей пошел в кафе, поскольку там было проще познакомиться с приятной легкой девушкой, чем на улице или в магазине. Сергей, сняв берет, словно входил в церковь, бодро прошагал через стеклянные двери прямо к стойке, за которой стоял ленивый самодовольный бармен, и замер там, осматривая сидящих за столиками людей.
Рядом с окном сидели две очень миловидные девчонки, похожие на школьниц, и пили апельсиновый сок. Шульман не мог разобрать ни слова из того, о чем они так бойко и весело говорили, но вид у них при этом был очень приятный и юный; они щебетали, как птицы, собравшиеся улетать в заморские страны, и смеялись так задорно, как будто перед их столиком происходила битва кремовыми тортами. Сергей внутренне приосанился, изобразил какую-то восторженную полуулыбку, но тут его отвлек недовольный голос бармена:
– Чего вам?
– Одну секунду! – весело и громко ответил Сергей и отправился к девушкам.
Он шел к ним, преисполненный любви и нежности, как прекрасный кавалер. Он подошел и встал учтиво около их прелестных головок и даже издал некоторый звук, чтобы стать заметным существом, имеющим свою личную цель. Школьницы перестали смеяться и беседовать и посмотрели на Сергея.
– Доброе утро, девушки! – сказал Сергей радостным тоном. – Не позволите ли к вам присесть?
– Идите в задницу, молодой человек, – сказала одна школьница и продолжила прерванный разговор: – И вот когда он меня взял за сосок, я поняла, что…
Сергей Шульман почувствовал себя обгаженным, и ему почему-то захотелось сказать «честь имею». Но он наклонился вперед, постоял еще немного, а потом, нагло улыбаясь, вышел из кафе. Настроение стало плохим и грустным.
Сквозь улицы он бродил, наблюдая кишение женских существ повсюду. Их юбки трепетали, их кофточки светились, как душа набожного человека, их глаза ждали прекрасных мужских лиц, и их руки ждали поцелуев. Сергей, словно таинственный незнакомец, смотрел на них загадочно и гордо, но не говорил ни слова.
Здесь нужно сказать пару слов о Сергее Шульмане. Выходец из семьи служащих, он уже три года был инженером. После окончания школы учился в институте, шлялся по пивным, имел каких-то нелюбимых любовниц. Его тело было мускулистым и довольно стройным, он очень любил проснуться утром с бабой, быстро встать с постели, включить музыку, сделать завтрак и уничтожающе смотреть на спящее женское лицо. Его мать была учительницей начальных классов и очень уставала. Сергей умел говорить по-английски и собирал марки. В это утро он пошел гулять, потому что была суббота.
Он стоял, как одинокий герой, живущий внутри себя, смотрел на себя, не находя ничего интересного, и мог бы быть мертвым. Он не существовал; он думал, что любит этот мир и готов умереть. Он смотрел на этих женщин, зная, что хочет их любить, и трогать руками, и говорить что-нибудь истинное, потому что устал быть пустым, как человек. Он видел, как у него появляется задача, он не знал – кто, но он готов был ждать. Женщина шла напротив, и он стоял, и любил ее, и хотел ее убить.
– Стойте! – крикнул Сергей Шульман, бросившись к даме, словно бросая ей цветы в лицо вместо поцелуя.
Ольга Викторовна Яковлева остановилась, широко раскрыв прекрасные глаза.
– Я хочу быть с вами, хочу любить вас, можно я провожу вас и приглашу с собой в кафе? Я расскажу вам истину.
– Но я вас не знаю… – сказала Яковлева, улыбнувшись.
– Вы узнаете меня, я сотворю вам тайну, я ничего не хочу, я чувствую свою задачу, я вижу в вас цель и человека, вы должны просто слушать меня, это интересно, я угощу вас шампанским, меня зовут Сергей, а?
– Оля, – представилась Яковлева, протягивая ручку.
Шульман поцеловал ручку так, словно это были губы.
– Шампанское находится где-нибудь там! – сказал он, показав перстом вдаль.
– У меня мало времени, – сказала Яковлева, посмотрев на часы. – Скоро свидание. Я не пью шампанское, я хочу коньяк. Я готова с вами побеседовать, потому что у вас приятный напор.
Шульмана чуть не стошнило при слове «напор», но потом он посмотрел в лицо Яковлевой и, увидев ее горячие глаза, обещающие все, пришел в какой-то оцепенелый восторг, переходящий в небесную любовь и нежность.
– Что с вами случилось? – участливо спросила Яковлева, беря его под руку.
– Я готов умереть или жить вечно. Это одно и то же. Мир гениален, как искусство. Я понял все.
– Отлично! – воскликнула Яковлева и топнула каблучком по дороге.
– Я расскажу тебе все, как только мы выпьем этот бессмертный напиток богов – коньяк!!!
Сергей Шульман захохотал, думая о прелестях мироздания. Они шли вперед, желая прийти скорее в кафе.
Они пришли в пиццерию и сели за столик. Шульман подошел к стойке бара и купил два бокала с коньяком.
– Ура! – сказал он, чокаясь. Яковлева выпила до дна, не сказав ничего. Сергей выпил, став пьяным и желающим говорить.
– Итак, мир существует любой, на выбор, только никто не выбирает и боится его сотворения, боится быть творцом даже в искусстве, не говоря уж о реальности. Я понял реальность дискретно, прерывисто, как моменты, я могу их даже зафиксировать; в лучшие моменты можно ощутить так называемый трагизм, но это чушь, ничего трагического, это эйфория, это просто кайф от конечности, оттого, что умрет ночь и утро, оттого, что любовь имеет начало, рай и конец, оттого, что я совершенно свободен; я могу не быть великим, поскольку я уже не Бог, но могу точно соответствовать тому, что мне нужно. Лучший карандаш – тот, который лучше всех пишет, лучшая сабля – та, которая лучше всех рубит, и нет нужды искать высшую сущность – их сущность в абсолютном следовании себе, своей сверхзадаче. Человек почему-то решил стать богом, вместо того чтобы найти свою цель и следовать ей. Ему уже дано все, я уже могу восхититься именно этим кафе, и днем, и своей смертью, а не считать это акциденцией, глупым приключением, не-жизнью. Это и есть ничего не значащая паутина всего бытия – что ж, я свободен от него, это как зеленое растение вместо мертвой идеи; случайность есть жизнь, идеал есть гибель. Я могу любить, могу жениться на девушке, если встречу ее просто так, я готов стать крестьянином, потому что цель – тайна, и если я создам ее хотя бы здесь, в кафе, на этом месте, в этом бокале, я готов уйти туда, вглубь, умереть там; мне нет нужды играть дальше в непонимание, все очень просто, все очень скучно, только мы можем сделать мир другим.
– Можно еще коньяка? – сказала Яковлева.
Шульман встал, купил еще два бокала. Яковлева выпила до дна, не сказав ничего. Сергей выпил и продолжал свою речь:
– Поэтому только здесь и сейчас я могу сказать про этот момент, что он лучший, потому что он – есть, а другие были или будут, и только сейчас я могу умереть, потому что больше ничего интересного не будет; все равно мы сами устанавливаем иерархию, нет ничего существенного, если бы был Бог, он был бы конкретен и прост, как и я, а может быть, и нет. Суть Бога никого не должна волновать, это его трудности, его проблемы; идеи человека глупы и упираются в стену, а я люблю идти вокруг стены или, лучше сказать, вдоль стены, вбок, а не вверх и не вниз; я готов даже остаться здесь, я хочу остаться здесь прямо сейчас, это как воспоминание о настоящем.
– Хорошо, я отдамся вам, – сказала Яковлева.
– Правда?! – жадно спросил Сергей, не веря своему счастью.
– Правда, – сказала Яковлева, посмотрев на часы. – Только у меня мало времени, поэтому пойдем в подъезд.
– Ура! – закричал Шульман, поцеловав Яковлеву в щеку.
Они вышли из кафе, шатаясь, потом пошли в подъезд и поднялись в лифте на последний этаж.
– Кажется, здесь тихо, – по-товарищески прошептала Яковлева, сняв с себя пальто и перчатки. Она положила пальто на пол, легла на него, сняла трусы, сапоги и колготки, задрала свое платье и прошептала:
– О, приди сюда, мой возлюбленный, моя брошь в волосах, мое солнце в море, мое кофе на столе! Я так ждала тебя, я мечтала о тебе, я знала, что ты вернешься все равно! Я всю жизнь провела одна, думая лишь о тебе, и сейчас ты будешь со мной – миг настал!!! Обними меня нежно, как лайковая перчатка, сожми меня крепко, как питон, поцелуй меня сладко, как ликер. Люби меня сильно, как вибратор.
Шульман затрясся от радости, слушая эти слова. Он снял трусы, ботинки и штаны и лег рядом с Яковлевой, обнимая ее плечо. Но то ли коньяк, то ли нервы сделали гнусное дело, и некоторая импотенция поразила мужественность Шульмана в самый член. Он лежал, как бревно, глупо смотря на пышущую жаром Яковлеву, и ничего не мог сделать. Он пытался ее ласкать, но это не помогало.
– Ну что же с тобой! – досадливо воскликнула Яковлева и начала характерные женские действия.
– Черт его знает… – пробурчал Сергей, осознав, что ничего не выйдет – он уже зациклился на этом моменте, и теперь не помогут даже самые приятные поступки, совершаемые жертвенной женской душой.
– Почему это? – спросила Яковлева, прекратив свои методичные ласки.
– Я не знаю! – крикнул Сергей. – Проклятье! Я сейчас самоубьюсь!
Они лежали молча минут пять. Потом Яковлева встала, надела трусы, сапоги, колготки, пальто и сказала:
– К сожалению, мне пора. Мне очень жаль. До свиданья, Сережа.
Она ушла, скрывшись в лифте. Шульман остался один.
Он лежал на каменном полу лестничной площадки с голым глупым видом и смотрел в окно, где сияло солнце. Он не хотел вставать. Ему даже не хотелось ничего конкретного. Он лежал, и перед его глазами проносилось видение голых женских тел, готовых для него на все. Он хотел рассказать им что-нибудь о себе, но они жаждали его любви. Сергей закрыл глаза и увидел тьму. Он открыл глаза и увидел свет. Он встал и взял свой шарф.
Через некоторое время его тело ослабло и свободно повисло, словно желая упасть на пол, хотя стояло на коленях, и Сергей Шульман был задушен своим шарфом, привязанным к лестничной ограде крепким узлом и обернутым вокруг шеи в виде петли. Агония была недолгой и тихой. Возможно, он попал в эмпиреи, прекратив этот земной круг, но люди, обнаружившие труп, ничего не узнали об этом, да и Лев Козлов перерезал вены.
Конец света кончился. Яковлев грустно сидел у себя наверху, изображая невинность и раздражение. Лао тоже где-то был.
– Ты и впрямь, что ли, козел, – говорил Яковлев. – Трахнуть меня не смог. Неужто перевелись мужчины во Вселенной? Разве трудно создать самца?
Лао был добрым и сентиментальным и словно желал существовать и дальше в том же духе. Он ответил своему другу, отдыхая от прожитого:
– Мне дорога память о том, кем я был, хотя я и вижу, кем я стал. Самец, обладающий готовым орудием, как правило, бывает неумен и неоригинален. Я боялся, что такая кровь не смогла бы произвести на свет великую личность, способную спасти и уничтожить нужный нам мир, погрязший в своем герметизме.
– Идиот, ведь этой личностью будешь ты! – взревел Яковлев, сокрушая какой-то народ.
Лао насмешливо прошелся по кущам взад-вперед, срывая цветы и плоды.
– Вот именно, Иван Федорович! – сказал он злобно. – А я не хочу родиться дебилом, задав обнаглевшему человечеству слишком простую загадку соответствия большого малому, или же бога – идиоту. Моя задача – стать простым и наполненным любой возможностью; стать легким, как сейчас и вчера; только так я буду собой и тобой; только так я их уничтожу, Коля!
– Ты – болван импотенциальный, – сказал Яковлев, превращаясь в андрогина. – Но я люблю тебя, чудо высшего света! Я даю тебе еще попытки совершить со мной расхожее действие, желанное нам. Пусть великое «может быть» будет пухом твоему избраннику Шульману, но я жду иных людей и членов.
Лао заплакал, ибо все равно что-то умерло в нем от смерти его воплощения; но впереди была новая задача, и вообще можно было еще долго существовать и иметь цели, готовые стать тайной. Любовь наполняла собой абсолютный дух Яковлева, Лао ласкал его гениальной мыслью и эмоцией, а Яковлев готовился стать матерью, чтобы родить и выбросить спасителя вовне сферы высшего бытия.
– Давай попробуем еще!.. – говорил Яковлев шепотом, стеснительно скрываясь во мраке трав и мхов. – Быть может, что-то выйдет, что-то произойдет. Только в воплощениях возможны трагедии и подлинные смыслы поступков, нам же плевать на них, Иван Федорович, у нас нет серьезности, только желание быть вместе; а ну-ка, давай-ка, друг, будем как союз или вселенская свадьба.
– Я всегда готов, – хмуро ответил Лао и заснул на некоторое время. Закат, полный тайн, озарял мир. Любовь была готова родиться из великих душ, словно красивая девочка, способная поцеловать на ночь отца или друга. Все начиналось в очередной раз.
Сергей Шульман родился. Степан Чай коснулся указательным пальцем левой руки своего подбородка внизу лица и плюнул на землю между ступней, тут же растерев слюну так, что ее стало почти не видно. В глубине его мозга зарождалась идея стать счастливым. Он хотел поднять локоть, но тут же застыл, перестав двигать чем бы то ни было.
– Иаковлев, а мы вправе делать это? – крикнул вдруг Лао сквозь все действо. – Ведь это же грех, любовь, кровосмешение, плоть, блуд, стыд. Я не могу сделать это с тобой.
– Это – единственный выход, козлик, – мило улыбаясь, злобно ответил женский Иаковлев, – придется тебе пожертвовать собой. А кроме того, это приятно.
«Возможно», – подумал Лао, наблюдая в своем воображении кровавую прелесть самопожертвования сквозь сирость униженных величий и согбенных чудес; терновый ореол растоптанной молитвы и тайны в дымке отчаяния, небытия и наказания для всех; страстную духовную живучесть, переживающую времена и века и не подвластную ни знамениям, ни истине; а также восхитительную глубину милых нравственных мук. И хотя согласия еще не наступило в сомневающейся душе, было уже поздно в этот момент. Лао задумался.
Сергей Шульман женился. Степан Чай коснулся указательным пальцем правой руки своего лба и плюнул на землю между ступней, издав характерный звук. В глубине его мозгов зарождалась идея стать счастливым. Он подпрыгнул на месте два раза, звякнув ключами в кармане, а потом его глаз увидел старуху, идущую рядом с бордюром тротуара. Чай свел свои губы в какую-то трубочку и чмокнул ими, целуя не очень свежий воздух перед собой.
Он стоял на тротуаре, одной ногой наступив на бордюр. Указательный и большой палец его правой руки сжали кончик носового платка, торчащего из кармана, и потянули вверх, вынимая платок. Потом указательным, большим и средним пальцем Чай сжал платок, обволакивая им свой нос. Сделав большой выдох через нос, он пневматически удалил из внутренней части носа сопли и козявки, которые попали прямо в платок, предназначенный именно для этого. Потом он сложил платок пополам, еще раз пополам и еще раз пополам, и его правая рука положила платок обратно карман, утрамбовав его расположение там большим пальцем. Итак, отдельные сопли Чая хранились теперь в носовом платке Чая. После этого Степан двинулся вперед, совершая своим телом нужные для перемещения в пространстве сложные ритмические движения ногами и руками. Кончик его языка был прислонен к задней стенке двух верхних передних зубов, иногда смещаясь к альвеолам. В мозгах Чая крутились фразы из «Песни о Буревестнике». Ступня Степана Чая сперва пяткой наступала на землю, отталкиваясь от нее и перемещая весь корпус тела вперед, а в последнее мгновение один только передний кончик ступни оставался на земле – и миг проходил, и все кончалось, и нога покидала тротуар.
Зрительные нервы раздражались обилием упорядоченных красок и фигур. Мозги фиксировали увиденное, как-либо реагируя на него. Однажды некая мини-юбка родила сексуальное возбуждение, и рот Чая раскрылся, чтобы издать озабоченный вздох. Потом очарование прошло, и руки засунулись в карманы, нащупав в одном из них все тот же носовой платок. Путешествие продолжалось.
В мозгах возникло явное осознание того, что происходит с организмом. Состояние было легким и дурным, – оно было простым похмельем, и это не было странным, так как из-за детерминизма такие ощущения почти всегда наступают наутро, если ночью выпить много водки, а Чай так и сделал, беседуя с отцом о судьбах всего человечества.
Как только наступило это понимание, ноги Степана Чая прекратили свое движение; дрожь пронзила все, что было собственно им, и мозг захотел алкогольных напитков. Потовые железы стали обильно выделять пот, рука устало вытирала его со лба, депрессия утомляла нравственную суть Чая, а вспоминающая часть мозгов выясняла, где же есть спиртное вблизи от тела. Наконец мозг решился, и Чай на миг стал словно един в своем порыве выполнить пожелания тела и приказ продукта его духовной деятельности. Все его существо как-то подобралось, приосанилось, и ноги начали новое движение вперед.
Через какое-то время, продолжительность которого остается неизвестной, Степан Чай правой рукой открыл дверь в пиццерию и вошел внутрь. Пройдя совсем небольшое расстояние, его тело остановилось у стойки; глаза немедленно стали смотреть на мигающие лампочки, развешанные над барменшей. Барменша напрягла одни мышцы шеи, расслабив другие для того, чтобы ее лицо вместе со ртом, который мог извлекать из нутра членораздельные звуки, повернулось к посетителю, которым в данный момент являлся Степан Чай. Он проделал аналогичную операцию и издал членораздельный звук, обладающий вполне определенной интонацией:
– Двести грамм шампанского.
Потом все пошло в точности так, как и должно быть; руки барменши начали производить ряд действий, которыми можно пренебречь в описании, пальцы же Чая извлекли из правого кармана штанов два рубля и положили их на поверхность стойки – чтобы рука барменши потом взяла их, присоединив к остальным деньгам, полученным за продажу алкогольных напитков. Наконец Степан Чай взял бокал шампанского, обхватив его ножку тремя пальцами, и пошел к столику, чтобы сесть на стул, соприкоснувшись с его поверхностью своими ягодицами и спиной.
Так и произошло; и тут же бицепсы руки Чая стали сокращаться, поднимая руку с бокалом вверх прямо ко рту; и губы Чая обхватили стенку бокала, а полость рта стала создавать отрицательное давление, нужное для того, чтобы засосать ценную жидкость внутрь организма, который жаждал ее, словно истинно нужную ему вещь, и был готов к ее восприятию и усвоению.
Вкусовые рецепторы в полости рта кайфовали, чувствуя елочное покалывание шампанской сладости, проходящей в пищевод и желудок. Весь корпус тела Чая слегка вибрировал, поглощая в себя долгожданную жидкость; вены, артерии и капилляры были готовы с радостью всосать алкогольную сущность шампанского в себя, чтобы общее самоощущение индивида стало хорошим и романтичным. Голова Степана Чая слегка откинулась назад, на шее четко обозначился остренький кадык, и мозги, как нельзя более единые в своих желаниях, ждали наступления опохмелительной эйфории, которая в соответствии с детерминизмом должна была начаться вот-вот.
Где-то в совсем других координатах умирало тело Андреева. Какое-то время не происходило ничего существенного, потом же все началось, и мысли стали путаться и спотыкаться друг о друга, и голова наклонилась теперь вперед, и весь Степан Чай словно расцвел от физических и моральных удовольствий, как будто был прекрасным цветком, который только что опылил шмель.
Истинная радость проникла в его душу, располагающуюся непонятно где. Рука Чая снова поднесла ко рту бокал, и вновь губы обхватили стенку, и рот поглотил оставшуюся алкогольную газированную жидкость. Корпус тела расслабился и как бы перестал ощущать свою подлинную массу.
Прошел какой-то отрезок времени, и чувство наступившего опохмеления прочно овладело внуренним миром Степана Чая. Наконец он поднял свое тело, направив его на улицу, и ноги медленно начали изображать движения, нужные для ходьбы. Все, что было им, покинуло пиццерию и направилось дальше.
После этого новые идеи овладели его мозгом. Ноги замедлились; правая рука полезла в карман, чтобы достать оттуда монету 2 копейки. Все это было проделано, и Степан Чай зашел в будку телефона-автомата. Выставив вперед указательный палец и вдев его в отверстие телефонного диска, его рука набрала семь цифр и затем ослабленно повисла вдоль тела. Степан Чай звонил Ольге Викторовне Яковлевой. Его гортань издала ряд членораздельных звуков после того, как мозги через ухо поняли, что абонент взял трубку на своем конце провода:
– Здравствуй, Оля. Я стою здесь, мне грустно и одиноко. Я хочу увидеть тебя. Давай встретимся с тобой на площади Победы, или я могу прийти к тебе в гости с коньяком и цветами. Я расскажу тебе веселый анекдот, и мы будем смеяться вместе над его юмором. Мы можем гулять и пить чай.
Членораздельные звуки прекратились. Ухо Степана Чая некоторое время воспринимало звуковые сигналы, идущие из телефонной трубки, а мозги обрабатывали информацию, чтобы принять приемлемое решение.
– Отлично! – раздался новый членораздельный звук из гортани Степана Чая.
– Я еду! – прозвучал еще один такой же звук.
Через некоторый промежуток времени, на протяжении которого происходило много всяких вещей и действий, указательный палец Степана Чая уткнулся в кнопку звонка, расположенного справа от двери квартиры Ольги Викторовны Яковлевой. Опанас Петрович крякнул, сидя в туалете, и прокричал жене: «Эй, иди выключи телевизор!» Жена степенно подошла к телевизору, нажала на кнопку, и он перестал показывать передачу о коррупции. Опанас Петрович вышел из туалета, запер дверцу на задвижку и пошел в ванную. Там он помыл руки и долго вытирал их полотенцем. Когда он пришел на кухню, ужин был уже готов. «Устал я!» – сказал Опанас Петрович. Он работал в милиции почтмейстером. Наконец дверь открылась, и человеческая фигура наполовину выступила из проема. Ее рот открылся, издавая членораздельный звук.
– Привет, проходи. Я рада тебя видеть.
Фигура, принадлежащая, как стало ясно по тембру голоса, женщине, посторонилась, впуская тело Степана Чая внутрь квартиры. Ноги Чая переступили порог, и он оказался в прихожей. После ряда телодвижений, связанных со сниманием верхней одежды и туфель и надеванием тапочек на ступни, Степан Чай вошел в комнату и сел в кресло. После того как было выпито три четверти бутылки коньяка, рука Степана обняла плечо Оли. Настроение было элегическим, раздался мужской членораздельный звук:
– Ты мне очень нравишься, Оля.
Рука Чая крепче сжала плечо Яковлевой, потом кисть начала спускаться к груди и пытаться нащупать сосок. Снова раздался мужской членораздельный звук:
– Я хочу тебя, Оля.
– А я не хочу тебя.
Это прозвучал женский звук.
– Но почему?!
Этот звук был вновь мужским.
– Не знаю.
Маленькая кисть руки Яковлевой сбросила с груди кисть Степана Чая. Туловище Чая обиженно отодвинулось от тела Ольги Викторовны. Рука его взяла бутылку с коньяком, вылила коньяк в рюмку, поставила бутылку на пол, взяла рюмку, поднесла наверх ко рту, губы сжали стенки рюмки, и наконец Степан Чай залпом выпил коньяк. В мозгах его воцарилось самоубийственное, обескураженное настроение. Резким рывком тело выпрямилось, ноги решительно пошли к двери. Никто не хотел остановить их. Через некоторое время только что открытая дверь громко захлопнулась, поскольку была послана на свое место разочарованной рукой Степана Чая. Рот Яковлевой зевнул.
И вот на улице слюнные железы Чая выделили слюну, она проникла в ротовую полость, и Степан плюнул на темный асфальт. Тут неожиданно предательская стрела, выпущенная непонятно откуда, пронзила учащенно бьющееся сердце Степана Чая; его гортань издала высокий и резкий нечленораздельный звук, а потом туловище начало мгновенно слабеть и, словно потеряв каркас, упало на асфальт. Пронзенное сердце перестало выполнять свои животворные функции, превратившись то ли в простой кусок парного мяса на стреле, то ли в высокий символ. Наверное, Степан Чай вернулся откуда пришел; и капля лужи проникла в его носовой платок, торчащий из правого кармана и высохший там, став несущественным серым пятном.
Аркадий Верия родился двадцать семь с половиной лет тому назад. Сейчас он сидел и смотрел на грустный огонь, заключенный в костре или в камине, и сжигающий какие-нибудь дрова и предметы с восторгом возвышенного умертвителя; все было обращено в приятные огненные тени, словно очарование готово было родиться в мигании углей и в дыму; и Аркадий Верия был умиротворен течением жизни и собственным существом и гладил свое колено, как будто на нем только что сидела загадочная возлюбленная.
Медовая, обволакивающая прелесть огня дышала сыростью чуткого утреннего леса, байковой, мятной секундой восторга любви и снов и шелковой тайной родных существ. Как святилище в кино или дождь в твоей памяти, предметы меняли свой смысл в обычной полутьме, и оставалось только надеть пижаму, чтобы остаться на равных с остальным окружением, и молчать, желая смерти; и погрузиться в эйфорию уже описанной мягкотелой обыденности, чтобы понять какую-нибудь очередную великую истину, не имеющую слов; и взглянуть вдаль и вперед, где сверкает новый огонь.
Так сидел он – Аркадий Верия – и испытывал радость, не думая о зле.
И словно явленный призрак, прерывающий печальное безмолвие, раздался ласковый звон телефона, имеющий потенцию родить счастье и красоту. Аркадий вскочил с сиденья, на миг застыв в агрессивной позе, словно был сильным чемпионом, а потом изменил настроение, почувствовав расслабленную ласковость своего внутреннего мира, и снял трубку, приложив ее к щеке, как целующую мордашку любимой.
– Друг мой! – сказал восторженный девичий голос. – Ты совсем забыл меня! Я все время думаю о тебе, я скучаю по тебе, а не могу без тебя. Аркаша, какой же ты хороший!
– Кто это? – настороженно спросил Верия, запуская свою душу в высшие сферы счастливых моментов, расцветающих в веселии свежего озонного бытия. – Кто это говорит?
– Это я, родной и милый, это я – Оля. Оля Яковлева.
– Понятно, – сказал Верия.
– О, скажи мне свое чудесное согласие, и я прилечу к тебе на крыльях, принесу тебе себя, я так люблю тебя видеть!
– Приезжай, – хмуро сказал Аркадий, повесив трубку.
Время происходило внутри пространства, рождая в нем изменения, тьма заполняла комнату, усугубляя элегический лад. Вечер, словно снег, неотвратимо ложился на землю, приближая час своего конца. Аркадий Верия сидел в кресле и смотрел на огонь.
Не важно, сколько продолжалось уже описанное бдение, так как ничего нового не возникло в этом месте; но прелесть нетерпеливого ожидания была уничтожена задумчивым абстрагированием от насущной жизни и предстоящих событий и низведена до уровня простой безделицы, ждущей впереди. Раздался заключающий эту часть жизни звонок в дверь, и Аркадий медленно пошел открывать вход в свою обитель – для кого-то желанную, для кого-то словно и не существующую вовсе.
Великолепное женское существо стояло за порогом, выставив вперед улыбающиеся блистательные губы, накрашенные темно-лиловой помадой; Верия поцеловал их от души и пригласил гостью войти внутрь; и тут же чудесный запах легких, каких-то каменных духов заполнил близлежащее от дамы пространство, и стало так, будто эльфы принесли на своих крыльях лучшую невесту сыну человека, а она покрыта черной прозрачной кисеей и излучает из себя призыв следовать тайне ее глаз и голоса и умереть, осознав себя не тем.
– Привет тебе! – сказала девушка, снимая черную шляпу. – Я счастлива оказаться здесь опять!
– Проходи, – тупо произнес Аркадий, показывая рукой на кресло.
– Спасибо! – пискнула Оля и уселась в кресло.
Какое-то время они говорили разные слова, рассказывая истории, и Оля сидела, раскрыв глаза и создав на своем лице выражение восторга и любви, но Аркадий не замечал ничего, попивая свой кофе; он смотрел в окно или на стену и был бесстрастен, словно не любил вообще никого, кроме вечности и истины. Девушка Оля положила свою теплую ручку на колено Верия и посмотрела прямо в его лицо. Аркадий смутился.
– Нет, Оля! – сказал он патетично. – Я не могу быть с тобой.
– Но почему?.. – слезно прошептала девушка. – Я хочу тебя, милый!..
– Потому что я – педераст, – извиняющимся тоном проговорил Аркадий и цокнул, кивая головой, словно сожалел об этом.
– Не может быть… – отчаянно сказала Оля, сжав колено Аркадия своей прекрасной рукой. – Я не верю!..
Они замолчали, думая о грусти, которая охватила их души. Потом Аркадий Верия мягко и почти не обидно снял руку Оли со своей ноги, посмотрел в ее красивые глазки и возвышенно сказал:
– Оля, не все так просто! Мужчины, юноши – это самая большая прелесть, существующая под луной. Когда я смотрю на их статуи, на их торс, плечи, ягодицы – меня охватывает такое упоение, такой чувственный восторг, такой подъем всех сил и желаний, что я даже готов умереть в этот миг или же остановить его! Давид – это мой идеал; он – само совершенство, он – чудо, я готов целовать его куда угодно, я готов делать с ним все, готов провести с ним ночь, готов молиться на него… Я млею при виде голого мужского тела; загорелое гладко выбритое лицо, бицепсы, плечи, литой живот, и дальше, дальше, дальше… Он берет тебя сильной рукой, ласкает, хочет тебя; целует долго, страстно; шепчет слова… «Ах, дурочка моя…» Или назовет тебя рыбкой – такой сильный, крепкий, гладкий… Я бросаюсь перед ним на колени, обнимаю ноги, ягодицы, весь замираю, ловя каждый его приказ, жест… Он – господин, он – мой, никому его не отдам, мне с ним хорошо, я весь превращаюсь в абсолютный стон, когда он со мной; небо сходится с землей, жизнь прекращает течение, я становлюсь ребенком, становлюсь не рожденной еще деткой, плачу и смеюсь, дрожу, ликую, и умираю от любви и желания, и засыпаю наконец – счастливый, как невеста, впервые испытавшая любовь и сладостный стыд.
– Я абсолютно согласна с тобой, – сказала Оля.
– Ну вот и хорошо, девочка моя! – обрадовался Берия, хлопнув себя по ляжкам.
Они сидели молча, затаив мысли и думая об одном. Потом Оля вдруг взяла свою лакированную сумочку, открыла ее и достала перочинный ножик. Она обнажила небольшое лезвие и проверила пальцем его остроту.
– Ах ты, лидер гнойный, гомик вонючий!.. – закричала она вдруг прямо в лицо Аркадию, который совершенно растерялся, и стала наносить ему резкие колющие удары ножом в разные участки тела.
– Прекрати, дерьмо… – залепетал Берия, постанывая и прикрываясь руками от неотвратимого ножичка. Но когда лезвие вошло в его горло, все было кончено. Аркадий рухнул на пол, разбрасывая, словно марионетка, у которой обрезали нитки, свои руки и ноги, издал гнусный хрип и взвизг и скончался, завершив земной круг. Оля выдернула ножик из горла и вонзила его зачем-то в голубой красивый глаз. Она встала над трупом во всем своем женском великолепии, достала помаду, накрасила губы и поставила свою ножку в каблучке прямо на окровавленную грудь Верия, будто олицетворяя собой некую грацию, путем убийства победившую смерть. Такой ее и увидел Лебедев, пришедший в положенное время к Аркадию, чтобы совершить противоестественный половой акт.
– Аааааа! – заорал бедный Коля, когда перед ним открылась прелестная картина конца жизни и любви.
В мерзостной камере Яковлева была хороша, как никогда, и даже стражник не смог соблазнить ее в последнюю ночь. Она сидела в черном платье и курила папиросу, оставляя на мундштуке след помады и запах чар, и статный надзиратель приобнял ее за плечико, жалея ясную, как солнце, участь жестокой убийцы. Но Ольга высвободилась, шлепнула по мундиру своей ручкой и сказала, глядя прямо в возвышенную звездную ночь за решеткой:
– Любовь не продается, милый. Я останусь верна самой себе.
Наутро ее вывели во двор и застрелили, попав пулей в затылок. Ольга Викторовна Яковлева рухнула на полу-зеленую майскую землю, чтобы больше не целовать и не убивать никого, и закончила эти события, не издав ни звука. Может быть, она возникла в новых видах где-то еще, но можно только предполагать это и верить в лучшее. Лебедев часто плачет, думая о несчастной любви Оли и Аркадия. Артем кладет на их могилы букеты цветов, а Миша грустит. Кто знает, где резвятся сейчас их души. Но бытие хранит свои тайны.
И Миша Оно попал в камеру, пахнущую сыростью и несвободой; может быть, для смертников, а может быть, для проведения здесь длительного времени жизни. Он сидел за скудным столом узника, курил сигарету и испытывал блаженный озноб при мысли о предстоящем ему конце. Холод сводил его спину, словно перед ним сейчас лежала в кровати прекрасная женщина, медленно снимающая с себя черное кружевное белье; но вместо женщины его ожидала нематериальная смерть, еще более возбуждающая нервы и ощущения и более загадочная, чем красота желанной души. Миша был готов встретиться с новыми событиями своего бытия и насмешливо смотрел в оштукатуренную и унылую стену камеры. Но свет сиял под потолком, рождая тень присутствующего здесь заключенного; некий запах весны проникал сквозь мрачную и восхитительную решетку характерного тюремного окна, и не хватало только летучих мышей и цепей для полной книжной картины происходящего; и Миша хотел быть преступником, закованным в колодки на площади, или в темной яме, или в этой тюрьме, чтобы слиться с проникающим в него страданием в единое целое, как при зачатии, и завершить свою жизнь, полную убийств и греха, шепнув сухими умирающими губами в презирающую пустоту что-нибудь тихое и значительное, похожее на последнюю точку в священной книге, которая не столько заканчивает повествование, сколько начинает новую жизнь.
Сознание своей дурной нравственности наполняло Мишу восторгом предстоящего возмездия со стороны внешних сил. Он не помнил свою былую задачу и своих нарушающих какой-нибудь закон поступков, но из-за этого воображение готово было представить его душе любые возможные приятные события, начиная от романтичной борьбы за свободу и заканчивая мерзким сексуальным убийством, совершенном в полумраке изумительной подворотни под опустошительный гул вселенской тишины. Может быть, не было вообще ничего и Миша сам попросился в неволю, желая убежать в утробный рай тюремной ограниченности от страшной и ответственной жизни в мире любых возможностей. Миша, наверное, просто хотел уже умереть и не видел лучшей смерти, чем смерть узника, чувствующего свою вину и боль и смотрящего на мир с высоты свободы от самосохранения.
Паутины шептали признания в любви, параша в углу вносила чудную гармонию в интерьер, и решетка была такой, какой ее можно было представить.
– Я люблю вас, друзья, – сказал Миша Оно, поцеловав стену. И не было ни жизней, ни смертей сейчас, здесь, в этом реальном месте, и Афанасий за стеной плакал и стонал, словно музыка сфер, и ему так хотелось выйти отсюда, что он никогда не согласился бы покинуть это Божье место. И наступила еще одна одинокая ночь.
Ничего не было. Раздраженный Яковлев спустился сверху, совмещая в себе внутреннее и внешнее.
– Эй, ты, козел идиотский! – громоподобно заорал он. – Ты издеваешься, демиург лысый, надо мной?!
Лао припудрил вселенскую лысину на своем никаком теле. Он был спокоен и зол.
– Ты мне сам не дал, когда я хотел тебя.
– Ты был омерзителен, – опять заорал Яковлев. – Я не могу дать такому слюнявому человеку, включенному в реальность только собственных кишок!
– Сам виноват в дальнейшем, – гнусным тоном сказал Лао, сооружая всемирный потоп. – Мог бы понять ситуацию и явиться мне в истинном виде.
– Ты обнаглел!!! – снова заорал Яковлев. – Ты не можешь совершить простейшее действие, которое под силу даже козлу!!!
– Не все так просто, Оля, – сказал Лао, умирая и воскресая.
Яковлев смолк на века и отдохнул от наглости партнера по творческому акту. Потом он стал вкрадчиво шептать:
– Ты не понимаешь, что мы теряем время, дубина. Они же похитили у нас тайну жизни, а мы никак не можем совершить этот проклятый любовный поступок. А по-другому ведь не проникнешь к ним; не согрешив, нельзя попасть в гущу собственного творения! Поэтому я все же предлагаю тебе мир и дружбу, поскольку иного пути у нас нет.
– А может, я не хочу больше туда? – спросил Лао, восставая из пепла.
– Как это так! Они же там…
«Ну и хрен с ними», – подумал Лао.
– Я прошу тебя, родная ты моя!
– Я должен подумать, – сказал Лао, удаляясь в уединение. Волны плескались над его головой, покой расцветал повсюду. Иисус Кибальчиш куда-то исчез. Опанас Петрович сказал свое слово.
И Лао стал неким человеком-вообще; он лежал на мягкой перине, затягиваясь сигарой, или же стоял в кузове грузовой машины, принимая снизу ящики, чтобы класть их в штабеля, а иногда просто забывал осознать свою истинную деятельность в тот или иной момент. Все было не существенно и не важно, лишь его мысль, его сомнения имели смысл; и Лао думал о предстоящем непрерывно, не отвлекаясь на перипетии судьбы и на радости иных физических состояний, и никак не мог решиться на что-нибудь. Его вопрос, конечно, можно было свести к обычной дилемме, выразимой в простой фразе-антиномии, над которой легко подшутить, но, в отличие от известных идейных развилок, выпадавших на долю знакомых всем существ, его задача заключалась в том, чтобы набраться смелости для выбора меньшего, а не большего, более простого, а не великого; решиться на самоограничение и низведение себя в гнусное, почти животное состояние: решиться «не быть».
– Не быть или быть – вот в чем загвоздка! – размышлял Лао. – Как я могу оставить все ради чего-то, бесконечность ради ограниченности? Я могу вобрать в себя то, чем я собираюсь стать; могу стать таким, не теряя всеобщности; зачем же мне лишаться вершины и власти, чтобы пасть в примитивную неизвестность только для того, чтобы завоевать и ее тоже? Ничего не существует; нам нужны новые задачи, создающие иллюзию существования, но почему эта задача имеет больший смысл, чем стремление к небытию, заложенное мною во все? Я недоумеваю, и сомневаюсь, и смотрю сейчас в окно вот этой комнаты, и мне нравится это окно. Я хочу любить это окно, я люблю его прозрачность и в то же время естественность; я могу смотреть сквозь него, но не могу пройти сквозь него, не разбив. Я могу это сделать, но мне надоело быть таким. Высшему существу нужна ограниченность и нужен такой же баланс между бытием и небытием, как у стекла, которое есть и которого нет; прелесть реальности рождается только от грусти своей ничтожности, своей неспособности умереть до конца, своего несоответствия и высшему, и низшему. Иногда я люблю пиво в лунную ночь, которая струится в шашлычном камине снежного цилиндра во тьме любви. Я готов целовать реальность в губы, накрашенные лиловой помадой; готов отдать ей свое время и увидеть блаженный конец в каждой секунде ее часа, готов потерять свою всеобъемлющую таинственность ради небольшой тайны, которая притаилась за дверью в девическую квартиру, готов умереть сейчас же, если это только будет истинным изменением, готов продолжать это все. Это как воспоминание о настоящем, как нечто несущественное, случайное, ставшее важным и определяющим другое; как новорожденная из разных бредовых имен и событий субстанция. Могу ли я принять кружку пива, отвергнув Бога? Возможно, лишь конкретика разрушит скуку ясной нравственной задачи, встающей перед ограниченным существом; если же я не ограничен, то мне нечем уничтожить мою личную задачу; главное во мне не будет подвергнуто смерти, воплощаясь в низшем виде; то, что будет, не изменит ничего в принципе. Я не могу бояться, отсекая от себя могущество, – страшит лишь восхождение, а не поражение в этих условиях; быть может, я приобрету небо в чашечке цветка взамен истинного неба – а все минимальное более совершенно, чем все остальное. Я чувствую личность, получающуюся из меня в то время, как я размышляю и говорю это для себя; пусть она будет оригинальной и узнаваемой с первого взгляда; пусть ее жесткие рамки станут надеждой на лучшее будущее и сладкое прошлое. Пусть произойдет какая-нибудь мистерия, возможно, моя смелость послужит мне оправданием для чего-то нового; может быть, удовольствия окупят мой риск. Я видел картинки бытия, слушал звуки разной частоты, трогал предметы и знал вкус нектара; но кто знает, может быть, собачье дерьмо имеет свою прелесть именно тогда, когда ты сам почти животное или оборотень? Мои раздумья несущественны, Яковлев ждет меня, и я истинно хочу. Прощай, все на свете, я готов искупить свою вершину, уйдя в народ. Я нахожусь пока здесь, обращенный в слова, и ничего не знаю, кроме всего. Что станет моим возвращением? Да здравствует мандустра.
Поздним утром Гриша Лоно шел по улице, насвистывая веселую песню. На голубом небе сияло солнце, не омраченное ни одним облаком. Остановившись у витрины колбасного магазина, Гриша закурил, далеко отбросив потухшую спичку.
– Эй, детка! – крикнул он, посмотрев на проходящую девушку. – Мне кажется, я хочу тебя.
Девица зарделась, словно ей сделали предложение, и перестала идти дальше. Она радостно оглядела соблазнительную крепкую фигуру Гриши и закрыла глаза.
– Принц, я счастлива отойти ко сну с тобой! – шепнула она нежно, словно ее губы касались уха любимого человека.
– Это прелестно! – отрывисто промолвил Гриша Лоно, начав прыгать на одной ноге, как дурачок.
– Ты, наверное, молод и чудесен, радость моя? – спросила девушка.
– Ну конечно, красавица. Я счастлив стоять сейчас рядом с тобой. Я люблю девиц.
– Но что же нам делать?
– За мной! – закричал Гриша Лоно, захватив девушку своей ласковой рукой, желающей доставить радость и любовь, и словно взлетая куда-то к вершинам чувств и страстей, чтобы замереть там, образовав тайное объятие на некоторое время, и произвести любовь из своих физических тел так же, как материя в венце эволюции производит на свет идею, отражающую весь мир. Счастье ждало влюбленных, и скамейки услужливо предлагали им самих себя; их ждали подъезды, крыши и томные поляны – везде был готов стол и дом; и солнце, не являясь настырным человеком, могло спокойно смотреть на веселые забавы милых существ, а те не боялись открыться этому взгляду, совсем как порнозвезды, выставляющие напоказ под сильный свет ламп части своих тел, потерявших вместе с невинностью и интимность, и сокровенный секрет.
Гриша Лоно взял руку девушки, и они шли вперед, желая друг друга.
– Моя маленькая! – говорил Гриша, глядя на девушку, и хотел ей счастья.
– Скажи мне, принц, – спрашивала она, – что означает наша жизнь?
– Ничего, – весело отвечал Гриша. – Мы как бабочки, которые существуют только для того, чтобы любить и умереть.
– Я существую, чтобы отдать себя! – патетично воскликнула девушка. – Я хочу отдаться! В этом мой единственный смысл.
– Кто знает, – мрачно сказал Лоно, сплюнув сквозь зубы. Они замолчали, ни о чем не думая.
Потом некий мальчик, поедающий мороженое, показал на них пальцем и изобразил наглое выражение на лице.
– Не люблю детей, – грустно произнесла девушка, жалостливо цыкнув.
– А если ты забеременеешь? – злобно спросил ее Лоно.
– Не знаю, я не люблю говорить об этом, – отрезала она.
– Давай покурим, – сказал Лоно, останавливаясь.
Он вынул грязную пачку сигарет и предложил девушке. Она взяла сигарету и вставила ее в рот. Гриша галантно поднес спичку, потом закурил сам.
– Знаешь, что я скажу тебе, милая моя? – спросил он, начиная беседу. – Я не понимаю связи между отношениями людей и наличием или неналичием факта свершения ими любовного акта друг с другом. Точнее, я понимаю всю важность и влияние этого акта на дальнейшую дружбу или ненависть, но мне странно иметь в виду при рассмотрении человеческих отношений некий момент единения половых органов данных людей, повлиявший на дальнейшее. Казалось бы, это животное, даже детское действие не должно быть таким уж важным для умных и цельных структур; а, однако, именно оно зачастую оказывается кардинальным событием в пересечении жизненных путей двух высокоразвитых индивидов и определяет порой все состояние их внутреннего мира на данный отрезок времени.
Лоно веско помолчал, глубоко затянувшись дымом от сигареты.
– В самом деле, – продолжил он мысль. – Кто бы мог подумать из устроителей этого мира, что такие замечательные понятия, как любовь, честь, верность, долг и прочее, будут впрямую зависеть от взаиморасположения каких-то, извиняюсь, «пипок»? Ведь это же восхитительно и интересно, дева моя! Это истинный грех, именно он так чудесен и приятен; ведь когда я думаю о том, как ты прекрасна, я готов мысленно сорвать с тебя трусы!
– А я готова натурально сорвать с тебя трусы, – серьезно сказала девушка.
– Так в чем же дело, – вскричал Гриша Лоно, подпрыгивая. – Может быть, это – любовь? Может быть, мы любим друг друга?!
– Я просто сохну по тебе, – сказала девушка.
Мгновенно они выбросили свои горящие сигареты куда-то вдаль, посмотрели друг на друга, словно еще не видели своих красивых лиц; руки их соединились, сжимаясь в бешеном пожатии, и наконец легкий и доверительный поцелуй завершил это любовное признание, доказывая близость к истине интересных речей Гриши Лоно.
– Я, наверное, погибну и закончу свое бытие, – сказал Гриша, отсоединив свои губы от девичьих. – Я не знаю, кто я такой и кто меня создал. Мне кажется, я в самом деле бабочка, которая нужна только для первой и последней любви, но сдается мне, что я несу в себе зародыш жизни вечной. Плевать, я не помню своего прошлого и не знаю будущего; я не вижу никаких целей, кроме тех, о которых я очень умно сказал, но я отдаю себя только для этого; да здравствует ночь, объятия и чувство конца; может быть, я – чье-то орудие, но умирая, я доставлю тебе радость и дам тебе смысл!
– Не говори так, – грустно прошептала девушка, своей рукой поглаживая член Гриши сквозь джинсы. – Ты будешь жить долго и умрешь в один день со мной!
– Может быть, – растерянно произнес Гриша, залезая девушке под юбку.
– Я уверена, что все будет хорошо, – сказала девушка, расстегивая ширинку Лоно.
– Возможно, – проговорил он, оттягивая резинку девушкиных трусов.
Они еще делали какие-то мелкие приятные действия, но потом Гриша резво отпрыгнул от девушки назад, посмотрел на нее и сказал:
– Послушай! Что мы тут делаем? Пойдем лучше трахаться ко мне.
– Ура! – крикнула девушка, оправляя юбку и беря Лоно под руку.
Какое-то время они шли по дороге, пребывая умами в своих вожделенных предвкушениях. Никто не говорил ничего; то, что должно было свершиться, все-таки имело, наверное, большой смысл, несмотря на разочаровывающую конкретную реальность происходящего; и поэтому в этот момент времени гармония была достигнута и различие всеобщего и случайного было преодолено, и все могло тут же закончиться прямо на этих словах; но тут Гриша Лоно издал звук, похожий на «ух», и история снова продлила свое движение.
Потом Гриша и девушка пришли в какую-то квартиру, закрыли за собой дверь в комнату, где была кровать, и встали друг перед другом, замерев от нерешительности.
– Неужели это все же возможно? – прошептал Гриша, расстегивая пуговицу на рубашке. – Я не верю в это.
– Это очень странно, – сказала девушка, раздеваясь.
Молча они разделись догола и осмотрели друг друга.
– Нет, это невозможно! – крикнул Лоно, отводя глаза. – Я не могу представить тебя в голом виде.
– Зачем же представлять! – возмутилась девушка. – Смотри на меня.
– Не могу, – сказал Гриша.
Он закрыл глаза и подошел к девушке. Он положил руки на ее талию и поцеловал ее.
– Ты – моя любимая! – сказал он. – Ты – Оля, ты Оля Яковлева, неужели это ты?! Неужели это ты сейчас со мной?!
– Меня зовут Антонина Коваленко, – сказала девушка, прижимая свою грудь к торсу Гриши Лоно.
– Не важно… – зачарованно прошептал Гриша и рухнул вместе с девушкой на постель. Они обнялись, возбуждая друг друга различными ласками. Гриша решил поторопить события и тут же начал совершать половой акт. «Это действительно происходит», – изумленно подумал он, посмотрев на отрешенное лицо Антонины, и тут же взял ее двумя пальцами за сосок. Но, видно, слишком большое ожидание подточило мужскую силу Гриши Лоно, и сразу после этой мысли великолепный, как лучшее ощущение, оргазм полностью прекратил дееспособность, поразив всю его душу и плоть, и словно сразил Лоно наповал.
– Ааааа!!! – дико закричал Гриша, отдавая продукты своей секреции внутрь жаждущей утробы.
– Это случилось, – восторженно сказала Коваленко, – ты перешел ко мне и будешь рожден. Вот твое «Я».
– Я погиб… – печально прошептал Гриша Лоно и тут же сгинул, словно его в самом деле никогда не было в этом мире.
Возможно, он перешел в собственную сперму, отдавая самость потомству; может быть, это было наказанием за все-таки свершенный грех, а скорее всего, это была жертва. Так или иначе, Гриша Лоно зачал Мишу Оно и пропал непонятно куда, выполнив свое предназначение. Зачавшее женское существо нагло улыбалось, лежа на постели в бесстыдной позе. Новообразованный зародыш где-то внутри оставался еще не понятен никому. Так была выполнена одна из насущных задач высшего порядка. Любовь с помощью похотливых тел начала новую жизнь. Что-то произошло.
«Лао умер, – сказал Иисус Кибальчиш. – От зависти к независимым существам умер Лао».
«Все кончено, – сказал Я и закрыл глаза. – Что-то началось».
«Я хочу изменений, – сказал А. К. – Мне скучно, я люблю момент».
Кто-то родился опять. Семен сел на стул.
Итак, после совершения ряда попыток получилось все же, что Яковлев забеременел. С интересом он рассматривал в зеркале свою располневшую фигуру, хранящую плод, и радовался переменам. Когда он лежал утром в постели, чувствуя шевеление новой жизни внутри себя, он часто задавался разными вопросами, типа «кто это, что это, зачем это?». Но зародыш безмолвствовал в отцовской утробе и был абсолютным, как новоявленное на свет творение, не требующее объяснений и анализа.
– Я счастлив! – говорил самому себе Яковлев, попивая кофе.
Он был тридцатипятилетним брюнетом с кривыми ногами, его глаза презрительно блестели, когда он злился, пиджак мешком висел на сутулых плечах. Часто он лежал на кровати, не зная, что бы такое предпринять, но человеку, готовящемуся стать отцом, было необходимо отдыхать и больше спать, и поэтому Яковлев яростно сжимал зубы, но переносил наступающую скуку с завидным мужеством. Он смотрел на яркое синее небо в окне и мечтал о развратных удовольствиях, которых был лишен. Однако великая миссия грела нынешнюю жизнь.
Когда он заходил в автобус, то пассажиры уступали ему место, но не потому, что видели истинную причину его большого живота, а потому, что думали, что Яковлев болен ожирением и ему трудно ехать стоя. Яковлев подсмеивался про себя над людьми, не верящими в противоестественное чудо, и садился на сиденье.
Когда он приходил на работу, коллеги встречали его бытовыми разговорами и протягивали ему сигарету.
– Нет! Я бросил! – отрывисто говорил Яковлев, проходя дальше к рабочему месту.
– Почему у него такой живот?! – спрашивал начальник остальных подчиненных, но они не знали ответа.
Яковлев работал не спеша, не напрягаясь особо, чтобы не повлиять плохо на дитя, которое уже проявлялось внутри тела. Вероятно, ребенок был в настоящее время рыбой, и он часто тыкался острым рыльцем в обратную сторону живота Яковлева. В эти секунды Яковлев буквально расцветал, хлопал себя по ляжкам и выглядел очень довольным; коллеги смотрели на него, недоумевая, и думали о нехорошем.
После работы Яковлев долго мыл руки и пел какую-то невнятную песню, похожую на плохо спетый религиозный гимн. Торжество сияло во всех его действиях, какое-то истинное знание причин и следствий исходило от его улыбающейся головы, как нимб; руки его выглядели как руки мастера, создавшего что-то новое; и все его существо источало трепет и восторг и словно приглашало остальных встать на колени и молиться чему-то великому.
Дома Яковлев сразу же ложился в кровать и лежал, выжидая блаженный миг шевеления ребенка. Он ощущал его прямо под сердцем и сочетал удары сердца с жизнедеятельностью будущего сына.
– Я хочу только сына! – говаривал он часто вслух. – Только мой возлюбленный сын может спасти мир, погрязший в неверии, и заставить его серьезно отнестись к высшему смыслу.
Таинственный младенец в утробе брыкался новообразовывающимися конечностями и будто соглашался с будущей миссией, какой бы трудной она ни была. Яковлев съедал два яблока и засыпал до следующего утра, улыбаясь нежно и всепрощающе, как Богоматерь.
По воскресеньям он гулял в саду, наблюдая птиц и белок. Цветы наполняли окружающее приятным летним ароматом. Яковлев выгуливал свое беременное тело с настойчивостью курортника, желающего оздоровиться. Он с такой жадностью вдыхал почти свежий воздух, словно это был наркотик, одна капля которого стоит больших денег, и поэтому нужно стараться выжать максимум удовольствий из каждой мельчайшей частички, отведенной индивиду.
– Гуляете? – уважительно спрашивали его старые женщины, выходившие в сад посидеть на скамейке в раздумьях о социально-бытовых вопросах.
– Угу, – кивал им Яковлев, занятый своими размышлениями, и продолжал идти своей дорогой. Он был сейчас самодостаточен; он был поглощен будущей целью, как политик, ведущий общество куда-то вдаль; ничто в мире не затрагивало его дух, и ничто не вызывало в нем ни любви, ни ненависти. Довольный и таинственный, он смиренно ждал своего часа.
Однажды начальник вызвал его в кабинет, и Яковлев пришел туда, гордо неся свой живот, поддерживаемый корсетом.
– Артем Кондратьевич? – спросил начальник, вперив взгляд в яковлевский живот.
– Да, я!
– У меня есть для вас сногсшибательное сообщение, – сказал начальник каким-то презрительным тоном. – Но, по-моему, это просто бред собачий.
– Я вас слушаю, – сказал Яковлев.
– Дело в том, что мне только что позвонили из Нью-Йорка, – начал начальник свое сообщение. – Так вот, вам присудили премию в один миллион долларов.
– Это чудесно! – воскликнул Яковлев. – А за что?
– По беременности.
– Прекрасно!
– Но это же чушь! – вдруг закричал начальник, ударив кулаком по своей ноге.
– Отнюдь нет, дорогой Иван Петрович, – радостно проговорил Яковлев. – Вы видите мой живот? Я беременен, в самом деле жду ребенка.
– Что ты мне дуру гонишь? – сокрушенно спросил Яковлева начальник. – Мужчина не может быть беременным. Как тебе это удалось?
– Вы что же, не знаете, как получаются дети? – злобно сказал Яковлев. – И вообще, я хотел бы не распространяться на эту тему.
– Ты страну опозорил, козел! – опять закричал начальник. – И вообще, ты все врешь. Ну-ка, показывай, что там у тебя!
Начальник сделал незаметный жест. Тут же откуда-то выскочили два сильных человека и схватили Яковлева под руки. Начальник встал из-за стола и подошел к перепуганному Яковлеву. Он расстегнул ему штаны, увидел корсет.
– Ах ты, сучка! – сказал начальник, бритвой разрезая корсет.
– Что вы делаете! – залепетал Яковлев. – Это безобразие. Это насилие! Вы негодяй!
– Заткнись, – сказал начальник, отодвигая порезанный корсет, чтобы увидеть истину. Но разоблачения не получилось, потому что все, что находилось под одеждой и корсетом, было упругим и толстым человеческим животом, и вполне возможно, что там скрывалось некое маленькое живое существо, так как этот живот пульсировал, словно обнаженное сердце.
– Что это? – изумленно спросил начальник.
– Это живот мой… – прошептал Яковлев.
– А внутри что?
– Сынок… Я верю, что это сын, и он спасет мир, дав ему истинное понимание…
– Сейчас мы посмотрим, – сказал начальник, доставая из кармана большой нож.
– Аааа! – завопил Яковлев при виде ножа, пытаясь вырваться из рук сильных людей, держащих его.
– Молчи, гад! – кровожадно проговорил начальник, нацеливая нож куда-то в пупок. – Сейчас мы откроем твою тайну…
– Стойте! – завопил Яковлев, дергаясь, как рыба в руках. – Это великий сын. Он нужен вам всем, это – спаситель, он даст вам истинную вершину; вы существуете сами для себя; ваше бессмертие есть дурная бесконечность, вам все равно; он должен появиться на свет; я вынашивал его так долго, стойте же!..
– Ах ты, гнида! – разъяренно проговорил начальник. – Ты хочешь отнять у нас нашу вечную жизнь! Ну и что, что я буду в будущем рождении старой бабушкой, я люблю всю реальность, а не твое высшее ничто! Сейчас мы извлечем плод, и пусть нас судит наш земной суд, а ничего высшего нам не надо! Ты хочешь просто убить меня, негодяй!
– Милый мой, это не смысл! – крикнул Яковлев, но начальник не обратил внимания. Начальник любил кровь и конкретную действительность. Он размахнулся, чтобы вонзить нож, но тут же упал, сраженный пулей в самое сердце.
Его помощники изумленно стали смотреть по сторонам. В это время откуда-то появились десять очень серьезных людей с пистолетами в руках.
– Простите нас за убийство, – сказал один из них с американским акцентом, – но это политическое убийство, поэтому ничего страшного. Этот человек угрожал вам, а мы должны привезти вас для получения вами премии по беременности. У нас не было другого выбора. Да ждет его высшая участь!
Яковлев был немедленно отпущен из сильных рук и препровожден в комфортабельный автомобиль, который тут же отправился в аэропорт. Там уже был собран большой митинг в его честь. Лучшие люди страны, рабочие и интеллигенты, провожали первого в истории забеременевшего мужчину за границу, где уже давно была учреждена мудрая премия. Какой-то большой начальник громко захлопал при виде Яковлева, на которого еще в машине надели новый корсет и брюки.
– Мы горды тем, что отправляем за деньгами именно тебя! – сказал большой начальник в заключение длинного доклада о сущности происходящих событий.
Яковлев кивнул и помахал ручкой. Собравшиеся люди громко приветствовали его криками и лозунгами. Некоторые скептики кричали: «Покажи голый живот!», но их тут же арестовывали. Наконец митинг закончился, и Яковлева проводили в самолет, который быстро взлетел.
В самолете стюардессы окружили Яковлева вниманием и делились с ним советами об уходе за ребенком.
– Мне это не обязательно! – говорил Яковлев. – Вся страна будет заботиться о моем сыне.
Около двери в туалет к нему однажды подошла молоденькая стюардесса и шепотом спросила его:
– А кто мать ребенка?
– Вас это не касается, – сказал Яковлев, покраснев.
– Я тоже хочу, чтобы мой любовник забеременел, – сказала тогда она, заплакав. – Мне надоело это делать одной!
– Все впереди, – назидательно ответил ей Яковлев и пошел в туалет.
Когда самолет прилетел, вся Америка встречала Яковлева, раскрыв ему объятия. Его тут же посадили в машину марки «Форд» и повезли в какую-то торжественную обстановку, чтобы вручить миллион долларов. Там, на глазах всей толпы, Яковлев вошел в рентгеновский аппарат, и ему просветили живот. Изображение настоящего младенца появилось на экране, и американский народ, увидев истинность происходящего, взвился овацией и чуть было не смял кордоны полиции, окружающие уникальную мужскую особь. Кое-кто обратил внимание, что у мальчика (а это действительно был мальчик) над головой сиял некоторый нимб.
– Вы, случайно, не Бог? – спросил репортер Джон Смит довольного Яковлева.
– Конечно, я – бог! – серьезно отвечал Яковлев, поглаживая живот.
– Ура! Ты посетил нас снова! – сострил Джон Смит и стал с этого момента популярным телекомментатором.
– Какова цель вашей беременности? – спросила Джуди Браун.
– Я хочу родить Великого Сына, который даст вашему миру высший смысл! – немедленно отвечал Яковлев, расправляя плечи, чтобы соответствовать своим словам.
– Разве в жизни нет смысла? – ехидно вставил свое слово Арнольд Шнобелынтейн.
– В этом мире вы всего лишь перерождаетесь, поэтому все, что с вами происходит, не имеет истинной ценности! – гордо сказал Яковлев. – Мой же сын спасет этот мир от идиотизма и бессмысленности.
– А у вас есть смысл? – крикнул Эдвард Полонски.
– Нет, конечно, раз я рожаю… – ухмыльнулся Яковлев.
Публика одобрительно загудела, довольная последним ответом. Особенно были довольны активистки женских организаций. Одна из них вышла вперед, чтобы что-то сказать, но тут большой и сильный телохранитель громко объявил:
– Пресс-конференция окончена! Очистите то место, где вы сейчас находитесь.
Полицейские стали отталкивать народ прочь. Яковлев стоял и смотрел куда-то вдаль – наверное, позируя фотокорреспондентам. Его опять куда-то увели, и там его встретили президент с супругой.
– Я счастлив видеть вас здесь! – сказал президент, беря Яковлева под руку. – Получите свою премию.
Некий специальный человек тут же подскочил к Яковлеву и вручил ему один миллион долларов.
– Ура! – крикнул Яковлев, пытаясь подпрыгнуть. – Теперь я богат!
– Не так чтобы очень, но все же… – сказал специальный человек. – Поздравляю, парень!
– Примите мои поздравления тоже, – присоединился сияющий президент.
Яковлев сказал в ответ длинную витиеватую речь, которая далеко выходила за рамки проблем мужской беременности.
– А что теперь? – спросил он у сопровождающих его десятерых телохранителей.
– Мы не знаем, – отвечали они. – Поезжайте куда-нибудь, отдохните. Ведь впереди роды!
– Это точно, – сказал Яковлев и громко рассмеялся.
Он взял свои деньги, купил всяких хороших вещей и уехал на необитаемый остров. Там, в тиши и глуши, он сидел на берегу океана, поглаживал свой живот и ел банан.
– Я вам еще покажу! – говорил он, обращаясь в пустоту. – Вы еще не понимаете, что все это значит. Я вам рожу такое существо, после которого будет… Жалко, конечно. Но ведь скучно жить без злых действий и мистерий. Я так люблю видеть гибель и знать смысл!
После этой речи Яковлев доел банан и выкинул кожуру вдаль. Наступил вечер, звезда светила над островом, предвещая новую эру. Ничто не нарушало ожидание великих родов. Яковлев был готов к борьбе. Лао, обращенный в зародыш, существовал где-то там. Н. Николайчик ничего не ведал про это.
После всего солнечное утро началось радостно, словно начало новой эры. Иаковлев блаженствовал на сносях, опустив ноги в прохладный ручей, и пребывал в грезах, похожих на опиумные. Его беременность достигла предельного срока и была готова удачно завершиться, превратившись в собственную цель. Ласковое одиночество было как нельзя кстати; остров вокруг цвел пальмами и бананами и белел гордыми длинными колоннами, стоящими то там, то здесь. Иаковлев с тщательной осторожностью гулял по берегу океана, опасаясь упасть, поскольку в этом случае мог родить раньше времени. Иногда он ел какой-нибудь вкусный плод и хмурил брови. Он был здесь один и был как царь и бог.
Завернувшись в некий хитон, Иаковлев делал на столбе зарубку, свидетельствующую о том, что начался еще один день. После этого он шел в хижину и переставлял там настенный календарь, который у него тоже был. Потом он говорил себе:
– Доброе утро, – и сразу же шел на охоту.
На охоте он долго выслеживал зверя, используя бинокль, потом расстреливал его из автомата, а после этого, крича разные заумные звуки, подбегал к поверженному зверю и кидал в нею камни и копья.
– У-лю-лю! – радовался Иаковлев, наступая на кровавую тушу своей кривой ногой.
Потом наступали минуты блаженства, во время которых Иаковлев ел зверя. Кровь капала с его подбородка прямо в желтый островной песок (Иаковлев обожал сырое мясо), и ребенок внутри утробы одобрительно шевелился, словно желая уже выйти наружу к тоже присоединиться к поеданию этой пищи. Но Иаковлев думал о чем-то другом. Однажды он съел большую ящерицу и отбросил ее скелет далеко прочь от себя. Тут же он ощутил умиротворенную усталость, лег прямо на песок, закрыл глаза и сладко заснул.
(Сон Иаковлева)
«Эй, Ты, Сын Мой, – Я говорю тебе; слушай и внимай Слову, чтобы сделать так, как надлежит, и Верить».
Эти звуки – там, где лиловый конец Одного и лиловое начало Другого. В грустной, пустой и бесконечной пещере был водопад, какие-то цвета, почти никого, кроме кого-то, кто говорил; и собственно Ты, в этом случае 1 сын; и отец, наверное, тоже. Сядь на стул, вытяни ноги, расслабь мозг, слушай меня.
– Кто это?! Я есмь один и только, все, что было моим Богом, есть мой Друг; Все, что было моим Другом, есть мой Сын. Никого больше не может быть там и здесь.
Разгневанный Иаковлев пытается застрелить собственную персону.
«Не ставь себе предел там, где есть дальнейший путь; если двигаясь вверх ты нашел свой низ (ха-ха-ха!), если стремясь направо ты достигаешь левой своей стороны, то иди вбок, или скажи, хрясь“».
– Хрясь! Мать твою!
«Моя мать – твоя тайна, сын ты мой, Яков. Смерть ее – тайна, слушай меня, Сын, и твоего Сына ждут великие дела. Я же с тобой, мой храбрый Яки».
– Кто ты, еще более верхний, нежели Я?
«Кто-то зовет меня Кибальчиш, другие говорят, что я – Женщина. Не слушай их, ты узнаешь меня сам. Я ничего не хочу, открой глаза и смотри сюда; твой Сын действительно нужен, это будет ясно. Он убьет их всех и спасет».
– Мой сын – мой друг, я сам знаю все, что я знаю.
– Это клево!
Ошарашенный Иаковлев через сорок лет после Победы находит своего Отца.
«Тебе повезло, ты будешь видеть. Завтра ты произведешь на свет великую личность, она не представляет из себя ничего. У Сына нет привязанностей – он убьет, не задумываясь. Так хочешь Ты, чтобы есть мясо. Ты мне противен и страшен, сынок».
– Я сделаю, как ты велишь, – сказал Иаковлев, встав на одно колено перед Этим. – Я буду любить тебя!
В этой пещере можно видеть что-то другое. Здесь, на глубине, все имеет иной смысл и цвет. И Ты пытаешься видеть, Ты смотришь туда, пытаешься открыть глаза, хочешь знать, в чем дело, пробуешь разговаривать или зажечь огонь. И что означает этот лиловый цвет наверху.
«Завтра ты родишь нечто. Ты, может быть, умрешь; прощай, Иаковлев. Но твое дело будет иметь свой конец. Помнишь ли ты начало?»
– Кольцо? Два кольца, два конца, посредине…
«Прощай, Сын. Уничтожь весь этот отпавший от Нас мир. Они не хотят Высшего, они хотят бесконечного. Ты станешь таким же, но Ты есть Я».
– До свидания, я готов стать Отцом.
Все было именно так, и никто не может отрицать Истину. Истина может быть только такой, все остальное есть Ложь. Тот, кто идет ложным путем, не следует святым заповедям, – тот поклоняется всякой шушере. Других путей нет.
И он проснулся ночью в значительном настроении, чувствуя себя готовым к еще более великим вещам, чем его собственные дела. Он был Яковлевым, и все только начиналось – не было причин для грусти и любви. Огромный живот пробуждал в остальном теле нежность, словно любовница. Ребенок бушевал там внутри, желая покинуть этот рай, совершив путь, обратный пути, который производят те, которые делают нечто, называемое грехом или грешком.
– Я счастлив, – объявлял Яковлев всему остальному.
Он уже одиннадцать месяцев носил свое бремя, ибо высшие существа могут носить это так долго, поскольку все, что не принадлежит общему, устанавливает свои собственные законы и следует им, нарушая в то же время другие, управляющие Вселенной и большинством.
Но как же произвести роды, если половая принадлежность мешает появлению чего-то нового, и врачей тоже нет рядом, а они могли бы взрезать любой индивид для получения из него интересных научных данных и высшей жизни? Америка оставила Яковлева, откупившись ненужным сейчас миллионом, – она была самодостаточна и была, в общем, любой на выбор; и запотелые кока-колы классик, как и прочие sodas, всегда исправно вылетали из автоматов в руки довольных многонациональных людей, но там не нашлось места для Бога и для его сына.
Яковлев мучился, шагая по поверхности острова, и у него болел живот.
– Это сын мой болит, вы слышите, существа! – кричал Яковлев, страдая невозможностью родить. – Я сейчас лопну и, может быть, воскресну, но мой отпрыск, мое любимое продолжение покарает вас всех, ибо я был здесь, умирая от тоски, а вы не подали мне руки, не вкололи наркоз или морфий, чтобы не было так мучительно больно, не заняли меня затейливой беседой о целях существования, не укрыли меня одеялом и не спели мне песню. Я проклинаю вас, гады!!!
Яковлев потом засмеялся, потому что, в принципе, ему было наплевать на то, что он сказал, но это было интересно. Наконец ему надоело ходить, наблюдая пальмы и джунгли, и он лег на песок около океана и решил отдаться своей судьбе.
– Я выпью свою чашу до дна, – сказал Яковлев, скрестив руки на животе.
Он расслабился, начал считать до десяти, но потом перестал; начал думать о своем одиночестве, но стало скучно. Ребенок внутри замер на миг, заразившись спокойствием среды обитания, но затем как будто проснулся впервые и своей свежеобразованной головой так сильно уперся в верхнюю часть неизвестного органа Яковлева, служащего аналогом матки, словно его час уже пробил и время пришло, но он не хочет обычных путей и греховных падений вниз – в этот мир, но желает вознестись куда-то в высшие сферы божественного отца и продемонстрировать некое непорочное рождение, начав свою многообещающую жизнь славно и смело.
«Что это?» – подумал бедный Яковлев, раздираемый восстающей в нем силой. Он сел, подняв руки вверх, и ждал дальнейших событий. Стало везде темно, загремел гром, начали бурлить какие-то воды, стекающие с гор, пошел сильный дождь с градом, и молнии гордо озаряли вздымаемую ширь океана.
«Что это?» – подумал жалкий одинокий Яковлев, дрожа от холода и ужаса перед гневом окружающей его стихии. Он встал, опустив руки вниз, и даже закрыл глаза, не желая принимать участие во всем, что происходило сейчас. Но ребенок очень сильно активизировался и, извиваясь, как уж, полз все выше и выше, словно самолет или Икар, желающий достичь черной дыры. Организм Яковлева вибрировал, будто токарный станок, ужасная боль готова была уже отключить божественное сознание, оставив реальность без присмотра, но тут случилось что-то очень важное, и Яковлев преобразился.
Вдруг он встал на этом острове, огромный, как гора: он был бородат, статен и полугол и мог убить любого, кого хотел. От головы его шло красное сияние, как от фонаря, висящего над дверью публичного дома, руки его были волосаты и могучи, а ребенок внутри его мускулистого тела клокотал, словно лава, и рвался наружу, как пробка в бутылке шампанского. Когда Яковлев издал клич, все остальное прекратилось; воссияло солнце, приятная погода и тепло, стало все тихо и замечательно, и только ребенок все еще рвался куда-то.
– Чего же ты хочешь, парень?! – крикнул Яковлев, обращаясь внутрь себя.
Молчание было лучшим ответом.
– Еще раз спрашиваю тебя: ответь, чего же ты хочешь?
И опять ничего, и потом вдруг какой-то ужасающий рывок, импульс, резкое устремление в самый что ни на есть верх, невероятные перемещения в теле, дрожь, взрыв всех существующих чувств – и ребенок вылез через ухо.
Он вылез и шмякнулся на песок, мокрый, голый и умный, и сделал свой вдох, и песчинки облепили его тельце, словно это была рыба, выброшенная штормом на берег.
– Здравствуй, сын! – сказал ошарашенный Яковлев, истекая мозговой кровью.
– Здравствуй, отец, – ответил ребенок, отряхивая песок, – меня зовут Миша Оно.
Яковлев умер.
Сергей Шульман родился. Миша Оно рос очень быстро и с детства проявил себя в самом лучшем виде. Еще будучи в совсем маленьком возрасте, он встретился однажды со страшным драконом, пришедшим растерзать его, ибо остальной мир был наслышан о появлении нового героя. Этот дракон появился внезапно в полночь, когда Миша спал в колыбели и видел сны о будущем. Но чуткость не подвела его, и он тут же вскочил, схватил свой меч и бросился в бой.
Схватка была очень жаркой, но через некоторое время с драконом было покончено. Довольный Миша лег спать, а наутро весь трансцендентальный мир узнал об этом восхитительном подвиге. Ибо дракон был непрост и символизировал все, что угодно.
Наутро Миша проснулся, умылся, почистил зубы и посмотрел вокруг себя. Прекрасное мироздание цвело повсюду, приглашая его к себе. Но он помнил свою задачу, он смутно знал о ней и был готов служить своим создателям.
Некий старец воспитывал его в благочестии и добродетели. Лицо его было скорее вытянутым, нежели круглым; аккуратно подстриженные усы окаймляли верхнюю губу, малорослые баки по обеим сторонам щек были с сединцой. Губы старца были чувственными.
– Мир, Мишенька, существует любой на выбор, и твое право – выбрать самый лучший, – говорил старец по вечерам, наставляя героя для грядущего. – Поэтому ты должен не совершать того, что тебе не нужно; всегда следовать своей цели и стараться охватить все, а не только какие-то прелести. Запомни меня: прелесть есть во всем; ибо ничего нет, есть только твои бредни. Плюнь на мир, и он повернется к тебе лучшей стороной. Но твоя личная цель иная; ты должен спасать. Ты спасешь всех от вечности, которая дурна и неинтересна, ты внесешь в этот рай свой меч и найдешь способ убить их. Убить – значит возродить в новом качестве, милый мой. Ты должен научить их высшему, изменить их уровень, они настолько самоупоены сейчас своим знанием тайны мира, что ты должен их запутать. Будь другим, будь не таким, как они; а они – любые. Это трудно, это невозможно, но ты велик! Будь всем, и они офигеют от тебя. Убивай их по-настоящему, чтобы Отец Твой вобрал это в себя, это все нужно, это хорошо. Я верю в тебя и твою звезду!
Миша слушал его внимательно, стоя на коленях. Его лицо излучало решимость и доброту. Он клялся себе, что выполнит то, что назначено ему, и сделает все для этого. Нимб трепетал над его головой, словно радуясь светлому будущему этой личности. И вся природа восторженно цвела, наслаждаясь новыми «целями», заключенными в милом мальчике, который послушно проводил свои детские годы.
После наставлений Миша занимался физкультурой, чтобы его тело было достойно напряженной духовной работы, производимой нематериальной частью. Он прыгал, бегал, лазал по деревьям и забирался высоко в горы, чтобы встречать там рассвет. Иногда злые звери нападали на него, но он выходил победителем из этих битв. Однажды он шел по темному лесу, опираясь на заостренную палку, и вдруг услышал мягкий шепот из тьмы. Это был нежный голос, и он говорил:
– Миша, иди сюда, Миша… Оставь свою миссию, она далека, а я близко. Будь со мной, милый мой. Будь, как все, не делай сверхъестественных вещей. Мир прекрасен, не уничтожай нас.
– Кто это?! – гордо крикнул Миша Оно, вскинув свою палку.
– Это я, я почти есть на самом деле, иди сюда, трогай меня.
Из чащи вышла сияющая девушка в наряде из листьев и изумрудов.
– Никогда этому не бывать! – сказал Миша и проткнул девичью грудь.
Девушка упала на землю, умирая. Возможно, она воскресла и стала кем-нибудь еще. А Миша пошел вперед, напевая гимн победы. Он знал, что одна прекрасная девушка не может стоить всего мира в целом, и поэтому сделал свой выбор сразу.
Старец сидел в своей пещере, когда Миша подошел и сел рядом.
– Здравствуй, сын! – сказал старец. – Скоро ты станешь взрослым и выйдешь в люди. Ты все знаешь о себе, ведь ты есть… Впрочем, это сложно. Я тоже есть, но это тоже сложно. В принципе, можно было создать тебя сразу и не мучиться, ведь это так просто. Раз-два, и ты создан, как и все остальное. Вместо этого мы развели сложную историю с разными персонажами, которыми вполне можно пренебречь. Считай, что все, что было до этого, – чистый бред, понятно?
– Понятно, – сказал Миша Оно. – Что ты говоришь? Я не понял.
– Неважно, с другой стороны, пусть будет так, раз стало так, так интереснее. Главное, что ты должен сделать, это попробовать вернуться.
– Откуда? – спросил Миша Оно.
– Ты же Сын, Миша!.. Вернись в отеческое лоно.
– Хорошо!
Старец встал и посмотрел в небо.
– Ладно, – сказал он. – Мне все это надоело. Мне скучно. Давай, иди туда.
– Куда? – спросил Миша.
– Куда хочешь. Я лично самоубиваюсь.
Старец бросился на меч и сдох, вернувшись в эмпиреи. Миша Оно смотрел на его труп и не плакал. Ему исполнилось три года.
Но после долгого времени и разных приключений Миша Оно вышел на поляну и осмотрел ее. Его друг, напарник и соратник Александр Иванович стоял около большого дерева и размышлял о главных вещах. Он был стройным, хорошо сложенным брюнетом с глупым лицом и большими отрешенными глазами. Запястья его были тонкими, а рост скорее высоким, чем средним.
– Ну, что дальше? – спросил он Мишу раздраженно.
– Я не знаю, – ответил Миша, посмотрев в небо.
– Мы идем и идем, и ничего не происходит, и нету твоего мира, и нет новых тайн. Я устал от жизни, от привалов и зверей. Я хочу любви и ясной задачи. Когда мы придем?
– Я ничего не знаю, – сказал Оно, рассматривая свои усталые ноги. – Мы должны идти вперед, иначе мы останемся на одном месте и ничего дальше не случится. Географические передвижения должны повлиять на эффект попадания в нужную точку реальности; количество должно перейти в качество – иначе смысла нет. Сколько мы идем?
– Лет десять, но, может быть, больше или меньше.
– Давай придем туда, где холодно.
Они переместились в темные адские пространства тундры. Все было прекрасно: олени, надев на шеи колокольчики, шли куда-то вдаль, теряясь из виду, и ледяной океан простирался повсюду, угрожающе застыв до лучших времен и не предвещая ничего хорошего. Отдельные смелые путники героически замерзали в этих местах, чувствуя истинную, восхитительную заброшенность и тоску;
и действительно, было что-то упоительно-жуткое и заранее обреченное на болезненную и мрачную смерть в упорном путешествии сквозь эти льды, и сугробы, и пургу куда-то на еще более истинный Север, который, наверное, не отличался ничем кардинально новым от всего того, что было под рукой и рядом, но существовал просто как некая ординарная цель; а цель, в общем, может быть совершенно любой, ибо ценность ее только в том, что она есть и зовет к себе, как тоскующая нежная женщина. И поэтому можно было посвятить свою жизнь тундре и выпить за полюс свой бокал с вином или с водкой, и можно было умереть именно здесь, и родиться в чуме, не зная многих вещей, принадлежащих иным реальностям и странам.
Миша Оно, кутаясь в меха, стоял на какой-то горе и видел замерзший океан перед собой. Александр Иванович пытался развести костер, чтобы поджарить немного окровавленной рыбы, лежащей на снегу.
– О, если бы у нас был кит! – сказал он, взмахнув рукой.
– Молись об этом, Саша, – сказал Миша, хлопая себя по ляжкам.
Он спустился с горы, подойдя к Александру Ивановичу.
– Тебе понятно назначение этой части мира? – спросил он. Александр Иванович ухмыльнулся и зажег охотничью спичку, которая могла очень долго гореть. Красными пальцами он сунул ее в щепки, собранные для костра, и оставил там, надеясь на большое пламя. Но резкий ветер дунул, словно злой северный дух, и ничего не получилось, и спичка погасла, и опять вокруг была только жестокая природа без вмешательства в нее человеческого огня.
– Я знаю все, – сказал Александр Иванович. – Это я придумал Север для нас, я всегда его любил, я хотел упасть на дно северной реки, уткнуться в край океана, вмерзнуть в простор этих мрачных мест, крикнуть некое жуткое слово, обращаясь к солнцу или к Богу, стать пушистым злым зверем, идущим вдаль, съесть кита…
– Это правильно, – согласился Оно. – Еще я хочу стать дочерью вождя, или куском строганины, мерцающей под острым ножом хозяйки, накрывающей на стол… Тут вообще все сияет, и я готов сесть на вельбот или пойти пешком умирать на полюс.
– Пойдем, – сказал Александр Иванович.
– Разведи костер и сделай рыбы, милый, а потом будет пурга, и нам предстоит конец, и никого нет рядом, и, может быть, ты – мой воображаемый друг, а я – жалкий путешественник, умирающий во льдах? – Миша Оно засмеялся и хлопнул себя по ляжкам: – Черт возьми, во всей этой и последующей истории это, наверное, единственная вещь, способная быть истиной. Скорее всего, она и есть истина, запомни момент, дружище.
– Конечно, ты прав! – закричал Александр Иванович, зажигая еще одну спичку.
Костер опять не вспыхнул, и рыба оставалась сырой, но счастье обуяло двух смелых путешественников, и рассвет превращался в закат, а тьма заполняла собой все – они стояли на берегу и растроганно молчали, ожидая гибельной ночи и невозможности тепла. Ветер пел в горах и снегах, ничего другого живого не существовало, и где-нибудь подо льдом, внутри океана, спали и плавали рыбы и креветки, и они тоже были счастливы и спокойны, и им снилась их суть.
Ветер дул сильнее и сильнее; это место было непригодно для жизни, а годилось только для смерти; ветер дул, и казалось, что сейчас этот ветер как будто сломает некую стену, прорвет перегородку, откроет дверь, и начнется что-то новое: все будет таким же, но с другой стороны. Так в кукольном театре можно сдернуть занавес и увидеть истинных хозяев драмы, способных совершать в этом микромире все, что угодно, просто-напросто дергая кукол за веревочки на радость остальным.
– Это должно получиться, – просипел Миша Оно, садясь на ледяной снег и закрывая лицо руками в мехах.
– Я верю, – медленно ответил Александр Иванович, не мигая смотря в черный океан.
Они ждали, тьма побеждала свет. Снег, образовав огромные белые тучи, остервенело летел вместе с ветром непонятно куда.
Было невыносимо стоять здесь и не видеть больше ничего, кроме предстоящей гибели. Это было счастье. Миша Оно наклонился и поцеловал заснеженную землю, отморозив себе губы.
– Ничего не выйдет, – сказал он. – Здесь слишком хорошо, отсюда нет выхода. Нам нужна реальность, которую и покинуть не жаль. А эта слишком аппетитна. Ты только посмотри, какое тут злое раздолье, прямо съесть хочется эту пургу, китов и сияния. Давай уйдем в более приторное, теплое место.
– Да, тундра хороша, сучка, – согласился Александр Иванович, переставая чувствовать свои конечности. – Здесь есть тайна, поэтому здесь больше не нужно совершать никаких иных действий. Я люблю эту реальность, она полноценна, как и всякая другая.
– Конечно, истинное наслаждение – замерзнуть здесь, отдав свое тело вечности, словно мамонт, застигнутый дикими холодами в самый разгар жизни, но у нас другая задача, и мы покидаем тебя, любовь моя!
Ветер печально дунул в лицо с такой силой, что у Миши Оно чуть не вылетели из орбит глазные яблоки, но организм выдержал этот удар. Александр Иванович стоял перед океаном, словно готовый вознестись в мрачные небеса. Наступал миг расставания. Друзья взялись за руки, горестно посмотрели друг на друга и улетели прочь отсюда, в южные светлые края, словно перелетные гуси, оставляющие родину на сезон, когда в ней холодно и плохо.
И вот они стояли среди зелени, солнца и черной почвы. Александр Иванович расправил свои загорелые плечи и глубоко вдохнул горячий свежий воздух. Солнце над его головой было ужасающе жарким, словно хотело сжечь то, что осмеливается существовать прямо под ним. Миша Оно приподнял подол своей набедренной повязки и сделал какое-то танцевальное па.
– Тоже прелесть! – сказал он, глядя на джунгли. – Давай теперь разводить костер здесь, демонстрируя то, что нам наплевать на окружающий нас мир, что главное – это мы, наша суть и наша идея.
– Кому мы будем показывать это? – спросил Александр Иванович.
– Богам, мой брат, – ответил Миша Оно загадочно. – Мы должны показать, насколько мы внутренне сильны; ничто не может изменить нас. Если мы хотим огня – будет огонь!
– Хорошо, – сказал Александр Иванович и пошел за хворостом.
В глубине джунглей раздавались страшные вопли диких зверей, терзающих слабые созданья. Мир был таким, каким его можно было представить. Вышел Александр Иванович, положил палки на почву и зажег.
– Да здравствует костер нашей дружбы! – сказал Миша Оно, прыгая через огонь.
Александр Иванович ел банан и умилялся радости Миши Оно, наслаждающегося теплым воздухом, светом и горящим огнем.
– Здесь не хуже, чем там, – сказал Миша абсолютно серьезно. – Можно сказать, что эта часть мира равна той, а можно сказать, что это одно и то же. Можно сказать, что они одинаковы и различаются только частностями, которыми можно пренебречь. Но я люблю их с равной силой; я не отдам предпочтение той или другой. В каждой из них есть что-то свое; есть некая личная, ни на что не похожая прелесть; есть какое-то уникальное своеобразие, окрашивающее данную реальность в ее исключительный и неповторимый тон. Я люблю эти отличия, я вообще люблю непохожесть, и поэтому я счастлив сейчас находиться здесь с тобой.
– Я согласен, – сказал Александр Иванович. – Я хотел бы сказать то же самое, но ты уже сказал это.
– Это хорошо, – прошептал Миша и тоже начал есть банан.
Где-то в джунглях слышались аппетитные чавкающие звуки трапезы хищника, поймавшего антилопу. В противоположной стороне ревел другой хищник, и этот рев гипнотизировал, и хотелось лечь в яму, словно для смерти или для укрытия от бомб, и не думать ни о чем, и ничего не хотеть – только дрожать, радуясь экзистенциальной наполненности момента и близости страха и гибели, а также восторженно ощущая свою истинную звериность в качестве сущности и свое желание быть царем зверей. Жара превращалась в духовное понятие; мозги под воздействием температуры производили ленивое и тупое, но в то же время очень чуткое и жестокое состояние; и было интересно жить среди живности и растений, будучи голым и открытым для солнца и вражеских стрел, и считать себя кем-то иным, имеющим другую задачу и происхождение и не принадлежащим к природе, к народу или к духам этих мест.
Тут неожиданно из джунглей выбежали воины диких племен, и внимание Миши Оно было немедленно привлечено внезапно возникшей угрозой его жизни. Александр Иванович сразу упал головой в песок, не в силах смотреть на острый кончик стрелы, направленный на него, и начал копать яму, словно это имело смысл.
– Кто вы? – спросил Миша на своем языке.
Туземцы ответили четырьмя длинными словами и подошли ближе. Они были очень красивы; их кожа сияла, словно деревянная поверхность рояля; их лица были раскрашены в белый и лиловый цвета, их зубы сверкали, как качественная бижутерия, а их глаза были истинно злы и бескомпромиссны и вызывали настоящее уважение к этому народу и его стране.
Один из милых дикарей подошел к Мише Оно, посмотрел ему прямо в лицо и неожиданно влепил ему звонкую сильную пощечину. Миша пошатнулся, но ничего не ответил. Тогда десять высоких негров бросились на Мишу с Александром Ивановичем, связали их и быстро увели с собой.
– Что это значит?! – плачуще спросил Александр Иванович.
– Молчите, готовимся к худшему, – ответил Оно.
– Объясни мне, Мишенька, что делать! – сказал Александр Иванович. – Я же воспитал тебя, водил гулять в сад, показывал корабли… Неужели это все? Помнишь ли ты свое детство, мою молодость, меня? Я учил тебя языкам, геометрии, основам мироздания… Неужели я сейчас умру – такой чистый, свежий, благополучный?..
– Заткнись, дерьмо, – сказал Миша, запоминая дорогу, по которой их вели. – Мне надоела твоя страсть к явленным вещам и особенно к собственной нынешней структуре. Нельзя зацикливаться на экзистенции: в этом случае мир предстанет некоей двумерной системой, эдакой неограниченной осью абсцисс и – никакого верха и низа. Грубо говоря, ты будешь всю дорогу рефлексировать и, возможно, онанировать на собственное детство, отрочество или старость и никогда не узнаешь, что существует еще и игрек, а то и зет к известным тебе плюсам и минусам. Вот сейчас ты, Шура, в минусе, но это прекрасно. Ты можешь подняться над этим, и тогда даже отрезание полового члена тебе не страшно. Желаю удачи.
– Вы тысячу раз правы, Миша! – воскликнул Александр Иванович, пытаясь хлопнуть в ладоши, но оковы этого не позволили. – Простите мне мою слабость, я заигрался в жизнь, а на самом деле это все – тьфу.
В это время какой-то злой туземец размахнулся и сильно ударил Александра Ивановича по морде.
– Ох, – сказал тот и понял, что ему выбили зуб.
– Не надо больше болтать, – раздраженно проговорил Миша Оно. – А то они прикончат нас прямо тут.
В это время другой туземец ударил Мишу по черепу, и Миша чуть было не откусил себе язык от неожиданности. Но все было прекрасно. Были чудесные жестокие черные туземцы, и была жуткая жара, и джунгли с колючками, и призраки зверей и их жертв. И непонятный, какой-то иной запах пронизывал атмосферу, и впереди была встреча с вождем.
– Чудесно! – крикнул Миша Оно и улыбнулся туземцу так, словно перед ним был северный шаман.
И они шли вперед и вперед, и джунгли преграждали им путь, и туземцы рубили заросли своими мечами и кричали победительные красивые слова. Через какое-то время они пришли на поляну, на которой стояли хижины и сидели задумчивые черные старцы, и пять разукрашенных богатых туземцев вышли встречать их.
Один из этих туземцев был очень красивым мужчиной и носил кольца в носу. Все остальные о чем-то долго говорили на своем языке.
– Нас будут жечь, – довольно сообщил Миша Оно.
– Откуда вы знаете?
– Обычно они жгут таких как мы, а потом едят съедобные части.
– Проклятье! – крикнул Александр Иванович, потупив взор.
– Это чудесно, – сказал Миша Оно.
Пятеро туземцев взяли их и повели с собой. Потом их втолкнули в большую соломенную хижину, и они увидели сидящего в центре по-турецки важного и степенного вождя; он был прелестного шоколадного цвета, глаза его горели умным огнем и пониманием всех тайн, и три наложницы, словно пушистые кошки, нежно шебуршились и ласкались у его мускулистых ног. Дверь закрылась, отрезав обратный путь. Все остальные туземцы остались вне этой хижины, оставив внутри только вождя, пленников и милых девушек. Вождь смотрел в никуда, словно в будущее, как будто его совсем не волновала реальная действительность.
– Добро пожаловать, – вдруг неожиданно сказал вождь на понятном языке. – Вы, наверное не ожидали услышать членораздельную речь, господа? Между тем я окончил университет в Ндудумбе и стажировался в Ндадамбе, поэтому могу составить вам компанию для бесед и для чашки чая. Меня даже зовут по-вашему – Андрей Уинстон-Смит… Очень люблю почитать в тиши томик Федорова… Извините, если мой сброд доставил вам излишние волнения; я постоянно борюсь с их бескультурьем и низостью; но ведь это дикари, их не переучишь, вы понимаете… Обезьяны, да и только. Впрочем, садитесь, господа, могу предложить вам чай и алкогольный напиток.
– Спасибо, мы не пьем! – гордо сказал Александр Иванович.
– А я вот не откажусь, – воскликнул Миша Оно, садясь на земляной пол. – И еще я хотел бы сигару…
– Не курю, – сказал вождь, погладив мочку уха одной из туземок. – Могу вам дать только наркотическую траву, но тогда вы будете не в состоянии поддерживать беседу ближайшие два дня.
– Спасибо, не употребляю! – надменно ответил Миша Оно.
– Дорогие девочки, налейте господину Оно алкогольного напитка, – вкрадчиво проговорил вождь, ущипнув одну из туземок за щеку. – Ему надо немного расслабиться перед нашими делами.
– Откуда вы знаете мою фамилию?! – гневно спросил Миша. – У меня нет татуировки или документов, на которых фамилия бы могла быть написана!..
– Это мое дело, – сказал вождь. – Пусть это умрет вместе со мной. Вы позволите?
– Нет! – крикнул Оно.
– А мне плевать, – надменно сказал вождь, взяв в руки стакан с напитком.
Миша Оно тоже взял стакан и быстро выпил его, не глядя на вождя. Вождь сделал маленький глоток и иронично посмотрел в лицо Оно.
– Итак, друзья, – сказал вождь. – Перехожу к делу. У меня есть к вам несколько вопросов, на которые я бы хотел услышать ответ. Если я его услышу – тогда все в кайф и мы будем трахать этих баб и вообще развлекаться, а если нет, то я вас повешу на рассвете.