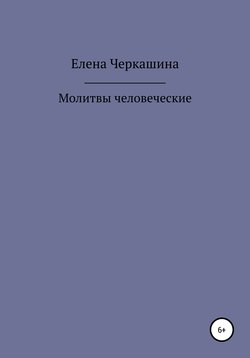Читать книгу Молитвы человеческие - Елена Черкашина - Страница 1
ОглавлениеСуд Божий
С началом зимы кладбище опустело. Перестали приходить немногочисленные посетители, родственники усопших, поредели ряды калек и нищих, стоявших в карауле у ворот, да и сам смотритель уже не так часто появлялся здесь, оставив наблюдать за порядком отставного солдата, который сидел в сторожке, почти не выходя из неё и греясь у натопленной печки. Замели пороши, загудели студёные вьюги. Засыпало снегом могилы и кресты. Примёрзшие к земле деревья съёжились от несносных морозов. Только юркие сороки да старый ворон с поломанным клювом хозяйничали здесь с утра до вечера, наполняя воздух хриплыми гортанными криками.
Шли дни. Зима ликовала. Неизвестно откуда, ведомый только птицам и вездесущему ветру, на кладбище объявился новый жилец: оборванный, грязный, донельзя исхудавший подросток. Пугливо озираясь, хоронясь от сторожа, он растолкал дверь давно заброшенной землянки, протоптал сюда еле заметную тропку и остался жить. Ранним утром свирепый холод выгонял его из убежища; мальчуган стремительно выскакивал и пулей мчался на рынок, где совершал чудеса ловкости и изворотливости, пытаясь выжить. Он воровал всё, что попадалось под руку: пирожки, ещё тёплые, восхитительно пахнущие дымом, яблоки с блестящими боками, свежие ватрушки, и, если повезёт, круглый, пышный, ароматный кулич. То тут, то там мелькали его взлохмаченные вихры. Знали, знали кумушки его проворство, стереглись, но разве убережёшься, коль так неприметен он, так худ и мал ростом! Ловко ускользнув из рук городового, мальчишка торопливо набивал живот и исчезал.
Никто и не догадывался, куда лежал его путь, где этот босоногий оборвыш без дома и родни проводил большую часть своей жизни. А он, плотнее завернувшись в лохмотья, упрямо наклонив голову навстречу ветру, шёл в противоположную часть города, туда, где далеко на холме, высокие и грациозные, раскинулись особняки богачей.
Всё тут пленяло и манило его. Дворцы, окаймлённые великолепием садов, уходящие в небо колонны, ажурные переплетения окон, звонкость изящных карет, поджарые лошади с гибкими шеями. Вжавшись всем телом в ограду, почти незаметный из-за ужасающей худобы, он долго и молчаливо наблюдал эту удивительную, чудную жизнь.
Трепетным взором ловил он каждый жест, каждый звук, каждое слово.
Вот юная барышня едет кататься. Лёгкие сани весело скользят по мостовой, кучер укутан в тулуп и неповоротлив, как снежная баба. Она розовощёкая, свежая, мороз и ветер не пугают, а забавляют её. Поворачивает голову в шляпке, и волосы колечками вьются вокруг тонкой шеи. Маленькой ручкой в перчатке машет маменьке, та наблюдает в окно и тоже машет в ответ. Солнце бьёт по стёклам, воздух напоен запахом духов. Лошадь слегка приседает и трогает. На лице барышни – безоблачное счастье!
Ах, как больно, как сладко на это смотреть! И отчего-то кажется, что все эти лица и эти дворцы уже знакомы ему. Как будто из давнего сна всплывают картины. Мелькают роскошные залы, как ему грезится, его собственного дома. Говор слуг и запах натопленных с утра печей. Рисунок ковров пестрит, расплывается под ногами, мебель в прихожей отливает синим шёлком. Перед внутренним взором – комната, светлая, пронизанная солнцем. Это – его комната и его книги расставлены на столе. Его заставляют учиться, и к нему приходит учитель, всегда недовольный тем, что ему никак не удаётся выговорить это смешное, картавое французское «р».
Картины плывут, становятся ярче, и вот он, почти не дыша, не чувствуя ни холода, ни ветра, вновь и вновь переживает эти грёзы. Откуда они? Он не знает, но давно придумал простое объяснение: сны! Да-да, это во снах явились ему все чудеса: и слуги, и яства на пышном столе, и, конечно же, мама. О, мама! Грустное, нежное, прекрасное видение! Черты лица ускользают, но рост, цвет её платья – фиолетовый, тёплый. В тишине сумерек мама зажигала свечи. Она любила это делать сама, будто в зажигании свечей было что-то, дающее жизнь.
Грёзы обрываются, видения исчезают. Леденящим ветром, синим студёным вечером действительность возвращается к нему. Он озирается: где я? Неслышно бредёт обратно, пробирается в логово, как одинокий волчонок. Долго жуёт кусочек промёрзшего хлеба, а затем, раздувши угли, сквозь дремоту любуется их трепетным голубоватым сиянием.
Утро выдалось чудное. Снег блестел, наполняя комнату белоснежным сверканием, солнце переливалось сквозь стёкла и утопало в пушистом ковре. Ещё не проснувшись окончательно, графиня поняла, что день будет восхитительный и что сегодня она непременно поедет проведать своего мальчика. Но самое удивительное: именно этим утром она ощутила странную безмятежность и лёгкость души, будто груз, давивший много лет, был смыт ушедшей ночью, и ничто внутри не терзало её. Опасаясь разрушить это хрупкое равновесие, прислушиваясь к нему и удивляясь, тихонько протянула руку и позвонила. Нарядная горничная, румяная, свежая, с видимым удовольствием пожелала хозяйке доброго утра, подала платье и, выслушав распоряжения насчёт цветов и коляски, ушла. Графиня же встала и принялась одеваться.
Бархатный халат фиолетового тона удивительно шёл к её слегка поседевшим волосам. Сидя перед зеркалом, женщина заколола их крупными шпильками, слегка пригладила выбившиеся пряди и только после этого пристально, глубоко взглянула в глаза отражению. Обычно именно там она видела эту неизлечимую, бесконечную, на веки вечные поселившуюся грусть. У сердечной боли были небольшие, но перерывы, иногда ей удавалось даже радоваться, например, как сегодня, неизвестно чему, скорее не происшествию, а нахлынувшему откуда-то ощущению счастья. Но глаза! Эти откровенные, всегда всё отображающие озёра души! Разве могли они лгать? И где же взять такую силу, чтобы смыть это страшное отчаяние, печатью застывшее в глубине зрачков?
Пальцы задрожали, и графиня поспешно отвернулась: не стоит позволять воспоминаниям вторгаться в это светлое утро, разрушая столь редкую гостью, радость. Для них время наступит позже, а сейчас… Сейчас нужно одеться и спуститься в столовую, где ждёт горячий кофе и где суета слуг и милый говор старой няни помогут немного отвлечься.
Не прошло и часа, как графиня стояла на крыльце. Наслаждаясь предчувствием чего-то радостного, неожиданного, она наблюдала, как девушка устилает мехом коляску, и, натягивая тонкие перчатки, любовалась изящной играющей лошадкой. Кучер не стал спрашивать, куда ехать, а увидев в руках хозяйки аккуратно завёрнутый от мороза букет, молча покатил за город.
Как и всегда, кладбищенская тишина поразила графиню особым, ни на что не похожим безмолвием. Звуки будто замирали здесь, поглощённые пронзающей всё вокруг глубокой скорбью. Много лет назад именно сюда привезла графиня своего мальчика, единственного сына, в котором не чаяла души. Никогда не думала, что сможет пережить такое. Но вот уж девять лет протекло, и девять лет встречают её всё те же томные, длинноногие ели.
У наглухо закрытых ворот клевала на снегу стайка воробьёв. Вспугнутые шорохом колёс, птицы встрепенулись и улетели. Графиня откинула мех, вышла из коляски, поискала глазами смотрителя. Ни души. Что же делать? Именно сегодня ей так нужно, так хочется свидания с сыном! Потопталась в нерешительности у ограды, как вдруг заметила, что между сугробами мелькнула чья-то голова.
– Эй! – крикнула она. – Подождите! Подите сюда!
Голова вынырнула ещё раз, и показался мальчишка. Бросив быстрый взгляд на сторожку и поняв, что никого, кроме него, на кладбище нет, он вразвалочку, сунув руки в карманы, подошёл к посетительнице. Графиня потеребила замок и, очевидно принимая подростка за помощника сторожа, попросила:
– Откройте, пожалуйста.
– Ключей нет.
– А где же смотритель?
– В город ушёл.
Пристальный женский взгляд остановился на лице мальчика. Несмотря на ужасную худобу, выдающиеся скулы и посиневший от холода рот, это лицо чем-то неуловимо напомнило ей другое: красивое, свежее лицо её сына. «Тех же лет», – отметила про себя. А вслух спросила:
– А кто же ты?
Вопрос поверг парнишку в замешательство, и он отвёл взгляд. Что-то кольнуло женщину в сердце. Она даже не поняла сразу что, но вот он ещё раз глянул куда-то вдаль, словно пытаясь найти ответ на вершинах сосен, и она догадалась: точно так же Серёжа, когда не хотел говорить правду, осматривал предметы в комнате, словно ища у них поддержки. Она улыбнулась мягко:
– Ну, не хочешь, не говори.
Он вскинул глаза, небо отразилось в них, и яркая голубизна омыла графиню с головы до ног. Словно тёплая волна приникла к сердцу. Ах, как это похоже на Серёжу, на его манеру вот так вдруг взглядывать, точно омывать родниковой водой!
Она придвинулась ближе, взялась за ограду, будто опираясь, но на самом деле желая лучше рассмотреть его. Лет десяти, одет ужасно, без шапки, и полуголые ступни торчат из рваных ботинок. Нет, вряд ли он помогает сторожу. Скорее, просто приблудился, и видно, что голоден.
– Твои родители, где они? – спросила.
– Умерли, – сухо ответил мальчик.
– А как же ты живёшь?
Он усмехнулся:
– Живу…
Графиня подумала, затем не спеша поискала в сумочке, протянула сквозь ограду купюру:
– Купи себе, пожалуйста, ботинки.
Он отпрянул, что-то гордое, королевское мелькнуло в глазах. Но деньги взял, помешкав, сунул в карман и собирался уйти, но она задержала его. Хотелось ещё о чём-то спросить, поговорить, да вот только о чём?
– Может быть, ты знаешь другую дорогу? – наконец, нашлась графиня.
Мальчишка вскинул глаза. Он знал! Но не хотел говорить.
– Там снегу много, – пробурчал.
– Ну, хорошо… – улыбнулась она и хотела идти, но что-то дрогнуло в груди, застонало, запричитало…
Внезапный порыв ветра ударил, запорошил глаза. Графиня прикрылась перчаткой и в эту минуту почувствовала непреодолимое желание обнять, прижать к себе незнакомого мальчика так, как прижала бы сына. Она смутилась, выпустила решётку и пошатнулась, на мгновение ей показалось, что сейчас потеряет сознание. Но свежий ветер охладил лицо.
Мальчик всё ещё стоял тут, как-то странно, не по-детски вглядываясь в неё. Она протянула руку сквозь железные прутья и погладила его по щеке. Повернулась и пошла. И всё время, пока шла от ворот к коляске, казалось ей, что сам сын смотрит ей вслед…
День шёл своим чередом: визиты, заботы, приехала подруга, долго болтала ни о чём, а заметив, что хозяйка не слушает, спросила:
– Катя, да ты здорова ли?
А ей хотелось плакать, и утренняя лёгкость сменилась приступом горя, тоски. Боль опять сжала сердце. Перед глазами стоял тот мальчик, его голые ступни и синий рот. Почему, почему она не поговорила с ним больше, не спросила, кто он, откуда, что делал на кладбище? К вечеру примирилась, свыклась с болью, а потом наступили сумерки, слуги разожгли огонь в печи, стало теплее и вроде бы легче. Но ветер за окном пугал, погода менялась, и нервы опять расшалились. Она едва поужинала и легла.
Отчаянно сопротивлялась графиня болезни, но, как видно, горячка, вызванная потрясением нервов, сломила её. Долгой, запутанной ночью металась она по постели, то вскакивая, то опять забываясь в зыбком сне.
Опять и опять мелькал образ Серёжи и всех картин, связанных с ним: ах, она уже забыла, каким он был тогда, ведь столько лет прошло, а он – мальчик, подросток, стройный и очень красивый, и золотые волосы сверкают огнём. Милый, родной, сыночек! Ты был рядом, и казалось, что так и должно быть, что так будет всегда, да разве и могло быть иначе? Ведь вон, другие дети живут, и переносят болезни, а мы так богаты, и доктор день и ночь не отходит от тебя, а все же далеко, далеко эта ужасная чернота, и она зовёт тебя, тянет и забирает от меня… Серёжа, Серёженька мой! Где твоя душенька сейчас? Бродит ли неприкаянная по свету, или уже нашла пристанище в светлом и чистом мире, обещанном нам всем?
И опять – зверская, страшная, адская мука: за что?! Что я сделала такого, что сына, единственного, забрала судьба? И как исправить это, если не возвращаются мёртвые, а жизнь так длинна, и нет тебя рядом, и уже никогда не будет?
Поднялась среди ночи, укуталась в тёплую шаль, прошла в кабинет, а там на стене – распятие. Долго смотрела в глубокие глаза, полные тоски. Ох, немилосерден Суд Божий, немилосерден! Самое дорогое, детей, забирает безвозвратно…
«Господи, помоги мне! Ты один всё знаешь! В Твоих руках и жизнь, и смерть наша. И как же так, что Суд Твой настиг меня так внезапно, обрушился всей тяжестью ужасной, непереносимой боли? Не спорю – виновата. Гордынею своею виновата, кичилась, что красива, богата, а вот вышло, что беднее любой нищенки. И будет ли мне помилование? Или же мука смертная день за днём, до самого конца?»
Долго-долго сидела в холодном кресле, всё глядела на мерцание свечи и уже собиралась встать, как вдруг – тихая мысль: «А ты милосердна ли?» Будто не сама подумала, а словно кто подсказал. И осталась, задумалась: «Милосердна ли я? Может, и нет». Закуталась плотнее и начала вспоминать все случаи, когда была недобра к людям. Случаев немного и было, всё больше по мелочам: когда на прислугу сердилась, когда на кучера. Но чтобы что-то крупное – нет, не припомнится. И вдруг…
Мальчик на кладбище, полуголый. Как она с ним обошлась? Милостыню дала – хорошо, а милосердие? Сама села в тёплую коляску и в дом уютный поехала, чай пить, обед есть, а что с ним – и не подумала. А ведь был, был ей знак: сына он ей напомнил, да разве как с сыном она с ним обошлась? Горячо ударило в сердце графини, глянула в сторону окна: вьюжит. Ночь холодная, ненастная. Милосердна ли я? Страшно ей стало. Дитя в сугробах замерзает, а она о немилосердии Божием судит. «Да как же я смею? – подумала. – Где же моя материнская правда, где сердце моё?»
Пошла к себе в комнату, мысли сбились, то приляжет на кровать, то опять поднимется. То хочет горничную звать, кучера будить, но всё что-то мешает, не решится, не знает, что делать, как поступить. А потом упала на колени и попросила: «Господи! У Тебя – правда, Ты мне и скажи, как быть, что делать, что чувствовать». И вслед за этим вдруг горько-горько расплакалась. И пока плакала, сердце смягчилось, расслабилось, нежным повеяло, и мальчик тот, на кладбище, уже не чужим, а родным показался. Да и какая разница, подумалось, что другая мать его родила, если все детки – это детки, а все матери – матери. И в моем сердце ещё так много любви…
Под утро забылась графиня. И во сне увидала: Серёжа идёт вдоль ручья среди мягкой травы под синью неземного неба. Смотрит на мать, глаза задумчивы, и говорит тихо-тихо: «Мама! Холодно мне, ноги босые, и кресты вокруг – жуть!»
Очнулась графиня, глаза распахнула. Серёжа во сне как живой, давно его таким не видала. Что-то о крестах говорил. Вдруг сильный порыв ветра ударил в окно. Вскинула голову: кладбище! Мальчик среди могил! Поняла, что ей сын сказать хотел. Не встала, вскочила: ехать!!! Сейчас же, сию минуту ехать, забрать, спасти! А в окне – всё замело, засыпало снегом, ночь напролёт вьюга бушевала. Смертный холод обуял графиню: только бы не поздно! Не своим голосом крикнула горничную: «Глаша, запрягать!»
Забегали, засуетились слуги, растолкали сонного кучера, а на улице ещё темно: раннее, раннее утро. Мигом оделась, схватила тёплый мех – для него, не для себя! – и заторопилась в коляску.
Скоро бежала лошадка, но вечностью показалась дорога! К счастью, сторож оказался на месте, удивился очень, принялся клясться и божиться, что никого, кроме него, на кладбище нет, а когда графиня расстроилась и чуть не заплакала от досады на бестолкового мужика, стал поглядывать странно: уж не спятила ли барыня? Кто ж в такую стужу по кладбищу разгуливать станет?! Вон солнце ещё и не взошло, едва светает! Но уговорила, пустил её якобы к сыну, а она вовсе и не к могиле пошла, а в те сугробы, откуда вчера мальчишка прибежал. И – нашла-таки, что искала! Узенькая, едва глазу видная тропинка стелилась меж надгробий. Подвела тропка к землянке, видит графиня: яма в снегу, дверь снегом замело. Помертвело сердце. Кучера своего кликнула, вместе яму разрыли, а мальчик уже чуть живой лежит, свернулся клубком, в лохмотья с головой завернулся. «Угли кончились, мама, и ночь мне эту не пережить…» Ах, Серёжа, Серёженька, что ж ты раньше-то не сказал! А теперь вот – тельце ледяное, совсем худенькое, почти невесомое…
Не дала кучеру, сама обняла, вынесла. Он немытый, пахнет нехорошо, а чувство такое, будто сын родной на руках.
Сторож бежал рядом, сбивчиво просил не говорить никому, да уж ладно, но как же так, ребёнок под носом замерзает, а ты и не видишь! Смутился, потупил глаза старый солдат…
Всю дорогу держала мальчика, да кучера торопила, а он и гнал, как никогда не гонял, бедная лошадка и забыла, что не положено ей так бегать: изящной породы она, благородных кровей!
Дома – сразу ванную, доктора, а он в себя не приходит. Глаза закрыты, сердечко слабенько бьётся. Страшно стало графине. Но смотрит: в тёплой воде стал отходить мальчик, щеки порозовели; вместе с горничной сняли с него одежду, руки-ноги растёрли, да быстренько и прикрыли полотенцем: взрослый уже, застесняется! А тут и доктор подоспел, пульс послушал, ощупал всего.
– Кормите, барыня, и побольше, да только не сразу много давайте! Крепкий, будет здоров! – поклонился, пошёл.
Стоит в прихожей, в усы улыбается. Что, что случилось?
– Да вы, барыня, похорошели сразу! Вся так и светитесь!
Вспыхнула, убежала, дел-то столько! Кухарке обед заказать, Егора, кучера, послать за портным. А впрочем, может, ему Серёжина одежда подойдёт. Заглянула в комнату одним глазком: мальчик лежит, голова мокрая после купания, на птенчика похож. Глаша рядом сидит. А он вроде как спит, личико тихое. Пусть спит. Теперь он дома, и ничего, ничего с ним не случится, потому что теперь-то она его не отдаст.
И получаса не прошло, бежит Глаша, с радостным ужасом кричит:
– Барыня, барыня, он вас зовёт!
– Как зовёт?
– Где, говорит, мама? А я спрашиваю: а кто твоя мама? А он говорит: та, что меня с кладбища привезла!
Схватило, сжало сердце, слезы непрошенные навернулись. Если бы ты знал, мой родной, как ты прав! На кладбище людей увозят, и ещё никто оттуда сына не привозил. А я вот там-то тебя и нашла!
Поднялась графиня в спальню, вошла тихонько. Мальчик сидит на кровати, в одеяло завернулся, думает о своём. Волосы чистые высохли и тонким золотом светятся вокруг головы. Увидел её, голову поднял, глаз оторвать не может. Графиня чувствует: сказать что-то хочет, но стесняется. Тонкое материнское чутьё помогло: улыбнулась просто, обняла просто, и самым простым тоном сказала:
– Сейчас завтрак будет. А ты, дружочек, о кладбище забудь, потому что с этого дня ты – мой сын, – и прибавила нежно: – Как зовут тебя, милый?
Уже глубокой ночью, вся переполненная радостью, непонятным удивлением своей решимости и ещё чем-то, чему и названия не подберёшь, графиня вошла в кабинет, присела у распятия, взглянула виновато и тихо сказала: «Прости меня, Господи! Столько лет упрекала Тебя за Суд страшный, несправедливый, а сама и не видела, что сами мы себе тут, на земле, суд творим немилосердием нашим, сердцами чёрствыми, сухими. А Твой Суд – он всегда милостив, да только мы не видим того. Прости меня за слепоту. Если б Ты мне глаза не раскрыл, так и не поняла бы, где счастье искать. А теперь – уж, пожалуйста, не отними его у меня. Пусть сыночком мне будет. Любить буду, лелеять, как и Серёжу лелеяла. Только поддержи, чтобы всё у нас хорошо было, да радостно, с любовью».
Встала, пошла из кабинета, дверь легонько прикрыла, а на губах – улыбка. И долго-долго улыбалась, пока не уснула хорошим, крепким сном.
– Мама, мама! – зовёт сильный, раскатистый голос, от которого дрожат стёкла, а молоденькая горничная радостно смущается и алеет.
– Соня, где мама? – спрашивает молодой офицер в прихожей, оглядываясь и снимая перчатки.
– Наверху, барин, – поспешно отвечает Соня и приседает.
– Да какой я тебе барин? – улыбается тот. – Сколько уж раз говорить…
Он взбегает по лестнице, и весь дом наполняется его свежим, энергичным присутствием.
– Мама, можно к тебе? – открывает дверь.
Она уже слышит и радостно спешит навстречу:
– Сашенька, голубчик! Что так? Что-то случилось?
– В полку выходной, мне дали отпуск до завтра.
Графиня смеётся, с любовью прижимает голову сына:
– Неделю тебя не видела, а ты опять подрос!
Он подхватывает её и несколько секунд кружит в вальсе. Потом неожиданно спрашивает:
– Ты помнишь?
– Что, милый?
– Как же? Сегодня – десять лет!
– Сегодня?! – она теряется от неожиданности, даже бледнеет, но тут же загорается: – Тогда обед, праздничный, с шампанским!
Суматошно забегали слуги: скатерть, салфетки. Все знают: сегодняшний день – особенный в доме, он – как праздник, как день рождения барина, Александра Васильевича. Повар старается, он души не чает в хозяине: мальчишкой тот прибегал помогать ему, а заодно и прихватить пирожок-другой. Графиня ищет сына: учитель пришёл, дожидается, а Саша спрячется в кухне и только шепчет: «не выдавай», глаза умилительные…
Наконец, стол накрыт, сели. Графиня любуется сыном: статный, высокий! Золотистые пряди рассыпались по лбу, улыбка светлая. Слуги уходят, и он встаёт, идёт к ней. Наклоняется, обливает ласковой синевой глаз.
– Что, Саша?
– Давно хотел сказать, – помолчал, немного стесняясь, – что ты у меня – самая лучшая мама.
«Господи, благодарю Тебя за то, что помиловал меня, грешную; за любовь Твою, за сыночка, Сашеньку. Десять лет прошло, и каждый день – радость, радость, радость! Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»
Ночь тиха. Она входит в комнату сына и, стараясь не светить в лицо свечой, нежно склоняется: «Спи, дорогой мой, ты – дома».
Духи
Таня встала. «Солнце уже высоко, – подумалось ей, – который же час? Он, верно, скоро приедет!» Быстро одевшись в приготовленное девушкой платье, нежное, из белого муслина, с отделкой из кружев, она спустилась в гостиную и ласково приветствовала мать:
– Маменька, здравствуйте.
– Доброе утро, Танюша. Как спала?
Таня зарделась. Вопрос был двусмысленным: «Как спалось тебе, дочь, перед приездом жениха?»
– Мерси. Прекрасно, – буркнула она по-француз-ски.
И в ту же минуту под окнами раздался шум двуколки, а радостная горничная, запыхавшись, вбежала в комнату и восторженным шёпотом объявила:
– Жених едет!
– Я к себе, на минуту, – быстро сказала Татьяна и бегом поднялась наверх.
Села перед зеркалом, поправила волосы, слегка для краски покусала губы. А затем, убедившись, что всё в порядке и она хороша, открыла нарядный флакончик с дорогими духами и чуть-чуть капнула на себя. Запах, изысканный, модный, внёс в её настроение ту долю аромата, что придала ей уверенность, а всему облику сообщил последнюю ноту очарования, словно бы завершив картину. Она улыбнулась: «Всё, готова, можно спускаться».
Медленно, стараясь казаться непринуждённой, она шла по лестнице, и Миша, или, как все его называли, Мишель, вставал от стола, восторженно следя за ней взглядом.
– Татьяна Евгеньевна! Вы сегодня обворожи-тельны, впрочем, как и всегда.
Она подала ему руку и, спросив разрешения маменьки, пригласила пройти в сад.
Это было чудесное утро: Миша, так близко, рядом, последние недели в роли жениха, робкий, нежный, предупредительный. Она сама, чувствовавшая себя герцогиней, с порхающей улыбкой на губах; весь этот дом, высокий, стройный, но словно слегка надоевший, а потому так радостно думать, что скоро она покинет его навсегда и будет возвращаться лишь гостьей. И сад, который Таня любила с детства, его деревья, каждый цветок. Всё, но более всего – эта тонкая ниточка цвета, этот изысканный французский аромат.
Наверное, он тоже почувствовал, потому что вдруг остановился и просто сказал:
– Татьяна Евгеньевна, а что этот запах? Ваши духи.
Таня слегка покраснела от удовольствия, что он заметил.
– Вам нравятся? – спросила она.
– Очаровательный запах. И так подходит к этому утру, и…
Он хотел сказать что-то приятное, но застеснялся и отвёл глаза. Однако она поняла, а потому протянула ему руку:
– Идёмте, Мишель, идёмте.
И повела дальше по дорожкам вглубь сада.
«Наверное, я легкомысленная, – говорила Таня самой себе уже вечером, ложась спать. – Кокетничала с будущим мужем. Что подумает он обо мне? – она присела у столика с дамскими безделушками и глянула в зеркало: – Но всё было так чудесно: весь этот день, и Мишель, и даже этот аромат…»
Рука потянулась к духам, подержала флакон. И вдруг в комнате что-то изменилось. Стены дрогнули, стал струящимся воздух, и прямо перед ней возник старичок: невысокий, сгорбленный, с седыми волосами. Он посмотрел на Таню, затем на духи и скорбно покачал головой.
– Лучше б она их выбросила, – сказал старичок, будто обращаясь к кому-то, – счастья они ей не принесут…
И исчез.
Таня осталась сидеть в каком-то невообразимом волнении, поражённая тем, как старичок вышел из стены, и его словами. «Что это? – думалось ей. – Что это было? И почему он сказал, что счастья они не принесут? И зачем же выбрасывать то, что так хорошо?» Едва успокоившись и выпив воды, она легла в кровать, долго не могла заснуть, все взглядывала на стену: не покажется ли опять старичок, но затем молодость взяла своё, и Таня крепко уснула.
Наутро, разбуженная солнцем, она почти позабыла видение, но едва опять села у зеркала, вспомнила со всеми подробностями и задумалась. Так, размышляя, спустилась в гостиную, выпила кофе, а затем прошла в сад. И вот тут, на том месте, где они сидели с Мишелем вчера, Таня внезапно почувствовала слабость и прилегла на скамью. То, что случилось потом, оставило в её душе глубокий и сильный след, навсегда, на всю жизнь.
Таня уснула. Но то был не обычный сон, а словно бы тонкий, как дым. И вот в этом сне видит себя невестой. День свадьбы, мать везёт её в церковь, все ждут жениха. Она хороша в своём небесном наряде, и платье сидит чудесно, да и всё хорошо, только почему-то долго, долго нет Мишеля. Запаздывает, но это ничего: у Тани есть время, чтобы спокойно помолиться, глядя на чистые лики икон. Но время проходит, гости волнуются, Миши всё нет. Разные мысли в её голове: «Отказался? Не хочет венчаться? Разлюбил? Передумал?» Но чувствует сердцем: что-то случилось, что-то нехорошо. Проходит час или два, народ, собравшийся посмотреть на венчанье, расходится. С мучительной тоской на душе невеста выходит из храма. И вдруг – слуга Миши, с трясущимися губами, подбегает к ней и, страшась смотреть прямо в лицо, говорит:
– Барышня, горе!
– Что случилось? Что?
– Хозяин к вам ехал, венчаться, да только увидел модную лавку, где духи продают. Выскочил из двуколки: «Ждите минуту, – говорит, – я невесте подарок куплю», и убежал в лавку. А когда возвращался… – слуга вдруг заплакал.
– Да говори же, говори!
– Лошади мимо, карета, развернулась неловко, да и задела его дышлом…
Таня побледнела, как смерть.
– А дальше? – тихо спросила мать.
– Увезли его в больницу, да только доктора не знают, будет ли жить…
Она помнит, как опустилась на землю, а дальше – ничего…
В неизъяснимом волнении очнулась Таня в своём саду. Долго сидела потрясённая, всё смотрела на небо, на ветви деревьев, а когда маменька прислала девушку звать её завтракать, медленно встала и пошла не к столу, а к себе наверх.
– А как же завтрак, Танюша? – спросила мать.
– Не надо, ничего не хочу. Прикажите послать за Мишелем.
– Да неудобно, вчера же был…
– Мне нужно видеть его. Прикажите, мама.
К приезду Мишеля она успокоилась, сменила платье, легонько припудрила лицо. «Всё хорошо, – говорила себе, – всё хорошо». И, услышав двуколку жениха, вышла навстречу.
– Татьяна Евгеньевна, вы меня звали…
– Да, звала. Идёмте.
И повела в сад, но не на то место, а просто прошла по дорожкам, увлекая его за собой. Убедившись, что рядом никого нет, резко развернулась.
– Вы помните, Мишель, – спросила напряжённо, – вам вчера мои духи понравились?
– Конечно, – ответил жених.
– Так вот, они мне не нравятся. Они отврати-тельны! Я даже думать о них не хочу!
Мишель отступил:
– Татьяна Ев… Таня! Что произошло? Вчера…
– То было вчера. А сейчас они мне совершенно не нравятся. Вы поняли, Миша? Не нравятся!
– Мне непонятно лишь, отчего перемена в вашем настроении?
– Я расскажу, но не сейчас.
Он с улыбкой глянул по сторонам:
– А я, признаться, хотел…
– Купить мне духи? – вдруг перебила она.
– Да, мечтал: найду такие же и удивлю.
Она улыбнулась, но тут же сурово сказала:
– Никаких духов не хочу, ни нынче, ни впредь. Вы запомните?
Мишель не ответил, но ласковым жестом взял её руку и поднёс к губам.
…Уже поздно вечером, совершенно успокоенная, она проводила Мишеля и ненадолго вышла в сад. В ладони сжимала флакончик. Найдя старый колодец, глубокий, заваленный мусором и ветвями, склонилась и бросила духи прямо в пахнущую плесенью воду. А затем с мирной душой отправилась спать.
Таня спала и не видела, как в ее комнате появился сгорбленный старичок, глянул на неё, на столик, где уже не было духов, и с отеческой нежностью покачал головой
Маленькая часовня на краю деревни
У самого обрыва реки, в стороне от других домов, невзрачная и неказистая, стояла часовня. Была она древняя и тихая, с разломанным крыльцом и тёмными, блестящими от прикосновений тысячи ладоней дверями. Сквозь слабые окошки струился свет. Внутри царил мир и покой, и чадящие свечи создавали атмосферу уюта и особой, одухотворённой красоты. Люди заходили сюда редко, а если заходили, то присаживались на узкие скамейки, и взгляды скользили по сумрачным стенам, где немногие лица святых смотрели на них глубокими всепрощающими глазами.
В воскресные дни часовня оживала. Сюда стекались прихожане из тех, кто не мог или не хотел идти в соседнюю деревню, в большую, построенную недавно просторную и красивую церковь. Приходили больше старушки в чёрных платках, пахнущие древностью, сгибающиеся под тяжестью собственных тел и прожитых нелёгких лет. Они целовали иконы, шептали что-то беззвучно, и их осенённые молитвою лица светились в темноте. Молодых почти не было: маленькая часовня с её скромной тишиной не притягивала их.
К вечеру часовня становилась пустой. Замирала жизнь. Только запахи сгоревших свечей, дерева и людского дыхания неспешно растворялись в наступивших сумерках. Приходил сторож и дрожащей рукой навешивал большой замок, жался на ветру, стараясь попасть ключом в скважину, и уходил, горбясь, бормоча что-то про себя, пряча лицо в воротник и не оглядываясь на маленькую часовню.
А верстах в двух или трёх от деревни стоял хутор, где жил больной одинокий калека в таком же старом и заброшенном доме, каким был он сам. Раз или два в неделю навещала его невестка, топила печь, варила густую кашу и оставляла хлеба на три дня. Наутро тепло выдувалось ветром, и он оставался лежать в промёрзшей избе, свернувшись на печи и боясь пошевелиться, чтоб не растратить, не выпустить из-под скверно пахнущих одеял последние капли тепла. Когда надо было встать, он немалое время барахтался и путался в тряпках, сползал с печи на приступок, затем ещё дальше, на пол, а там полз до двери, страдая от боли и немощи, делал необходимое и так же ползком возвращался обратно, забирался по ступенькам на печь, отлёживался, утешался, вздыхал. Потом ещё долго, мучительно болела спина, но невестка пригрозила, что не придёт, если он станет ходить под себя, а потому он боялся и вынужден был каждый раз спускаться, нарушая хрупкое равновесие разбитого тела.
А потом как-то ночью увидел калека сон: стоит на краю деревни маленькая часовня, и он помнит её, потому что бегал туда мальчишкой, да и взрослым приходил, пока был здоров. Раньше часовня красовалась, а теперь – старенькая, тёмная, и все же хорошо там внутри. Свечами пахнет, теплом, людьми. И так ему захотелось в ту часовню, такая тоска взяла, что заплакал он во сне и проснулся. Лежит в темноте, дрожит от холода, лицо мокрое от слёз. Только понимает калека, что не добраться ему до часовни, даже половины дороги не одолеть. Как же быть-то?
До самого утра не спал, мучился, размышлял, а когда рассвело, решился. Звала, манила его маленькая часовня.
Что заставило его встать? Какая неведомая сила подняла иссохшее тело и вдохнула в него каплю жизни, достаточную, чтобы добраться сначала до двери, а оттуда, после непродолжительного отдыха, и дальше, на дорогу, по которой иногда проезжали сани из соседних деревень? Совершенно промокший, озябший, лежал он на обочине, когда рядом с ним остановилась лошадь и сердобольный крестьянин, с сочувствием выслушав его рассказ, взвалил тело калеки на свой возок.
Он подвёз к самой часовне и выгрузил, посадил на крылечко, накинув ему напоследок свой тулуп. «Ничо, у мене ешчо есть!» – и укатил. Убогий сидел, ничего не понимая от радости, а потом приподнялся и пополз в часовенку.
Она оставалась прежней, такой, какой он помнил её всегда: молчаливой и доброй, наполненной сумеречной тишиной, только потемнела и постарела, как стареют люди, отдавшие тепло своей души другим. Он долго и блаженно вдыхал в себя её запах, светлую одухотворённость её покоя, целомудренную чистоту образов и тонкий аромат свечей. Часовня смиренно принимала его, уродливого и грязного, с парализованным телом и мучительно дрожащими руками. Она не отталкивала, а словно говорила: «Хорошо, что пришёл…» И он, распростёршись на полу, плакал и смеялся, а потом долго и глубоко молился, благодаря за это счастье: прикоснуться своими руками к дощатому полу часовни. Чуть позже, согревшись и сжавшись в комок, он сладко уснул в уголке, и лёгкие, нежные сны кружили его в своём танце. А маленькая молельня продолжала свой мудрый напев, умиротворяя и оберегая его покой.
К вечеру, когда занялся морозец, крестьянин опять подкатил к часовне и грубовато, скрывая от самого себя доброту, взвалил убогое тело калеки на сани. «Поехали, что ль…» – и в несколько минут домчал до дома на отдохнувшем коньке.
«Чтой-то холодно у тебя, хлопче!» – и тут же, в два счёта, наколол дров, разжёг огонь в печи, посидел немного, глядя на избу, покряхтел: «Бабу свою, что ль, прислать, прибрать у тебя…» – и, попрощавшись, уехал. Калека поужинал хлебом, что оставил крестьянин, поворочался на горячей печи и тихо уснул: умиротворённый, счастливый.
Прошла неделя, и он опять собрался в часовню. Морозным солнечным утром он лежал на дороге, ожидая, что кто-то подберёт его и поможет добраться до деревни. Желание снова ощутить блаженство маленькой молельни, припасть в поцелуе к молчаливой иконе оказалось сильнее и боли, и немощи, и страха.
Дорога долго была пуста. Два или три всадника проехали мимо, покачали головой: «Шёл бы ты, батька, до дому!» – и опять никого. Но он лежал, мёрз и терпеливо ждал. Солнце стояло высоко, когда показались, наконец, доверху нагруженные сани. Мужик остановился, долго ругал калеку, но все же нашёл местечко, притулил в уголке, где было неудобно, больно, однако ехать… Так и добрался в тот раз. Заночевал в часовне: спрятался, забился в тёмный угол от сторожа, а тот и не посмотрел, молча закрыл дверь на замок и ушёл.
Утром выполз калека на крыльцо, смотрит: день морозный, ясный, небо синее, как перед весной. Хорошо ему, просторно на душе. Только как домой-то добраться? Сидел-сидел на крылечке, ждал-ждал, да и пополз на дорогу. Тяжко, а делать нечего, тащит своё иссохшее тело. Вот уж и солнце поднялось, поздно, а он только-только за деревню выбрался. Полежит немного, отдохнёт и опять ползёт. Скоро устал так, что и понимать перестал, где он и что с ним. Помнит только, что не дома, а уж ничего вокруг не видит: тошно ему, муторно, от слабости в ушах колокольный перезвон стоит. Уронил голову и надолго впал в беспамятство.
Каким-то чудом, дарованным свыше, не замёрз калека в ту бездонную ночь. Природа словно сжалилась над ним: настала оттепель, и до рассвета слышал убогий, как преет вода под снегом, где он лежал. А наутро тёплый туман опустился на землю и дохнул ему в лицо мягким запахом хлеба. Невестка, нежданно-негаданно собравшаяся к нему, застала калеку лежащим в полутора вёрстах от дома, полуживого, обледеневшего. Подняла, взвалила на крепкие плечи и понесла в избу, а потом долго выхаживала, поила кипятком, растирала застывшие руки и ноги. Выходила, вернула к жизни.
Зима прошла. Светлее, радостнее стало на дворе, только чувствовал калека: нет ему жизни без тишины и покоя маленькой часовни. Но выйти из дома не мог: ослабел больше прежнего. Уже и с печи слезть невмочь, а как до дороги добраться?!
Терпел, плакал, просил невестку помочь, да та всё за блажь приняла, рассердилась только. И вот однажды, в средине марта, не выдержал убогий, выбрался из дома и пополз к дороге. Звала его, манила маленькая часовня, и быть без неё он уже не мог.
День тот морозным выдался, обледенела, стала почти непроезжей дорога. Ни души не видно… Только он верил, и даже когда солнце село, и вечер колючим холодом пробрался в сердце, всё ждал и надеялся, что вот покажутся сани и чья-то заботливая рука посадит его на возок. Но нет никого. Стал засыпать калека. Мир и покой опустились на душу. И чудится ему, будто уже добрался, уже в часовне. Немые, мерцают свечи. Неслышно скользят мимо тени людей. Никто не задевает его, не смеётся, не тычет пальцем в уродство. Он сидит посерёдке, крепко прижимая к груди тёплую, остро пахнущую свежим лепёшку, которую дал ему кто-то. Из тёмных углов шепчутся с ним святые. И чистая радость наполняет его больше и больше, постепенно затапливая невыразимым блаженством всё существо. Так и уснул, и уже в самом глубоком сне поднялся, выпрямил спину и свободно зашагал по залитой солнцем дороге туда, где давно его ждали.
Голод
Вспоминаю случай из своего далёкого детства. Случай, перевернувший всю мою жизнь.
Мы были деревенскими, и когда начался голод, то мать не стала ждать, пока все её дети погибнут, а снарядила нас, старшеньких, в город.
– Идите, детки, идите, может, и прокормитесь. Что подадут, что попросите. А тут – совсем худо.
– Мам, а ночевать-то где? – спросил я.
– В подвалах ищите, в конюшнях, а лучше – к храму Божьему держитесь поближе.
Прощание было коротким. Старый армяк на мне, сестрёнке мать дала свой платок. И – пошли. Мне в ту пору исполнилось двенадцать, а Маше – семь лет.
Город ошеломил нас: крики, суета, всюду движение. Но стоило свернуть с главной улицы, и становилось тихо, как в деревне. Я не боялся, а сестрёнка пугалась, всё норовила спрятаться мне в бок, пищала: «Саш, а мож, вернёмся? Мамка дома…» Мамка-то дома, да только нас не ждёт. С ней четверо остались. Я внимательно оглядывал подворотни. Подвалы закрыты, конюшни и подавно. Тогда я поднял голову и стал смотреть вверх. Немного погодя увидел, как заблестели верхушки куполов. Туда и потянулись.
Городской храм – не чета деревенскому. Высокие ступени, белокаменный. Я заробел. Как подойти, как просить? Поодаль, ближе к воротам, стояли нищие: всё больше калеки, старички и старушки. Но я не смел стать рядом, мне что-то мешало, внезапно стало душно и тяжело. Из открытых дверей поодиночке выходили люди. День был будничный, обедня, по всему, давно кончилась. Я вошёл, покружил, посмотрел на горящие свечи, полюбовался резными воротами алтаря. Тихо, спокойно. Но что же делать? – мучил вопрос. Вышел из храма. Сестрёнка ждала на ступеньках. Она хотела есть, но молчала, надеялась на меня. Мимо прошла хорошо одетая женщина. Я проводил её взглядом – и вдруг бросился к ней, горячо умоляя: «Матушка, матушка, возьмите меня в работники, я всё умею! Я – деревенский, сильный. Воду носить, дрова колоть, и за лошадьми…» Но женщина заторопилась прочь, оглядываясь на меня чуть ли не в ужасе. Однако я не огорчился, наоборот, обрадовался, потому что, как мне казалось, нашёл решение. Наниматься в работники – это привычно: мать всегда посылала нас по деревне людям помогать. Нас и накормят, и, бывало, заплатят.
Только тут меня никто не знал. Я кидался к одному, к другому – все спешили мимо, оглядываясь подозрительно, с опаской. Время шло. Сестрёнка жалась в платок. Нищие познакомились с нами, стали её учить: «Ты ручку-то протяни, протяни, не бойся». Она вытянула руку. Пальцы посинели от страха и напряжения. Глаза с мольбой смотрели на меня: «Саш!» Мне стало не по себе…
Сырая осень загнала солнце за тучи, потянуло ветром. Ни еды, ни ночлега. Ей что-то подали, мелкую монету, и я тут же спрятал её глубже в карман, чтоб не потерять. К вечеру мы совсем отчаялись. Нищие разбрелись кто куда, храм закрыли. Оказавшись за оградой, я почувствовал: надеяться не на что, взял сестру за руку и пошёл. Купить что-либо на монетку оказалось невозможно: слишком мелкая. Остановился и огляделся вокруг. Окна светились тёплым сиянием огоньков. Столько еды, тепла! Ладошка сестры окоченела от холода. Мы забились в какой-то угол между домами, где ветер не так донимал, я натаскал соломы, разбросанной по переулкам, обнял её покрепче. Зажмурился, а перед глазами – дом. Дрова ещё оставались, и мать топила, и даже когда было голодно, всегда находилось место между младшими братьями и сёстрами, чтобы согреться и уснуть. Вернуться? Но её глаза… С ней четверо остались. Я самый старший, а значит, ел больше всех.
Через три-четыре дня стало понятно: нам не выжить, не прокормиться. Подавали так мало, что едва хватало на маленькую лепёшку, пару яблок. Сестра ослабла и уже не могла стоять, она сидела на ступеньках, склонив голову на плечо, и всё время молчала. Ночевали мы за храмом, в кустах, прижавшись к стене: берегли силы.
…Той ночью поднялся ветер и выгнал нас из убежища. Взяв сестру на руки, я перенёс её ближе к дверям: здесь было тихо. И задремал. Внезапно дверь храма распахнулась, и из неё вышла Женщина. Я даже не понял, почему проснулся. Просто открыл глаза и увидел Её: невысокого роста, одета в глухое монашеское одеяние, на голове плат. Подойдя к нам, склонилась и глянула мне в лицо. Я похолодел. Вдруг Она открыла уста и тихо сказала: «Что ж ты не молишься? Проси Сына Моего!» Затем повернулась и скрылась внутри.
Церковь открыта! – осенило меня. В один миг я очутился у двери. Та была заперта, и большой замок висел так, как сторож оставил его. Я долго дрожал, пытаясь унять страх, и жался ближе к сестре. Пока вдруг слова не ожили в моей памяти: «Что ж ты не молишься? Проси Сына Моего…» Какого Сына?!
Едва я дождался утра. Церковный сторож не спеша открывал дверь, а я стоял рядом, подпрыгивая от нетерпения. Вошёл, рысцой обежал храм, заглянул в каждый угол: Женщины не было. И вот в тот момент, когда я стоял, озадаченный, на меня с большой, во весь рост иконы глянула Богородица. Столько раз я смотрел на этот чистый Лик, но лишь сегодня увидел глаза. Это были те же глаза, и выражение то же! Долго я вглядывался. И чем больше смотрел, тем отчётливее стучало сердце: Она! Её Лик! Мой детский разум не мог понять как, почему. Я просто смотрел и видел ту же мягкую линию губ, ту же ласку, когда Она сказала: «Проси Сына Моего!» Огляделся, поискал глазами священника. Рассказать? И смутился: да кто ж мне поверит?
И тогда я повернулся к Сыну. Молиться я не умел. Когда жив был отец, он всегда серьёзно, неторопливо читал перед едой «Отче наш», и мы все негромко повторяли. Но отец умер, и в доме не молились. Я зашёл за колонну, сосредоточился. «Отче наш, Иже еси на небесех, – начал тихонько, – да святится имя Твое…» Молитва лилась легко, схваченная раз и навсегда прочной детской памятью, но что означали эти слова – я не понимал. Закончил, перевёл дух и вдруг просто поднял голову, глянул Ему в лицо – и горячо-горячо зашептал. Я рассказал Ему всё: и про голод, и про мамку, и про то, что она не виновата, ведь нас шестеро в семье, а отца давно нет, и лошадь продали, потому что некому пахать. И про сестру, которая там, за дверью, милостыню просит, только не дают, а если и дают, то так мало… Чего только не наговорил я в тот первый раз! Он слушал меня, глядя спокойными, глубокими глазами. А я весь вспотел, несколько раз утирал набегающие слёзы, но плакать не хотел, а просто говорил и говорил. И когда закончил, опустился неловко на колени и прижался лбом к холодному полу. Растревоженная душа моя болела, но в неё уже вселилось что-то новое, неизведанное ранее: чувство защищённости. Я не ожидал, что сию минуту в моей жизни что-то изменится, просто не думал об этом, но успокоился, потому что попросил.
Времени прошло немало. Когда вернулся к сестре, она стояла, плотно зажав конец платка в кулаке. Так я научил: подадут что – прячь в платок и держи крепко, пока мне не отдашь. Маленькая, ещё потеряет… Она раскрыла ладонь, и я глазам своим не поверил: на тёмной ткани сияла чистая серебряная монета! У меня едва ноги не подкосились. Голод, только что пережитое волнение сделали меня слабым, и я упал на ступени. Отдышался, унял дрожь. Потом резко поднялся и побежал в лавку.
Лавочник подал мне белую булку и целую горсть мелкой монеты: сдачу. Сестре я купил леденец.
А потом всё потекло. Люди привыкли ко мне и звали помочь по хозяйству, давали маленькие поручения. Сестрёнка просила, а я – целый день то туда, то сюда. Ощущение было такое, будто Кто-то сильный вмешался в нашу судьбу. Ничего не выдумываю, я это видел! Едва начиналось утро и открывали храм, я входил, прятался за колонны и молился. Я не просил – умолял! Благодарил, рассказывал, сколько заработал, и что нас уже несколько раз звали ночевать добрые люди, и многое другое. Изливал свою радость – и убегал.
Уже глубокой осенью знакомая барыня взяла меня в услужение, в свой дом. А Машу в приют устроила. Ей там платьишко дали, шубейку тёплую. А я и вовсе почти в новом ходил. Хозяйка приказала меня и одеть, и обуть. «Я когда увидела, Саша, как ты молишься, – сказала она мне много времени спустя, – то сразу поняла: такой человек ни обманывать, ни воровать не станет». Так и жил у неё. Старался, как мог, с утра до вечера то по поручениям, то по дому. Мы, деревенские, к работе привычные. Даже не уставал.
А когда настала весна, отпросился у барыни на три дня и поехал домой. Нашёл на рынке мужиков из наших мест, заплатил. Погрузил на телегу мешок картошки, муки. Когда добрался, оказалось, мать похоронила двух младшеньких, сестрёнку и брата. Она долго меня обнимала, просила прощения. «Мам, ну, ты что…» – отнекивался я басом. А когда все уснули, рассказал ей про ту Женщину из храма. Она опять заплакала, потом встала на лавку, взяла из красного угла икону Божьей Матери и нежно поцеловала.
Просьба
Ранним утром, когда весь монастырь ещё спал, на дорожке кто-то показался. Растрёпанный сонный посетитель старался ступать осторожно, чтобы не поскользнуться и не упасть в подмороженную грязь.
Отец Николай оставил своё занятие – складывать дрова в поленницу – и внимательно всмотрелся.
– Что ты, Михайло, – спросил он, узнав трапезаря, – в такую-то рань! Ещё и к утрене не звонили.
– Да у меня к тебе, батюшка, просьба. Потом и времени не будет, целый день как заводной.
– Входи, – отец Николай открыл дверь своей кельюшки. – Только не обессудь: у меня и сидеть-то негде. Разве что вот сюда, – и подвинул гостю обрубок полена.
Михайло неуклюже присел, обвёл взглядом убогую келью: кровати нет, печь да стол, заваленный свечами, подношением многочисленных прихожан. Перед единственной иконой, на которой Богоматерь молитвенно сложила ладони, яркие огоньки. «Печка не топлена, – подумал Михайло, – а в келье тепло».
– Сестра наказала просить, – начал он, – сынишка у неё болеет, а значит, племянник мой Сашка. По осени оступился, упал в ручей, полдня проходил в мокрой одежонке. А я тебе денег принёс, – и Михайло нервно достал из-за пазухи тряпицу.
Отец Николай отвёл глаза.
– Знаю я, откуда твои деньги, – ответил негромко.
Гость смутился: деньги он накопил, тайком продавая крестьянам монастырские продукты. Но отец Николай, казалось, не хотел это обсуждать: он задумался.
– Ты вот что, – сказал, наконец, – отнеси эти деньги в деревню, Лукерье. Она вдова, детишки у неё голодают. Отдай ей да поклонись от меня.
– Лукерье? – удивился Михайло.
– Да. А как деньги отдашь, так Сашка твой и выздоровеет.
– Да я ж тебе нёс, отец Николай.
– А зачем мне? Я – монах. Ей нужнее.
Из кельи вышел гость озадаченный.
– А помолишься? – напоследок спросил.
– Помолюсь…
В тот же день, с трудом выбрав час, отправился Михайло в деревню. Деньги нёс за пазухой, оборачивался: «Как бы ни обворовали!» Дорога шла лесом, вокруг плотной стеной стояли огромные ели. «Не понесу я ей деньги, – думал Михайло, – на что и ноги зря топтать? Спрячу здесь да место примечу. А потом, будет время, заберу». Ещё немного прошёл. «А вдруг как узнает отец Николай? Люди говорят, он всё видит. Да нет, болтают. Как такое увидишь? Спрячу! Вот и место хорошее: три ели, камень на них смотрит. Не ошибусь».
Так и сделал. Схоронил тряпицу и довольный отправился назад.
День проходит, другой. Деньги-то приберёг Михайло, да только радость от этого недолгой была. Муторно у него на душе, и не уверен, что Сашка выздоровеет. У сестры-то малец – старший, а значит, подмога, опора. А вдруг как помрёт?
Пошёл к отцу Николаю. А у того народу полным-полно. Постоял Михайло, потоптался, да и возвратился на кухню. А ночью сон снится: сестра в чёрной шали Сашку хоронит. Идёт за гробом, рукой держится, а в глазах – такая мука! Губы шепчут что-то, не разберёшь. И вдруг понял Михайло: «Что ж ты, братец, племянника не пожалел?!»
Испугался Михайло, утром вскочил, кликнул помощника печь разжигать, а сам – бегом в лес, к своему месту. Добежал, вспотел весь, озирается. Выкопал деньги и теперь уж твёрдым шагом двинулся в деревню.
Лукерью нашёл легко: люди подсказали. Вошёл, огляделся: бедно живут. Детишек – трое, изба по-чёрному топится, варёным и не пахнет. Развязал свою тряпицу, деньги протягивает.
– От батюшки Николая, – как велено, говорит.
Улыбнулась вдова, бережно приняла подарок, проводила до двери, а потом и молвит:
– Поклонись от меня в ножки отцу-то Николаю.
Назад Михайло шёл легко: сердце успокоилось, лес светлым казаться стал. И вера появилась, что выздоровеет Сашка. Не зря ж люди про отца Николая говорили, что он своей молитвой исцеляет.
Уже к вечеру, проходя мимо кельи старца, увидел Михайло того, с прихожанами разговаривающего. Подходить не стал, а издалека опустился на колени и поклонился до земли.
– Вижу, вижу, – обрадовался отец Николай, – от Лукерьюшки поклон принёс. Вот и славно!
Изумился трапезарь: как отцу Николаю известно стало, по какой причине он, Михайло, кланяется? Так и пошёл к себе, пожимая плечами…
Три месяца прошло. Великий Пост миновал. Зазвучали пасхальным перезвоном монастырские колокола. На Светлой Седмице зовут Михайло из трапезной:
– Иди, сестра к тебе пришла.
Вышел он: народу! Где ж её найти? А она в сторонке стоит, улыбается, цветастая шаль на плечах лежит. Похристосовались, она гостинчики деревенские в руку ему суёт, а он спросить боится о Сашке. Но сестра сама рассказала:
– Старшенький-то болел, ты помнишь, а на Рождество чуть не помер. Да только в ту ночь, что ждали исхода и священника позвали, он вдруг встал здоровым и есть попросил. «Мамка, – говорит, – свари мне яичка!» – сестра рассказывает, а сама плачет. – И уж больше не кашлял. А потом, недельки через две, я во сне старчика увидала, он мне говорит: братца своего, Михайло, благодари, он за твоего сына милостыню подал. Вот оно как…
Михайло и не понял, как слёзы покатились.
– Так значит, здоров Сашка?
– Здоров, здоров, с отцом остался, по хозяйству помогать.
Уехала сестра, не дождалась очереди отцу Николаю поклониться: к нему в эти дни полгубернии пришло!
– Поблагодари его за молитвы, – попросила.
– Ладно уж, сделаю, – ответил Михайло грубовато.
Проводил, вернулся в келью, дверь за собою закрыл и долго-долго, сладко плакал.
Вселенские весы
Проснулась Анна рано, бросилась корову доить, а та молока не даёт, к себе не подпускает. Видно, ослабла, а то и приболела. Как тут быть? Попросить молока у соседки? Смутилась хозяйка: уже не первый раз просит, стыдно опять на поклон идти. Понурилась и пошла в дом. Покрутилась, печь затопила, на детишек спящих взглянула, а затем накинула платок и направилась в центр городка, где был небольшой базар. Прошлась вдоль прилавков, приценилась, поторговалась немного с продавцом и, наконец, купила увесистую бутыль. Молоко-то купила, да все деньги и потратила. Муж на поденной работал, целыми неделями пропадал. Домой возвращался лишь к воскресенью. Тогда-то деньги в семье и появятся.
А пока направилась Анна прочь с рынка, да и повстречала солдата. Едет тот на каталке, ног нет, одни культи из-под полы торчат, а шинель-то грязная! Борода седая, местами чёрная, вся засаленная. Картуз на затылке висит, и только глаза под бровями синие, яркие, словно всё небо в них отразилось. Поднял солдат голову, всматривается в Анну, видно, хочет попросить, да только той и дать-то нечего, головой повела: мол, прости, ничем помочь не могу. Хотела мимо пройти, но вдруг сердце так застонало, засвербело, и слёзы на глаза навернулись. Приостановилась Анна, подумала, а затем кликнула солдата, что уже дальше покатил:
– Стой, братец!
Тот катит, не слышит. Все дёрнулась у Анны внутри. «Ведь я могу его накормить, да согреть, нельзя, чтоб уехал».
– Служивый, да стой же ты!
Удивлённо обернулся солдат, а как лицо Анны увидал, всё и понял. И покатили к дому вдвоём.
Приехали, Анна в угол показала:
– Ты грейся, а я баньку истоплю да одёжу тебе постираю. Походишь пока в мужнем.
– Благодарствую, хозяюшка.
Накормила солдата, отвела в баню, воды нанесла.
– Справишься сам?
– Справлюсь, не впервой.
– Вот и ладно.
Одежду мужа ему дала, бельё замочила и давай шинель его старую стирать. Ткань грубая, вся засаленная, семь раз воду меняла, руки истёрла, плачет, но стирает – больно жалко солдата, что и без ног, и без дома, и без еды. Одинокий, побирается…
Выстирала шинель, возле печки на распялке развесила, чтоб высохла быстрей, и давай солдату постель на лавке устраивать. Только тот отказался.
– Я, – говорит, – в яслях лягу, если можно.
– Ну, как хочешь.
День прошёл. Крутится Анна по дому, да всё думает о солдате. Муж узнает – не похвалит, что бездомного приютила. Ну да ладно, отговорюсь, оправдаюсь. Чай, не каждый день.
Настала ночь. Холодно показалось Анне, и думает: как там служивый в яслях, не отнести ли ему старый кожух? Поднялась – и понесла. А как в ясли зашла, так и испугалась: светится что-то в том месте, где солдат прикорнул. Глянула – и едва не охнула. Светлый, чистый, волшебный, лежал в яслях Ангел! Глаза закрыл, вроде как дремлет, а ресницы шевелятся. Чуть не упала Анна от ужаса и удивления, да только видение недолгим было: минута прошла – и исчез Ангел, только солдат безногий лежит. Всё она поняла, тихо-тихо вышла из стойла и, с трудом дыша, направилась домой.
Наутро ушёл солдат, укатил на своей каталке. Долго сердечно благодарил Анну, а та и слова вымолвить не могла, только надела на него чистую сухую шинель, полы подвернула, чтоб не запачкал, и проводила до ворот.
Вечером в субботу приехал муж. Выслушал рассказ, нахмурился, губами почмокал.
– Ангел, говоришь? А не почудилось?
И встал:
– Покажи, где лежал.
Вместе пошли в ясли, и вот тут, в том самом месте, где солдат ночевал, увидели блеск из-под соломы. Муж наклонился и вытащил… золотую подкову.
Охнула Анна, губы рукою прикрыла от страха, стоит, вся трепещет. А муж и сам побледнел, взгляд на жену перевёл и сказал:
– Вижу, и вправду Ангел.
Денег за подкову получили немало. Тут же купили просторный дом, коров, лошадей. Муж поле присмотрел, где земля хорошая была, и радовался, что теперь не на хозяина работать будет, а на себя.
Так прошёл год. Анна солдата добрым словом вспоминала, ужасалась слегка, но никому не рассказывала. А потом наступила осень, холода, и вот как-то раз утром шла она по делам и видит: катит её солдат. Опять один, полы шинели подвёрнуты, упирается кулаками в землю. Встала женщина как вкопанная, а солдат ближе подъехал и говорит:
– Да это никак моя Анна!
– Я, миленький, я, – шепчет.
– А что ж ты дар речи-то потеряла? Узнала меня?
– Как не узнать. Ты нам подарок оставил, мы теперь богато живем.
– Вот и хорошо. Долг платежом красен.
Молчит Анна, не знает, что и сказать. А солдат прищурился на неё синими глазами и спрашивает:
– Ты, наверно, думаешь, что это было?
– Думала много, да откуда мне знать.
Посерьёзнел солдат.
– Я расскажу тебе, Анна, что в тот день-то случилось. А ты сядь вот здесь на пенёк да послушай.
Примостилась женщина у дороги, каждому слову внимает.
– Бывает так, – начал солдат, – что смотрит Бог на человека и не поймет: хорош тот или плох. И все поступки его кладет на Вселенские весы.
– На что кладёт? – просто переспросила Анна.
– На огромные такие весы. Взвешивает, значит.
– Понятно.
– И вот смотрит Бог и видит: что много добра творил человек, что много и зла.
– Да как же такое бывает?
– А вот как у тебя. Сердце милостивое имеешь, а на деток кричишь, да и руку часто подымаешь. С мужем ругаешься по пустякам. Сплетничаешь, осуждаешь…
– Этим я Бога и прогневила? – едва слышно молвила Анна.
– Ещё как прогневила! Весы Вселенские в тот день вниз потянулись, в сторону наказания для тебя.
Вздрогнула Анна:
– И что?
– А то, что катил я к тебе, чтоб горем тебя наказать: в ту ночь дом твой должен был сгореть дотла. Сама бы спаслась, и дети выскочили б из огня, да только хлебнули бы горя. Но вот ты меня окликнула, в гости позвала, баню истопила – и качнулись весы в сторону милости. Ты думаешь, я смогу забыть, как шинель мою испачканную стирала? Никогда не забуду!
Улыбнулся солдат, и показалось Анне, что снова она видит Ангельский лик. Зажмурилась, головой потрясла:
– Страшно-то как!
– Весы Вселенские – не шутка! Одним словом их можно качнуть. И как часто это бывает мерзкое и страшное слово!
Тут Ангел рукой взмахнул, словно прощаясь, и отчеканил:
– Свои весы ты милосердием качнула.
И, опять упираясь кулаками в землю, покатил.
– Да ты бы в гости зашёл! – растерявшись, крикнула Анна.
– В другой раз, в другой раз. Мне ещё в несколько домов нужно зайти. Не одна ты у меня.
Долго стояла женщина. Подняв голову и устремив взгляд в небо, она представляла громадные весы, на которые день и ночь, день и ночь складываются добрые и злые дела. Весы мудрости, весы справедливости. И кто знает, в какую минуту качнутся они в сторону милости или сурового наказания?
Святой
День едва занимался, когда Серафим вышел во двор. Холодный воздух окутал голову, проник сквозь ветхую ткань поддёвки. Но он только вздохнул.
– Господи Иисусе Христе, – привычно зашептали губы, – помилуй мя, грешного. Господи Иисусе Христе…
Молитва лилась и лилась, согревая сердце и всё тело, а руки соскребали с поленьев примёрзший снег. Набрав небольшую охапку, он нёс дрова в дом, складывал у печурки. Топить он станет потом, когда начнут приходить люди, и не потому, что жалел для себя, а просто, молясь, уже не чувствовал ни холода, ни жара.
Келья отца Серафима была больше, чем бедной: старый стол, чугунок с варевом, две табуретки. Мешковина вместо шубы, на плечах – видавший виды подрясник. Спал он мало, а потому и постели не держал. Прислонится, бывало, к печи – и дремлет, а губы всё повторяют: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя…»
Свет разгорался, взошло солнце. Серафим вымел мусор, достал чугунок и поел холодной похлёбки, которую варил из травы снить. Сладкая травка! Он сушил её впрок, запасаясь на зиму, и приходившим к нему монашкам говорил: «Я сам себе кушанье готовлю. Нарву снитки, в горшок водицы налью – и славное кушанье выходит». До весны лишь этой травой и питался.
Келью себе отец Серафим построил в лесу, в глухом месте, неподалёку от речки, и долго наслаждался тишиной и отшельничеством. Но случилось раз, – а дело ночью было, – слышит голоса, музыка играет, будто целый табор цыганский мимо идёт. Удивился Серафим, слушает, как только вдруг резко раскрылось окно, и огромное бревно влетело прямо в избу, чуть его не убив. Увернулся отшельник, а наутро стал бревно на куски пилить да складывать. Сам в себе дивился: такой ствол и восьмерым не поднять, а нечистая сила – вот, и подняла, и в дом забросила.
Всяко бывало… Как-то люди недобрые на него напали, перевернули всё вверх дном, денег искали да требовали. «Ты монах, к тебе приходят, много накопил!» Отвечал Серафим спокойно, готовясь даже смерть принять: «Не беру я денег, а богатство моё – здесь, горшок в печи». Избили его до полусмерти и ушли. Насилу очухался. Долго болел, но простил, зла не держал. Только Бог Сам, Своею волею, наслал на людей тех пожар: сгорели дома их дотла.
…За дверью раздался шорох. Кто-то стоял на крыльце и не решался побеспокоить, не зная, проснулся ли Серафим. А потому хозяин встал и, перекрестившись, открыл дверь для первого посетителя.
Раньше он жил в затворе, и какое доброе то было время! Дверь плотнее прикроет – и молится целый день, а то книжки читает, Евангелие. А порою так хорошо становилось, что думал: как на небесах! Во всех членах тепло, душа поёт и Бога славит. Да только кончились те времена. Сама Пречистая Богородица в тонком видении явилась и велела прекратить затвор и отныне людей принимать. Свет – он должен светить, а благочестному наставлению и цены нет.
Морщась от боли в колене, он широко отворил свою дверь, впустил мужика – небольшого росточка, худощавого, с испуганными бегающими глазами.
– Батюшка Серафим, отче, благослови! – и бухнулся на колени.
Серафим любовно поднял беднягу и, уже зная, о чём тот хотел попросить, поставил перед собой.
– Лошадок твоих украли? – тихо спросил.
Мужик онемел.
– Не бойся, – продолжал Серафим, – а пойди ты в деревню, что у реки, да отсчитай пятый двор с края. Там своих лошадей и найдёшь. Не болтай, ни с кем не ссорься, а просто отвяжи да иди.
– А ну как забьют?
– Не забьют, помолюсь о тебе.
Мужик кинулся было из избы, да вспомнил и положил на стол узелок.
– Мзды не беру, – отозвался Серафим, – а вот капустки мне надо. Принесёшь?
– Принесу, батюшка, принесу!
– Ну и с Богом!
Как на крыльях улетел мужик, а Серафим улыбнулся и громко спросил:
– Что ж не заходишь, радость моя? Входи, входи. Рад, что к убогому Серафиму тропу не забыл.
На пороге стоял генерал. Лицо смущённое, плечи согнуты виновато, но на устах – улыбка.
– Видно, рано поднялся, чтоб ко мне придти.
– Чуть свет встал, батюшка. Да уж благословите.
О чём беседовал святой со своим давним другом – неведомо, только вышел пожилой генерал со светлым челом, кликнул возничего – и покатил прочь с лёгким сердцем. А Серафим затеплил свечу и трижды поклонился образам.
Народ собирался, уже и на крыльце не стало места, и очередь растянулась до самых ворот. Одного за другим принимал Серафим, для каждого находя слово поддержки и утешения. Кого-то просфорой угощал, кому-то святой водицы испить давал. И выходили от него со слезами умиления на глазах, с дрожащими губами.
– Радость моя! – приветствовал Серафим каждого, будь то отрок, старик или вдовица.
Но больше всего любил, когда приходили дети.
– Сокровища, сокровища мои, – так говорил, обнимая с любовью, и угощал, чем мог.
Ближе к обеду внесли на носилках помещика.
– Давно ли болеешь? – спросил Серафим.
– С прошлой зимы, батюшка, – еле слышно отвечал помещик. – Ноги совсем отнялись.
– Ничего, ничего, жив будешь.
И начал молиться.
– А что ж сестрица твоя, Елена, замуж не идёт? – вдруг спросил.
Удивился помещик прозорливости старца и ответил с почтением:
– Да она думает в монастырь.
– В монастырь – хорошо, да в какой попадёшь. А вот пусть приходит ко мне, я её к своим сироткам определю, в мельничную общину. Там её не обидят.
– Да, батюшка, передам.
– Передай, что ждать её буду.
– Непременно, непременно.
– Вот и ладно. А ноги твои здоровы будут. Останься в монастыре, поговей да причастись Святых Христовых Тайн. А как причастишься – так и встанешь.
Уехал помещик окрылённый, ничуть не сомневаясь в правдивости слов Серафима и силе его молитвы.
А батюшка Серафим прикрыл свою дверь со словами:
– Простите меня, чада, да только сегодня уж принимать не буду: утомился я.
А когда посетители разошлись, стал на колени и долго углублённо молился.
Короткий зимний день подходил к концу. Серафим бросил полено в печку, сел и прищурился на огонь. Тихо и благодатно было в сердце. Он словно взял на себя часть того груза, что несли эти люди, а помолившись, сбросил его с себя, доверив каждого человека Богу.
– Слава Тебе, Господи, слава Тебе! – шептали иссохшие губы.
А душа повторяла: «Слава!»
Затем он придвинулся ближе и прислонился к печи головой. Сейчас он вздремнёт, а затем опять встанет на молитву, чтобы обнять тёплым покровом тех людей, что приходили к нему сегодня, своих близких и весь мир.
Монах
Становилось холодно. Резкий ветер порывами забивался под шубу, пробирался сквозь поддёвку до тела: сухого, измождённого, синего от мороза. Небо серело, и наступающая ночь предвещала вьюгу.
Монах не спешил. Неторопливо запахнулся, крепко затянул ремень и огляделся. Деревня раскинулась перед ним рядом приземистых хуторов, стоящих друг от друга на значительном расстоянии, казавшимися чёрными в синеющих сумерках. Оставалось ещё несколько домов, куда он не успел зайти, и теперь они манили его тёплыми глазами окон.
В каждом из этих домов шла жизнь – мирное, неспешное течение семейного быта с разговорами, игрой детей на лавке, поскрипыванием половиц и потрескиванием дров в печи. Монах любил эту жизнь, но и знал, что не принадлежит ей, а она никогда не будет принадлежать ему. Словно гонимый ветром, идёт он от дома к дому, протаптывая дорожку в снегу, стучась в потемневшие двери, здороваясь, кланяясь в пояс хозяевам, а затем долго сидя гостем в красном углу, ведя почтительную, полную достоинства беседу; иногда оставаясь на ночлег, а иногда, получив на прощание рюмку горькой, снова отправляясь в путь, с чувством гордого удовлетворения встряхивая мешок, в который добрая хозяйка положила вволю сухарей.
Покидая эту жизнь, монах не думал о том, хотел ли он остаться и что заставляет его двигаться дальше, он просто шёл. А уходя, предвкушал те приятные моменты, которые сулит ему возвращение в обитель. Григорий, лучший друг и брат Божьей милостью, охоч до сала, вот и несёт ему хороший кусок, завёрнутый в тряпицу. И Семён, того келья сбоку, тоже обрадуется: ему – яйца, сваренные вкрутую, которым Семён большой любитель. Остальное в трапезную, среди всех братьев поделить. Понемногу и будет, а всё же прибавка к скудной монашеской пище.
Огонёк в ближайшей избе замигал и погас. Устали хозяева, пораньше спать легли: видно, тоже на ярмарку ездили. Ярмарка эта принесла монаху много хлопот, но и радости: не все были дома, но те, что успели вернуться, одарили монаха особо. День-то праздничный, люди навеселе: кто просто от яркого морозного солнца, кто от удачной покупки, а кто и от крепкого штофа. Не все дома, но с утра уже и сыт, и согрет монах, и сумка до отказа набита припасами. А всё же – зайти в тот дом, что с краю, хоть и небогат он с виду, а всё же не помешает.
У окна, затянутого парусиной, постоял монах, прислушался. Вроде тихо, ну да ладно, уже пришёл. Негромко постучал. Никто не отворил, а потому толкнул дверь, сразу окунувшись в тёплую мглу избы, почти не видя ничего из-за полутьмы. А потом, вглядевшись, различил нескольких ребятишек, сидящих на полу с полуоткрытыми от страха и удивления ртами, да слабо чадящую свечу на столе. Больше никого в хате не было.
– А где же мамка? – спросил монах.
Ребятишки застыли. Слабый, тоненький, дрожа-щий голосок ответил:
– В чулане, яблоки набирает.
Монах постоял, плотнее прикрыл дверь, привык глазами к темноте. В эту минуту, неся в руках лу- кошко с ароматно пахнущими яблоками, вошла женщина, вскрикнула, увидев монаха, но тут же и разглядела, засуетилась:
– Входи, входи, брат, гостю завсегда рады.
Он прошёл неторопливо к столу, но перед тем как сесть, перекрестил лоб и низко поклонился вправо, на едва различимую икону. Женщина застеснялась, потянулась подбавить масла в лампадке. Поставила хорошую свечу. Ребятишки уже не пугались, а с любопытством разглядывали гостя. Он подхватил маленького, совсем худого, лёгкого, посадил к себе, поиграл с ним. Хозяйка тем временем загнала детишек на печь и уже вынимала хлеб из полотна, ставила на стол миски, крошила яблоки.
– Да ты не суетись, не голоден я, – сказал монах, и голос его в дымном полумраке прозвучал совсем не сурово.
Женщина замерла на мгновение, а потом села напротив, устало подложила руку под подбородок, глянула на монаха:
– Одна я, вожусь с ребятишками. Никого больше нет.
Он ничего не спросил, но внезапно поднял мешок, развязал узел и достал тот кусок сала, что приготовил для Григория. Она застеснялась.
– Бери, – сказал монах, – и мне люди дали.
Дети жадно смотрели с печи. Хозяйка взяла нож, аккуратно, бережно разделила сало на части, порезала помельче, позвала детей. У монаха тепло стало на сердце, когда увидел дружно жующих малышей и маленького, которому мать, откусывая понемногу, вкладывала в рот кусочки.
Уходить не хотелось. Разморило, расслабило в тепле. Монах вытянул ноги, сбросил с плеч ставшую тяжёлой шубу. За окном вьюжило. Женщина подвинула лавку к лавке, сделав широкой лежанку, и чем-то накрывала сверху. Полусонный, монах следил за нею глазами. И по тому, как она составляла лавки, как делала постель мягкой и удобной, вдруг понял и задрожал мелко коленями.
Почему он не встал, почему не вышел? Словно вдруг мёртвый груз навалился на плечи, и все эти долгие дни, когда он брёл и брёл от деревни к деревне, от хутора к хутору, сейчас обессилили его. Невыносимая усталость придавила к скамье. Он хотел заставить себя, но не смог убежать в морозную ночь, опять стучать в уснувшие окна и, возможно, так и не найти ночлега. И тогда он отвернулся и больше не смотрел.
Свечу потушили, монах снял обувь и лёг. Но, удивительно, уже и не ждал, а словно бы точно знал, что она придёт, что сама только ждёт, чтобы крепче уснули ребятишки на печи…
Она соскользнула неслышно и прошлась по избе. «Сестра», – вдруг подумалось ему. И тёплым наполнилось сердце, захотелось прижать её к себе, но о грехе не думалось, а просто чтоб обняла. Она и обняла, склонившись над ним и уткнувшись в густую бороду, обняла так нежно, словно всю любовь собрала в этом объятии. Гладила по вискам, волосам, жарко переводя дыхание. Он положил её рядом, прижал к себе всю, не думая, не сомневаясь ни в чём, и целовал, целовал, целовал…
Монах остался. Просто остался, потому что, едва проснувшись, почувствовал, что эта жизнь, которая, как раньше казалось, ему не принадлежала, теперь может быть и его жизнью. Остался, потому что уже с утра она заполонила, захватила его бурной волной яркого шумного быта со звонким стуком пустых вёдер, мычанием коров, вознёй ребятишек. С голосом той, что согревала его ночью… И то, что ещё вчера казалось невозможным – что он не вернётся в монастырь, к братьям, вдруг стало простым и доступным. Он не засобирался утром, а вышел на просторный двор, огляделся и, громко ухая и смеясь, наколол дров на неделю, распарился, разгорелся на солнце, затем выскоблил начисто пахнущую несвежим бочку, наполнил её водой, выманил ребятишек на воздух. Женщина сновала тут же, молча, не говоря ни слова, но он все время видел её спину, и как она наклонялась, и сладкие воспоминания бередили сердце. Монах остался, потому что вдруг что-то открылось в нём самом, спали оковы, перестали давить им же самим наложенные на себя обеты. Освобождённый, он почувствовал себя счастливым и лёгким, как птица, и понял, что никуда не пойдёт, а вот тут и останется и будет мужем этой женщины.
Неделя прошла незаметно. В обыденной суете позабыл монах, кто он и куда стремился, а казалось, что вот тут и жил изначала, в этом доме, среди этих детей, рядом с этой женщиной. Легко и отрадно было ему, и не вспоминались, словно никогда и не существовали, монастырь, и перезвон колоколов, и тот особый, неповторимый стиль жизни, к которому он привык и который, как думал, никогда и ни на что не променяет. Перемена произошла так внезапно, что захватила его полностью, даже удивиться не успел, а уже весь влился в крепкий быт крестьянского дома.
Раннее утро будило его перекрёстным криком петухов, он спохватывался, вскакивал, спешил кормить, чистить, поить. Мужицкая сила его, невостребованная ранее, была теперь – ой, как нужна, и он чувствовал это и гордился собой. Всё его нутро, до этого спрятанное, жёстко заклёпанное в рамки суровой дисциплины, теперь распахнулось и ожило. Он и сам чувствовал, что живёт, и умилялся, думая об этом, и ещё более смягчался, глядя на детей и на женщину.
Она же, сама того не ведая, сводила его с ума ночными ласками, тихими, заводящими в омут такого блаженства, о котором он и не мечтал. Он и ждал этих ночей, предчувствуя тайное, трудясь рядом с ней, почти не разговаривая, потому что и слов было не нужно. «Сестра, Марьюшка!» – шептало сердце. Он так и любил её: как сестру и как возлюбленную, не умея понять и разделить.
Всё было хорошо, и вопрос «что дальше» не волновал, не тревожил монаха. Он ни о чём и не спрашивал, просто жил.
Перед воскресением женщина принесла ему новую одежду: штаны, рубаху. Улыбнулась, положила на лавку, ушла. Взялся монах переодеваться. Скинул подрясник, и вдруг оборвалось что-то в душе. Переодевается, а руки дрожат. Не обеты вспомнил, а что-то в нём самом затрепетало, запрыгало. «Как же это? Что же я делаю?» Почуял монах, что вместе с одеждой от чего-то в себе отрекается… Встал, по избе прошёлся, опять подрясник надел. Легче стало. Сел он тогда в угол, тот самый, в котором в первый вечер сидел, и задумался. О том, кто он и куда забрёл. Не понятно как, только увидел вдруг, что чужое всё, не его. Как же это? Огляделся. Дом как дом, стол, лавки, икона в углу… Вот оно! Икона! Лик Божий смотрит на него, в глазах – смирение. А у него нет смирения, нет и не было, потому что если бы смирение было, то радовался бы он той жизни, которую сам выбрал и о которой Богу обет дал. Нет, однако, другого захотел, запретного. И дело не в том, что нельзя ему жениться и семью иметь, а в том, что силы нет идти по пути, который изначала сам на себя взял. Нечестность, нечистота перед Богом получается. Не перед людьми: люди поболтают и забудут, и не перед собой даже, ведь себя всякий оправдает. Перед Ним, Всевидящим…
Плохо стало монаху. Закручинился он. Наклонился, достал свою сумку из-под лавки, встряхнул: пустая ли? – и пошёл. Не скрываясь, не прячась от женщины, а просто вышел из избы и направился прямо к дороге. Она не кричала, не плакала, не держала. Смотрела в спину остановившимися глазами. Любила. И он любил. И деток, и её саму, и весь этот дом, ставший ему родным. Но сильнее этого вдруг выросла в нём верность и стыд за то, что верность эта колеблется, и крепкое желание следовать за верностью до конца.
Он шёл и шёл, удаляясь от хутора. Дорога кружила, петляла, развозила под ногами жидким месивом. Но твёрже шагал монах. Особая духовная сила поднималась из глубин его существа и разливалась по всем членам. Он словно бы вспоминал её, эту силу, присущую ему всегда и составляющую его истинное «я». Потерянная в последние дни, она вновь возвращалась, и монах ликовал, ибо только сейчас узнавал себя настоящего, каким был всегда и каким привык себя ощущать. Распрямлялись плечи, глубже вдыхался острый предвесенний воздух. Хорошо становилось на сердце. И уже не стыд и горечь, а радость крепла в нём: радость, что понял свою ошибку и что хватило мужества исправить её.
Конечно, грех – он и есть грех, но главное, понимал монах, было не в женщине, – о ней он думал с теплом, – и не в том, что остался и жил там неделю. А в том, что в самом себе, в духе своём, изменил собственному пути. И потому сейчас, набирая шаг и устремляясь вдаль, ощущал себя монах вдвойне сильным, готовым всё преодолеть во славу Божью.
Уже вечер надвигался, когда присел монах отдохнуть. Просветлевшими глазами оглядел поля и окрестности. Не много человеку и надо, подумал. Малым обходится человек. Но пуще всего, важнее всего на свете – идти, не меняя шаг, по своей дороге!
Лодочник
Утро накрыло реку густой полосой тумана. Неживые, стояли камыши. Река застыла, и всё вокруг стало казаться мёртвым.
Он отвязал лодку от причала, бросил ветхую верёвку под сиденье и взялся за вёсла. «Кто первый сегодня?» – подумал вяло, и вгляделся в пустующий берег. Туман рассеивался, внезапный легкий ветерок понёс клочья облаков прочь.
На берегу показалась фигура: унылый длинный балахон, согнутые плечи. Лица не видно: многие из приходивших прятали свои лица, словно стесняясь лодочника, – последнего свидетеля их страданий. Приходили молча, молча садились в лодку и молча покидали её.
Но этот человек уже издали начал улыбаться, и это насторожило лодочника. «Сейчас начнёт торговаться, – догадался он, – станет просить, умолять, будто что-то зависит от меня». И досадливо поморщился.
Человек приближался. На его лице виднелись следы искупления – тех последних минут, когда он понял, что смерть неизбежна, и по-настоящему испугался. Словно полосы боли изрезали все черты, они исказились, и было трудно понять, молод или зрел человек.
– Здравствуй, лодочник! – поприветствовал он и согнулся, желая прыгнуть в лодку. – Перевезёшь на тот берег?
– Конечно. Для этого я здесь.
Человек наклонился ниже:
– А может, оставишь меня? Поможешь вернуться назад? Я хорошо заплачу!
И начал шарить по карманам.
Лодочник покачал головой:
– Раз ты здесь, нужно переправляться. Обратного пути нет.
– Но говорят, что есть четыре минуты, и если бы ты мне помог…
Он замолчал, потому что река вдруг скрутилась, подняла свои волны и угрожающе потемнела.
– Раз пришёл, должен сесть в лодку, – повторил лодочник очень спокойно. – Обратного пути нет.
Человек с тоской оглянулся.
– Не смотри назад, – посоветовал лодочник, – это сделает расставание ещё больнее.
– Ты знаешь, кого я оставил? – спросил человек. – Они любили меня!
– Тогда начинай молиться о них.
– В такую минуту?!
– Для молитвы нет неподходящего времени. Лучше признайся, что не умеешь этого делать.
Человек погрустнел и нерешительно ступил в лодку.
– Не бойся, – подбодрил его лодочник. – Для тебя дорогая будет лёгкой.
Они плыли и плыли, а противоположный берег всё не появлялся. «Его судьбу решают, – не спеша думал лодочник, – а бухта всегда подождёт». Он знал, что затормаживает их путь: душа самого человека, которая не была ни доброй, ни злой. Жил как все, где-то посередине, часто не отличая чёрное от белого. Потому и берег отдалялся. Человек грустнел всё больше и больше, его голова склонялась, а взгляд словно потух.
– Не печалься, – тихо сказал лодочник и сложил вёсла. – Просто попроси прощения.
– У кого? И за что?
– Разве ты не знаешь?
– А, ты про Бога… Я неверующий.
Река несла свои воды, лодку покачивало, стояла тишина.
– А почему ты перестал грести? – вдруг беспокойно спросил человек.
– Этого не требуется. Я – только перевозчик, а берег сам притягивает тебя.
– И ты не знаешь, куда мне нужно? Как это может быть?
– Откуда мне знать! Разве я наблюдал за твоей жизнью? Разве взвешивал поступки, мысли и слова?
– Что ты такое говоришь? А кто наблюдал, кто взвешивал?
– Те, кто поставлены делать это.
– Ты хочешь сказать, что всю мою жизнь сейчас положили на весы?
– Ты догадлив, – слегка удивился лодочник, – это именно так.
– И что же будет?
– Тебе определяют берег.
– Берег… – протянул человек изумлённо. – И берег может быть разный?
– Конечно. Сколько людей, столько и берегов.
Ужас появился на лице человека.
– Не хочу! Вези меня обратно!
– Я не могу. Мы на середине реки. Неужели ты вправду думаешь, что от меня что-то зависит? Я лишь тот, кто подаёт лодку, а остальное – сам человек!
Бедняга выслушал эти слова, упал на корму и закрылся руками.
– Нет, нет, – твердил он. – Это несправедливо!
– Что же несправедливо?
– Я не знал, не догадывался!
– Ты не знал, что существует воздаяние?
– Меня этому не учили!
– Мог бы понять и сам. А потом, столько книг говорят об этом!
– Я хочу обратно, всё исправить! Дай мне шанс!
Лодочник думал.
– Если обещаешь пересмотреть свою жизнь, я отвезу тебя обратно. Но ты должен очень, очень стараться!
– Обещаю! Буду стараться!
– Тогда…
И он опять взялся за вёсла. Неведомо как, лодка развернулась и медленно пошла назад.
– Ты же сказал, что от тебя ничего не зависит, – вдруг вспомнил человек.
– Ничего. Но если в тебе появилось раскаяние, то и приговор смягчается. Река слышит нас.
Человек поёжился, глянул в воду и молвил:
– Вода посветлела…
– Конечно. Потому что просветлела твоя душа.
Они приближались к берегу, от которого отплыли час или два назад.
– Ты всерьёз намерен исправиться? – спросил напоследок лодочник. – Если это не так, то следующий раз будет ужасным.
Вместо ответа человек тряс головой. А когда лодка уткнулась носом в песок, резко вскочил и прыгнул на землю.
– Что я должен тебе?
– Найди в себе веру, – устало молвил лодочник, – хотя бы каплю веры.
– Хорошо, я постараюсь.
И торопясь покинул берег.
Лодочник улыбнулся: «Кто знает, – подумалось ему, – возможно, он и в самом деле постарается». И взглянул вверх. Солнце пряталось, как всегда, давая легкий рассеянный свет. «Твои четыре минуты истекли, и мне хотелось бы верить, что они не прошли для тебя даром. Помни: в другой раз и этих минут может не быть».
В этот момент, словно соглашаясь, река плеснула водой. «Ну что, кто там ещё?»
К берегу приближался человек. Он не смотрел на лодочника, не улыбался, и торговаться не хотел. Просто сел в лодку, уставился в резко потемневшую воду и потянулся к веслам.
– Это не твоя работа, – отстранил его лодочник.
– Знаю. Ты не помнишь меня? Год назад, на этом вот месте, ты дал мне второй шанс.
– И что?
– Да ничего, ничего я не сделал, – досадливо скривился человек. – Выздоровел – и продолжал жить по-прежнему. А потому брось свои весла, и пусть берег сам притянет меня.
Они плыли молча, не произнося ни звука, а вода чернела всё больше и больше, и глубокий омут затягивал лодку в огромный водоворот. Потом вскинулась волна – и человека не стало. Лодочник посидел, покачиваясь в опустевшей лодке, и медленно поплыл обратно.
Он перевозил их – молодых и старых, отчаявшихся и не потерявших надежду, и каждый раз удивлялся тому, как берег сам выбирал место, сам притягивал, произнося приговор. Маленький мальчик, которому не исполнилось и трёх лет, вдруг поднялся высоко к небесам и исчез в сияющей дали. Его смех долго носился над рекой. Глубокий старик, серьёзный, набожный, был схвачен какой-то силой и на глазах изумлённого лодочника превратился в яркий шар. А женщина, воспитавшая своих детей в правде и любви, лёгким шагом поднялась к невесомому дворцу, где летали небесные птицы. День клонился к вечеру, берег пустел.
Лодочник подсчитал умерших. «Двенадцать. Сегодня двенадцать. И лишь трое поднялись вверх». Он закрыл глаза и вспомнил их лица. Долго сидел, тихо молясь, а затем вынес вёсла. Он ляжет спать здесь же, на берегу, и всю ночь будет слушать, как тихая речная волна бьёт в его лодку.
Ярмарка
На ярмарке было шумно. Высокие клоуны на длинных деревянных ногах, яркие кафтаны зазывал, разноцветные полотнища палаток.
Петруша стоял, раскрыв рот, и наслаждался каждым мигом. Он представлял, как прокатится на весёлой карусели с лошадками, или съест ватрушку с белой творожной начинкой, или зайдёт вот туда, где за плотной занавеской слышался смех и хлопанье зрителей. Представлял, но позволить себе не мог ни полюбоваться на силачей, ни полакомиться ватрушкой: отец не дал ему денег. Семья, состоявшая из пяти человек, жила бедно, а потому, отправляя его на ярмарку, отец прятал глаза.
– Пойди, сынок, посмотри, – тихо приговаривал он. – Хоть посмотри…
И Петруша смотрел. Восторженно, во все глаза и во все стороны. Наверное, именно поэтому он заметил её, маленькую монетку, оброненную кем-то и втоптанную в грязь. Раскрыв от изумления рот, Петруша поднял монетку, вытер об себя. И тут же понял, какой он счастливчик: ведь теперь он мог, да, мог, но только что-то одно – или поглазеть на силачей, или прокатиться на карусели. Или съесть пирожок. Он думал недолго и остановился на последнем. Твёрдым шагом подойдя к торговке, он купил пирожок и уже собирался сунуть его в рот, как вдруг заметил мальчишку. Тот стоял рядом и точно так же смотрел на ватрушки, как сам Петруша – минуту назад. Только смотрел.
Петруша знал этот взгляд, а потому аккуратно разделил пирожок пополам и протянул мальчишке.
Потом он останется стоять, любуясь на чудеса ярмарки, почти не ощущая сытости, но очень до-вольный. И не узнает того, что в тот момент, когда он отдал часть пирожка незнакомому мальчику, всё изменилось.
Жизнь, эта надменная госпожа с суровым челом, улыбнулась…
Молодой повеса, идущий к своему приятелю, нечаянно зацепился ногой за прут и порвал сапог. Он посмотрел вокруг и увидел вывеску сапожника. Повеса вошёл, попросил быстро зашить сапог. Расплатился щедро, по-царски. И весело пошёл дальше. А отец Петруши вытер руки, убрал деньги, но одну монетку положил в карман. Когда сын вернулся, он достал её и сказал:
– Завтра сходи, сынок, полюбуйся на ярмарку.
Засыпал Петруша счастливым: он видел во сне, как катается на каруселях, и опять покупает ватрушку, и смотрит на силачей.
На ярмарке было шум
Город
Тихий шелест ветра, полуденный зной, солнце, слепящее глаза, и над всем этим – марево, кучи пыли и песка. Таким был его сон: трепещущим, нервным. В который раз Растус мучился этим сном, переживал его снова и снова, как будто не было достаточно длинного, долгого дня! Да, день в этой стране тянулся мучительно долго.
Они пришли сюда по приказу императора Тиберия, пришли, чтобы установить твёрдый римский порядок в дикой земле, но, к своему удивлению, нашли города и селения, источники вод, а также высокий, богатый, пышно устроенный Храм. Женщины, загадочные и таинственные под своими покрывалами, словно дразнили солдат, а мускулистые, сухощавые иудеи внушали смутное беспокойство. Сколько лет прошло? – Уже пять. Да, почти пять лет он изнывал от жары, пил горькую, часто соленую воду, а в день выплаты жалования получал гроши. Но за этим днём полагался отдых, и их отпускали в город. Как он любил этот город и как ненавидел его!
Утро настало. Растус быстро съел свою порцию ячневой каши, остро приправленную чесноком, и плотнее пригнал доспехи: никто не знает, чем обернётся сегодняшняя прогулка, а потому лучше быть во всеоружии. Показался центуриону, чтобы подтвердить разрешение покинуть лагерь, и направился по дороге к ближайшим воротам. Поднялся, считая ступени, и под шум проезжающих повозок вошёл в Иерусалим.
Город обтекал его справа и слева: разносчики хлеба – на их лотках благоухали тёплые, ароматные питы, и огромные, и величиной с ладонь; нарядные в богатых одеждах левиты; многочисленные ремесленники, торопящиеся открыть свои лавки, а также нищие – оборванные, с седыми страшными бородами, спешащие неизвестно куда. Растус крутил головой, сжимал рукоять меча и напряжённо вглядывался: командиры советовали солдатам не терять бдительности и помнить, что иудеи коварны, могут убить исподтишка. Но скоро отвлёкся и, влекомый обаянием запахов, влился в толпу, стал единым с нею и перестал ежеминутно оглядываться.
– Вы слышали? – звучало повсюду, и он вслушивался, с трудом разбирая незнакомую речь, словно жаждая приобщиться, понять, о чём толкуют горожане, что волнует их. – Ночью схватили пророка, того, кто учил в Храме. Его будут судить.
И толпа, сделав круг, спешила куда-то по узкой извилистой улице.
Растусу дела не было до пророка, а потому он выпил немного вина в знакомой лавчонке и двинулся вверх. Зашёл в оружейный магазин и просто, без желания что-то купить, долго рассматривал мечи и кинжалы, пробовал остриё, взмахивал коротко и грозно. Наконец, наскучив продавцу, покинул лавку и устремился дальше. Но здесь начиналось настоящее столпотворение. Множество людей, крича что-то непонятное, с яростными и злобными лицами, вели согбенного человека. На плечах того лежал крест. «Распятие», – равнодушно подумал легионер и хотел пройти мимо, но в эту минуту бедняга упал и уронил крест на камни мостовой. «Не донесёт», – подумалось Растусу, и, раздвинув толпу, он быстро выбрал глазами крепкого парня, по виду земледельца, и ткнул в плечо:
– Возьми крест.
Тот дёрнулся, но не посмел ослушаться и, приступив, поднял тяжелый крест на свои широкие плечи. Осуждённый вдруг обернулся и с непонятным выражением взглянул на Растуса. Что хотел он сказать этим взглядом? Поблагодарить? Или просто удивился тому, что незнакомый солдат вмешался? Трудно сказать…
Растус не стал следовать за толпой, а свернул в один из маленьких магазинчиков, где продавали мази и благовония. Он долго примерялся, принюхивался к сладким каплям драгоценного мирра, незаметно перебирал свои деньги, и, наконец, купил крошечный пузырёк. Он повезёт его домой, спрятав в своей коробке, и подарит Леоне. Лишь бы она дождалась его. Выйдя из лавки, долго с улыбкой вдыхал тоскливо-щемящий запах, мечтал, вспоминал, пока не услышал: