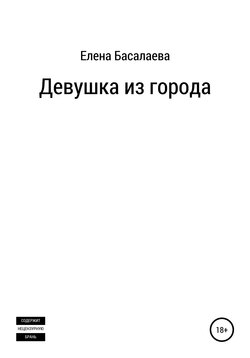Читать книгу Девушка из города - Елена Михайловна Басалаева - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление«Я видела страдания во тьме, но я также видела, как в самых неожиданных местах рождается красота»
м/ф «Тайна Келлс»
1. Лето первое
Мама и тётя
Каждый год, когда кончались уроки, были сданы учебники и отработана практика, я уезжала в лагерь. Как ребёнку матери-одиночки, мне полагалась бесплатная путёвка. Полагалась, однако, до четырнадцати лет включительно, а после десятого класса мне уже было пятнадцать с половиной. Шансов, что в таком солидном возрасте меня опять пригласят петь отрядные песни и маршировать на ужин в «Бирюсинку» или «Сказку», не оставалось никаких.
Дома заняться было нечем. Десятый класс благополучно – ну и пусть, что с четырьмя тройками за год – остался позади. Одно время, ещё весной, я начала подумывать, что пора завязывать со всей этой школой и пойти получать какую-нибудь профессию. Хотя бы, например, повара. Кормить людей. Разве не полезное дело?
Я даже заикнулась об этой своей задумке маме.
– Мам, а что, если я заберу документы прямо сейчас, не пойду в одиннадцатый и буду учиться на повара?
Она поморщилась, как от какого-нибудь неприятного звука.
– Чего?..
– Ну, поваром стану, там, ПТУ закончу…
– Чего, чего?
Чувствуя себя на редкость глупо, я повторила:
– На повара пойду, в училище выучусь…
Мама подняла глаза к потолку и произнесла только одно слово, зато с чувством:
– Гос-споди!
– Я знаю, что не очень хорошо готовлю… Так ведь там научат. Целых два года учиться. Практика же будет… – залепетала я.
– Сиди уже! – внезапно крикнула мама. – Чушь какую-то мелет. Повар с шести утра на ногах! Картошку путём пожарить не можешь. В школу пойдёшь. Не выгнали, и слава Богу. К репетитору по математике будешь ходить.
Слова были привычные, но всё-таки мне стало обидно.
– Я ещё суп из сайры умею варить! И песочное печенье мы с Ольгой делали по книжке!
Я закончила десятый класс и весь июнь томилась дома.
Мама была постоянно чем-то занята. Даже сейчас, в отпуске, она перебирала, протирала и перекладывала на другие места всяческие нужные вещи, вычищала грязь на обоих балконах, кипятила в громадной кастрюле воду, когда отключали горячее водоснабжение, и делала массу других полезных дел.
Она всегда работала, а мне долго отводила роль наблюдательницы. «Смотри и учись!» – советовала мама. Я и вправду смотрела, но большего мама мне не разрешала, дабы я ничего не испортила, не разбила, не разлила. Но в седьмом классе мама как-то до обидного внезапно стала требовать приготовленной еды, чистого пола, глаженого белья. Понятое дело, что ничего такого я не умела, хотя и смотрела на то, как это делается, целые годы. К тому же я привыкла, что сравнительно уютное существование мне всегда обеспечивает некто пусть вредный и ворчливый, но по-своему заботливый, и не могла привыкнуть к мысли, что этот порядок изменится.
Всё же, видя, что мама злится и упрямо требует от меня хозяйственных дел, я вооружилась книжкой «Для вас, девочки» и по ней стала учиться готовить простенькие салаты, жарить картошку, стирать носки и даже мыть полы. Я старалась, но мама обычно была недовольна. Однажды, когда я мыла обувь в коридоре, она начала кричать, что смотреть не может на это безобразие, выхватила у меня тряпку, пару раз больно хлестнув меня ею, велела убираться прочь и принялась домывать всё сама.
Готовить мне, впрочем, понравилось, и мы с подружкой Ольгой, вооружившись книжками, собирались у неё дома и колдовали на кухне. Первые блины пришлось выбросить собакам, песочным печеньем можно было заколачивать гвозди, зато однажды мы испекли такие шедевральные конверты из слоёного теста с сыром, что Ольгин отец съел сразу четыре штуки. Кроме готовки, мы, как тогда было модно, плели разные «фенечки» из бисера, но в праздники и каникулы в основном, конечно, занимались дураковалянием. Мы звонили по телефону и говорили на разные голоса, разыгрывая незнакомых тётенек, шарахались по улицам, переделывали на свой лад заданные в школе стихотворения и рассказы и потом хохотали над этими пародиями.
Мама у меня вставала раным-рано даже в выходные и работала практически всегда. С восьми до двух она трудилась на основной работе, с трёх до шести подрабатывала в детском центре, после ужинала дома пельменями или варёной овощной смесью, а в восемь часов отправлялась мыть полы в небольшом офисе на первом этаже соседнего дома. В эту контору я частенько ходила вместе с ней, и по сей день слово «офис» у меня ассоциируется с мусорными вёдрами, пылесосом и тряпкой для пыли, с которой я ползала по верхам шкафов.
Мама жаловалась на то, что ей никто никогда не помогал и не помогает, но в то же время (как я стала понимать лет с двенадцати) гордилась этим. Даже вернувшись домой где-нибудь в половине десятого, она долго не ложилась спать: стирала и развешивала бельё, ставила варить курицу для супа, а иногда проверяла мою школьную сумку. Все самостоятельные работы на листочках, если там стояли двойки или тройки, я предусмотрительно выкидывала, но из тетрадей вырывать листы не рисковала, и тут-то мне попадало. Обычно несчастная тетрадка летела мне в голову с нелестными комментариями о моих умственных способностях. В воскресенье я покорно садилась за уроки, делала задания, в которых сколько-нибудь смыслила, а те, в которых не смыслила, всё равно выполнить не могла, и поэтому с отрешённым лицом сидела за раскрытой книгой, пока мама рядом смотрела телевизор. И мечтала о своём, о девичьем.
Но больше всего я радовалась, когда приходила тётя Люба.
На самом деле она, конечно, не была для меня никакой тётей. Всего лишь маминой приятельницей. Мама сама говорила, что подруг у неё нет, потому что подруг имеют только те, у кого слишком много свободного времени, но всё-таки две хорошие знакомые у неё были. Я звала их тётей Томой и тётей Любой.
Тётя Люба жила в том же самом подъезде, что и мы с мамой, в такой же однокомнатной квартирке. Дома у неё стояли ничем не примечательные мебельный гарнитур и холодильник «Бирюса». Она покупала помаду того же цвета, что и мама, ела те же молочные сосиски и колбасный сыр, ездила в таких же автобусах и надевала на работу совершенно такие же, как мама, чёрные туфли-лодочки.
Но насколько же она отличалась в моих глазах от мамы, да и вообще от всех остальных людей!
Любовь Ивановна казалась мне очень красивой, хотя я никогда не могла бы точно объяснить, почему. Она была невысокой, полноватой, с большой грудью, и постоянно пыталась худеть. Но я считала, что худеть тёте Любе совсем не обязательно – она была сильной, гибкой, двигалась как-то очень ловко и гармонично.
У неё не было денег на дорогие украшения, и она покупала себе бижутерию из поделочных камней или вовсе пластмассовую. Бусики, серёжки, колечки были для неё как игрушки для ребёнка. Какую-нибудь очередную безделушку она показывала мне, хвасталась, примеряя, и в её зеленоватых глазах сверкали лукавые искорки. Но особенно я любила её голос: из него струилась какая-то магия; слушая тётю Любу, хотелось, чтобы она подольше была тут и продолжала говорить, причём неважно, что.
Она иногда забывала вещи. Бывало, что опаздывала. На большом столе, где Любовь Ивановна кроила одежду (она работала швеёй на дому, хотя по образованию была учительницей математики), часто валялись разные лоскуты ткани, булавки, нитки. В квартире у тёти Любы вообще никогда не наблюдалось идеального порядка, который так старалась вести у нас моя мама. Уборка у неё была быстрой: одной и той же тряпкой она могла протереть окна, потом стол, потом пол, а после всего вытряхивала с балкона коврик.
Однажды мама попросила её помочь с поклейкой обоев в коридоре. Тётя Люба заверила, что в этом деле она спец, и управилась за пару часов. Отужинала у нас, нахваливая мамину стряпню, и счастливо отправилась домой, не слыша, как мама причитает над криво обрезанными снизу полосками и вздувшимися пузырями.
У тёти Любы не было детей: один раз, как мне рассказывала мама, она родила мёртвую девочку, потеряла много крови и с тех пор не могла иметь ребёнка. У неё были только племянники от братьев и сестры, да ещё я.
Она была рядом с тех самых пор, как встретила мою маму из роддома. Мама считала, что я недоедаю, допаивала меня овсяным отваром, а оставшуюся кашу, чтобы не выбрасывать, доедала тётя Люба. Потом тётка ходила для меня за кефиром на молочную кухню. Ещё позже – шила наряды на Новый год.
Но сильнее, чем Новый год, я ждала тёти Любины дни рождения. Я звала маму спуститься на пятый этаж как можно раньше, чтобы подольше подышать воздухом предвкушения праздника, побыть среди всех этих улыбчивых приятельниц тёти Любы – не таких красивых, как она, но тоже по-своему славных. Некоторые из них приходили с мужьями, и после ужина всегда были танцы. Если ставили что-нибудь весёлое, я тоже плясала, как могла, или (когда была поменьше) просто-напросто бегала от радости из комнаты в кухню. Если ставили музыку медленную, то садилась на диван, обнимала колени и заворожённо смотрела на то, как танцуют взрослые. Тётя Люба обычно танцевала со своим Рустамом. Я была в курсе, что они не женаты и не живут вместе, а только встречаются, но почему это так – не знала, да никогда и не интересовалась. С меня было достаточно, что дядя Рустам почти такой же весёлый, как тётя Люба, и, кажется, любит её. Мне очень хотелось, чтобы мамину подругу любило как можно больше людей.
Я замирала от тихого восторга, когда на этих днях рождения тётя Люба выводила меня за руку из-за стола и шутливо объявляла:
– Ну, а теперь, дамы и господа, товарищи, выступает народная артистка Октябрьского района Анастасия Инякина!
Совсем маленькой, лет до восьми, я лихо наяривала Азизу:
– Милый мой, твоя улыбка
Манит, ранит, обжигает,
И туманит, и дурманит,
В дрожь меня бросает!
Меня и правда бросало в дрожь – понятное дело, не от милого, которого ещё быть не могло, а от сладкого волнения, от того, что на меня смотрят люди и дарят мне свои улыбки, взгляды, нежность, называют Настенькой…
Тёте Любе тоже нравилось петь, но получалось у неё не очень стройно. Гораздо лучше она танцевала цыганочку под музыку из «Жестокого романса» или какого-то неизвестной мне мелодии с магнитофонной кассеты. Гости хлопали ей в ладоши, потом тётя Люба, царским жестом взмахивая бордовой с кистями шалью, кричала: «Танцуют все!», и мужчины принимались притопывать и кружиться вокруг неё, так что в шкафу вздрагивали и позванивали рюмки. Тётя Люба манила, кружила, лихо притоптывала каблучками красных туфель. Воздух комнаты насыщался запахами пота и разгорячённых тел, одеколона и духов, душистых роз и сваренного кофе. Цыганский хор рвался наружу из музыкального центра, ему вторили порывистые возгласы мужчин и женщин, и в хмельной круговерти праздника моё взволнованное, колотящееся сердце чуяло какую-то безумную попытку преодолеть, прорвать этим гомоном, этой пляской мрачную темноту давившей в окна январской ночи. Музыку ставили по два и три раза, но рано или поздно обессилевшая хозяйка падала на диван, вытирая влажное раскрасневшееся лицо, и вслед за ней все другие останавливались тоже. Потом румяная, немного захмелевшая тётя Люба наливала мне, наравне со всеми гостями, кофе, приносила торт. За тортом одна из подруг Любови Ивановны, маленькая женщина с чёрными глазами, пела песню про город золотой, кто-нибудь обязательно читал стихи, кто-то рассказывал про своих детей. Наконец наступала пора разъезжаться, и гости, обнимаясь в прихожей и желая ещё и ещё раз имениннице всяческих благ, уходили один за другим в морозную чёрную стынь, до следующего праздника.
Я мечтала, что, когда вырасту и начну зарабатывать деньги, непременно принесу тёте Любе самый лучший подарок, что-нибудь такое, чего достойна только она. Пока что я рисовала ей пышные красные розы на сложенных в виде открытки листках.
До шестого класса мама проверяла все мои уроки, а математику и вовсе делала наполовину сама. Но после того, как она устроилась подрабатывать в офис, даже у неё не хватало сил на то, чтобы объяснять мне формулы и графики. Я стала ходить по вторникам и четвергам заниматься к тёте Любе.
Мы учились с ней два года, а потом почему-то прекратили, и после этого встречи с тётей Любой стали до обидного редкими. Она почти не заходила к нам – наверное, в её насыщенной жизни и без нас было много интересных дел. Даже когда мама случайно сталкивалась с ней в магазинчике или возле подъезда, они перекидывались лишь несколькими фразами.
– Что тёте Любе до наших проблем, – стала говорить мама. – У неё жизнь другая, детей нет. А у меня ребёнок, ты. Она не поймёт никогда, что ребёнок – это всё!
– Но у неё же есть племянники, – возражала я.
– Это другое. Пришла, поводилась, в цирк сводила – это совсем другое. А ночей не спать, лечить, учить, одевать…
Я не слушала мамины рассуждения. Только грустила.
Моя эльфийская родина
И всё-таки в то самое лето она пришла. Я узнала её ещё в коридоре по стуку маленьких каблучков, и едва удержалась от того, чтобы не выбежать ей навстречу, как в детстве.
– Здрасьте, девочки, – непринуждённо бросила тётя Люба, ставя сумку с затейливой вышивкой на тумбу в коридоре. – Как живёте?
– Живём, хлеб жуём, – отозвалась поговоркой моя мама.
– Мармеладки не хотите?
Она извлекла из велюровой сумки шуршащий разноцветный пакетик и вопросительно посмотрела на нас. Мама пригласила её ужинать:
– Заходи, Любовь, давно ты у нас не была. Пойдём, поедим, только разносолов-то у меня нет никаких.
Тётя Люба шутливо скривила губы и махнула рукой:
– Знаю я тебя, Маша, у тебя всегда всё вкусно.
Готовила мама и вправду отлично: пюре у неё всегда было воздушное, котлеты – с приятной корочкой, салат нарезан не крупно и не мелко, вишнёвое варенье без косточек.
– А я в тиятре была, – похвасталась тётя Люба и, нарочито коверкая слова под простонародную речь, чтобы веселее было слушать, стала рассказывать. – Видала там спектакль «Филумена Мартурано». Значится, был там такой мужик – Доменико Сориано, любил он по молодости лошадей, ну и по бабам был ходок. И взял он как-то полюбовницу Филумену, а через два года законная евонная супружница скончалась. Тут Филумена думала, что Доменико её взамуж возьмёт, ан не тут-то было. Он всё по скачкам, по Лондонам-Парижам, а она его делами ведала.
Мама невесело усмехнулась:
– Вот, вот.
– День за днем, а за зимою лето, так и годы пробежали. Оказалось, что у Филумены три сына – сын, да один из них от ентого Доменико. К тому времени он наконец-то понял, что любит Филумену, да и говорит ей: который сын мой? Один водопроводчик, другой магазин держит, третий рассказы пишет… Все дети удались. И не сказала Филумена, который сын-то евонный. Я, говорит, если скажу, два других будут в обиде. Доменико тогда и говорит: сочетаемся с тобой законным браком, а дети все будут нашими, чужих детей не бывает. Прекрасная пьеска!
Мама хмыкнула:
– Это, Любовь, в Италии твоей или где бывает. А у нас этих папаш с собаками ищут. Не то, что чужих, а и своих детей не признают… Ой, да что об этом говорить…
«Об этом», то есть об отцах, и конкретно о моём родителе, мама всё же иногда говорила с тётей Любой, и это были очень невесёлые разговоры на тему предательства, в которых мама не выбирала выражений. Поэтому я была рада, когда тётя Люба, поблагодарив за ужин, начала другую тему:
– Как Настька? Поедет летом куда?
– Куда она поедет! – раздражённо бросила мама. – Никуда. В лагерь уже большая. Хоть бы в отряд устроилась, мусор убирать. А то дома сидит да бисер свой вяжет.
– Не вяжу, а плету, – буркнула я. – И мусор я не хочу убирать.
– А что хочешь? – вмешалась тётя Люба. – В деревню нашу хочешь?
Я посмотрела на её лицо, на котором было написано добродушно-лукавое выражение, и с ходу согласилась:
– В деревню хочу!
– Завтра! – бодро хлопнула себя по колену тётя Люба.
Мама стала отнекиваться, говорить, что это неудобно, что я уже здоровая деваха и не могу просто так сюрпризом нагрянуть к неродным людям, предлагала деньги. От денег тётя Люба отказалась и в шутку пообещала, что за жильё и еду расплачусь работой. В деревне мы должны были вместе прожить не меньше двух недель.
Я засыпала счастливой.
Проснувшись в восемь утра, я поехала на вокзал за билетом, а потом, уже к обеду, пошла вместе с мамой в рейд по рынку. На наводнённом людьми жарком базаре запах был как из моего детства – пахло солнцем и пылью от асфальта, едкой резиной и сладковатым удушливым ароматом пластика от китайских шлёпок и костюмов.
Мы накупили самые разнообразные вещи для всех живущих в Мальцеве тёти Любиных родственников. Возраст родни существенно колебался от грудного до старческого. Мама взяла ползунки и кофточки, шампунь и мыло, колбасу и грецкие орехи. Волновалась она чрезвычайно и от этого засыпала меня наставлениями.
– Едешь к чужим людям…кто знает, как они тебя примут! Плохо будет – звони и возвращайся! Мало ли что… Слушайся там тётю Любу. Попросят что-нибудь помочь – помогай, не сиди. В огороде там, полы помыть, посуду… Ты, конечно, не умеешь ничего путём, ну хоть не отказывайся всё-таки… На улице там побольше будь, дома не торчи, гуляй, в лес ходи. Только в лес не одна, с тётей Любой! – спохватилась мама. – Да, главное, ешь там! Я тебе тысячу дам с собой…
Я послушно продолжала кивать, понимая, что чем активнее соглашаешься, тем быстрее кончится наставление.
– Так, ну что ещё… Всё вроде. Ох… Ну, поезжай. Да смотри, очень долго-то там не сиди. Не к родной бабушке едешь…
Большая синяя сумка с надписью «Coca-Cola», просторный автобус красно-белого цвета – старомодный, как в советских фильмах, ритмичный убаюкивающий гул диктора из динамиков, ласковый свет предвечернего солнца, шелест тополей – всё это складывалось в уютную картину тихого вечера, наполненного радостным предвкушением чего-то доброго и близкого сердцу.
Мы с тётей Любой устроились на креслах с высокими спинками.
Отодвинув синюю плотную шторку, я принялась смотреть в окно. Высокие дома уступали место одноэтажным избушкам, оживлённые улицы – зелёным картофельным полям, весёлым бело-розовым клеверным лугам, убегающим в лес широким земляным дорогам. Вместо городских тополей вдоль трассы стали всё чаще появляться берёзы и сосны, пока, наконец, автобус полностью не выехал из города, оставив где-то позади в сизой дымке строгие прямоугольные корпуса старого завода. Добрые солнечные лучи пронизывали насыщенную зелень сосен, трава мягко сияла изумрудным светом, на трассу ложился золотистый отблик. Всю дорогу мир был для меня зелёно-золотым. Я вспоминала английскую легенду про Томаса-Рифмача, который однажды в лесу встретил королеву эльфов, облачённую в шёлковое зелёное платье и изумрудный бархатный плащ. Он сыграл ей на лютне, а потом поцеловал, хотя и знал, что за этот единственный поцелуй ему придётся служить королеве целых семь лет. Томас и королева оказались на развилке трёх дорог: одна, узкая и тернистая, была дорогой праведников; другая, нарядная и украшенная цветами – дорогой порока; а третья, сплошь обрамлённая зелёным папоротником – дорогой в зачарованную Эльфландию. Но, прежде чем они достигли прекрасной страны эльфов, им пришлось переходить вброд стремительные ручьи, наполненные кровью…
Тётя Люба убрала газету в сумку и задремала. Для неё эта поездка была одной из сотен. Она родилась в Мальцеве и жила там, пока не окончила школу. Потом поступила в педагогический, попала по распределению в какой-то посёлок, и, поработав там положенные три года, снова вернулась в Красноярск, да так и стала жить в городе. При этом почти вся её довольно обширная родня осталась в Мальцеве и других деревнях по соседству. Я знала в лицо далеко не всех, но имена приблизительно помнила: её родственники не раз бывали в городе, да я и сама после первого и второго класса приезжала в Мальцево, и уже потом мама стала отправлять меня по собесовской путёвке в загородные лагеря. Эти мои первые приезды были так давно, что я помнила от них совсем мало: красно-белый автобус, взволнованный стук сердца и всепоглощающий аромат луговых трав по пути к дому.
У тёти Любы были два брата и сестра, шестеро племянников и одна племянница, их мужья, жёны, прочие родственники и свойственники, а, самое главное, мать.
Тёти Любину маму звали баба Зоя, и она жила в Мальцево уже больше чем полвека, начиная с послевоенных лет. Там она вышла замуж и овдовела, там родила тётю Любу и других своих детей, там несколько десятков лет отслужила продавцом в местном сельпо. Теперь у неё уже было два правнука, ожидался третий, а тут ещё приезжали мы.
Вечерний ветер мягко перекатывал волны золотисто-зелёного травяного моря. Под ногами тихо, словно что-то шепча, шуршал гравий. Мне не хотелось ни о чём говорить, и тёте Любе, видно, тоже: она только пару раз останавливалась отдохнуть и размять руки, затёкшие от тяжёлых сумок.
– Ну что, почти пришли, – сказала она немного уставшим голосом, когда наконец показались первые деревянные дома.– Во-о-он наша старушка Божия сидит!
Баба Зоя и впрямь сидела на скамеечке у низкого серенького забора палисадника. Её большие руки с узловатыми венами спокойно лежали на коленях: похоже, она вышла на улицу уже давно и загодя поджидала дочку. При виде гостей старуха мимолётно улыбнулась тонкими выцветшими губами. Тётя Люба, опустив наземь сумки, подбежала к матери, бережно приобняла её за плечи и рассмеялась:
– Ну, бабусенька, привет!
«Бабусенька» затряслась от тихого, почти беззвучного смеха, и радостно посмотрела на дочь. Тётя Люба звонко поцеловала её в одну, потом в другую щёку.
Я смотрела на них с немалым удивлением, потому что совсем уже не помнила, когда в последний раз целовала маму или даже хотела это сделать.
– А это Настя, соседка моя с девятого этажа. Помнишь ведь её? Я тебе говорила, что возьму с собой…
Баба Зоя, опершись сзади левой рукой о край заборчика, медленно приподнялась и внимательно оглядела меня с ног до головы.
– З-здрасьте… – промямлила я.
– Ух, кака ты высокая, – покачала головой хозяйка дома то ли удивлённо, то ли слегка неодобрительно. – Ну, идите, заходите…
– Настька – она умница! – неожиданно похвасталась тётя Люба. – Через два года школу закончит, пойдёт куда-нибудь учиться. Не курит, не ругается, спокойная, добрая…
– Ну и хорошо. Ну и слава Богу, – кивнув, согласилась баба Зоя. – Чё в ей плохого? Я её помню, она же маленька была, приезжала.
– А мать боится, что будет нам в тягость.
– В тягость? С чего? Нянчить её не надо, не два года ей. Картошка всегда у нас есть, крупа, рожки. Силосы всяки… Когда и конфетка быват. Чай-то будете?
Я с удовольствием согласилась. От тёплого чая стало уютней, и тут я вспомнила про свои сложенные в одной из сумок дары. Я не знала, как надо их преподносить, что говорить, но как-то всучивать было надо.
– Это вот… Это вам… всем, отдали, то есть, купили… в подарок, от моей мамы, – смущённо и бестолково объясняла я, выкладывая на стол пакеты с едой и вещами.
Баба Зоя спокойно и деловито стала принимать гостинцы, изредка отпуская какой-нибудь одобрительный комментарий наподобие «Пригодится» или «Пойдёт тому-то». Продукты она оставила на столе, набросив на них чистенькое вафельное полотенце, а одежду сложила обратно в сумку и отдала дочери.
– Матери своей кланяйся за нас, – сказала баба Зоя и потихоньку, осторожно ступая босыми набрякшими ступнями по расстеленным всюду половикам, перешла из кухни в комнату, к старенькому телевизору.
Тётя Люба тоже села смотреть телек, по очереди щёлкая то на первый, то на второй канал.
– Давайте СТС включим? – предложила я.
– Так у нас два канала. У бабушки тарелки нет, ей как-то незачем.
Баба Зоя обернулась к ней с вопросительным выражением лица:
– Люба, чё она спрашиват?
Та принялась громко объяснять:
– Я Насте говорю, что телевизор у тебя много каналов не кажет! Только первый и второй!
– А-а, ну, это да…
Смотреть чёрно-белую картинку мне было скучно и непривычно. Я посидела со взрослыми всего несколько минут из вежливости, а потом, легонько скрипнув тяжёлой деревянной дверью, скользнула обратно на улицу.
Мои босые ноги переступили с шершавых досок крыльца на мягко пружинящую траву. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Казалось, будто воздух здесь такой густой, что им не дышать нужно, а пить его. Напротив скромной бабы Зоиной избушки стояла ещё парочка домов поновее и побольше, а дальше чуть правее начинался привольно шумящий берёзовый лес. Сейчас его окутывал сизый сумрак, на глазах сгущающийся в плотный покров ночи. От щедро расточаемого солнцем золота осталась одна тусклая оранжево-розовая полоса, рассеянная среди лёгких тёмных облачков. Кругом было затишье, только где-то вдали, с реки, слышался глухой шум мотора, и оттуда тянуло свежестью.
Я стояла до тех пор, пока лес совсем не погрузился в темноту и из сонного оцепенения меня не вывел тёти Любин окрик:
– Настёна, поздно, давай домой!
Точно стряхнув чары, я поспешно убежала в дом, заперев дверь на крючок.
Мне приготовили в дальней комнатке деревянную кровать, непривычно высокую, с большой подушкой в белоснежной наволочке. Здесь, внутри, запахи были уже другие: сухого дерева, мебельного лака, старого белья, пыли – но они мне тоже нравились, и вместе с прохладным лёгким одеялом убаюкивали меня, заставляли смежаться веки. Уже сквозь сон я угадывала шаги тёти Любы и бабушки, слышала, как был выключен телевизор, и дом погрузился в безмолвие. Тишина теперь была повсюду. И я плавно вошла в неё.
***
Назавтра я открыла глаза только в половину десятого и сильно смутилась, что проспала так долго. Наскоро одевшись и стянув свои длинные волосы в хвост, я вышла на кухню. Бабушки там не было, а тётя Люба катала из теста какие-то галушки.
Мы сделали ленивые вареники и поели их со свежайшей сметаной. После завтрака тётя Люба вскипятила в чайнике воды, вылила её в тазик, разбавила холодной.
– Здесь мой, а потом в чистой ополоснёшь.
С этими словами она ушла куда-то по своим надобностям. Я с удовольствием принялась за работу. Надо же, только объяснили в первый раз, и уже поручили дело!
Тарелки поскрипывали под нажимом полотенца. Я бережно составила их в буфет, так же аккуратно протёрла ложки.
– В гости не хочешь пойти? – спросила меня вернувшаяся тётя Люба.
– А то!
– Тогда бегом!
Мы пошли по шуршащему гравию, подставляя лицо лёгким порывам встречного ветра. Я глазела по сторонам. Всё здесь было слишком непохожим на город, – вернее, на места, где мне приходилось жить до сих пор, потому что всего города я, конечно, не знала. Домики вдоль по улице стояли все одноэтажные, кроме старого здания клуба в четыре этажа, выкрашенного тёмной зелёной краской. Рядом с клубом сбоку примостили какую-то облезлую статую девушки, да по центру перед входом красовался неработающий фонтан.
У придорожного магазина играли ребятишки: качались на цепях – заграждениях для автомобилей, возились в сером, смешанном с камешками песке. Все они были в цветных китайских сланцах, с загорелыми лицами, быстрые, как маленькие молнии. Взрослых было мало.
Мы остановились напротив места, которое в старых книжках называется яром. Это была высокая площадка, покрытая буйно растущей изумрудной травой, откуда начинался обрыв. Через просветы в листве берёз виднелись воды Енисея.
Стоило чуть тронуть калитку серого, ничем кроме своей величины не примечательного дома, как меня оглушил лай собак. Я поневоле вздрогнула и вцепилась тётке в руку.
– Не бойся, не бойся, – подбодрила та. – Ты просто иди за мной.
Псов во дворе оказалось с добрый десяток, но все они, кроме круглобокого чёрного щенка, были привязаны. Самого грозного я приметила в углу – лохматое, серое существо в добрую половину человеческого роста, с горящими глазами и уж, наверное, клыками не тупее пары хороших перочинных ножиков. Ни дать, ни взять Серый пёс из скандинавских легенд, который наводил ужас на всю округу.
– Цыц! Тихо!
Голос внезапно появившейся хозяйки заставил собак мгновенно улечься. Вслед за тётей Любой я вошла в дом через холодные просторные сени и присела к широкому боку светло-голубой печки.
– Чай будете?
– Давай, – охотно согласилась тётя Люба. – Знакомьтесь, девочки: это соседка моя, Настя, а это Лена. Саши, племянника моего, жена.
Я с робким интересом взглянула на девушку. На вид ей казалось не больше двадцати лет. Лена была одета в просторный спортивный костюм, явно с чужого плеча, скрадывавший очертания фигуры, но по хрупким запястьям и тонкой шее можно было понять, что она стройная, если не сказать, что худая. На овальном загорелом лице больше всего выделялись тёмные, плавные и широкие дуги бровей, про которые в книжках говорят «соболиные». Босые ноги девушки были запачканы землёй.
Дверей внутри дома не было, из маленькой кухни проходы вели в две комнатки: одну тёмную, из которой я видела лишь диванчик, заваленный одеждой, и другую, поменьше, но посветлей. Пока пили чай, в доме стояла тишина, только во дворе изредка мычала корова да кудахтали куры. Казалось, будто в доме, кроме нас троих, нет никого. Но потом послышался лёгкий шорох и стук, и из второй, светлой комнатки в кухню вышла маленькая девочка, одетая в голубенькое мятое платьице.
– Анюта, доча, – хрипловатым, но ласковым голосом позвала её Лена и поманила к себе рукой.
Опять мне пришла пора удивляться. Такая молодая, и уже с ребёнком? Чудеса!
Девочка взяла наверху печки бутылочку с молоком и блаженно растянулась вместе с ней на ногах у матери, пока не выпила всё до капли.
Она была так похожа на большую куклу, что мне страшно захотелось взять её себе на колени, чтобы убедиться, точно ли это живая девочка. Я протянула к ней руки и замерла в ожидании. Анюта поднялась на ножки и медленно, но уверенно зашагала ко мне.
Я обняла её, зашептала какие-то хорошие слова. Перебирала льняные прядки, пахнущие молоком и какой-то особой сладкой свежестью.
– Ты смотри, как она уютно устроилась, – с удивлением заметила Лена. – Не помню, чтобы к кому-то вот так шла. Наверное, человек хороший.
Налив себе ещё чайку, они стали вспоминать каких-то незнакомых мне людей, обсуждали их, говорили что-то насчёт ремонта в доме, насчёт растущих цен, словом, вели обычный женский разговор.
– Хорошо с вами сидеть, да дела ждут, – наконец заявила Ленка. – Огород, свиньям наварить, полы помыть… Давай, тётка, покурим да пойдём. Будешь?
– Я-то буду, а тебе не хватит ли, мать? Рожать скоро…
Только после этих слов я увидела под Ленкиной безразмерной олимпийкой круглый живот.
Она потянулась за коричневой пачкой «Тройки».
– Нет, тётя Люба, не уговаривай. Пить бросила в семнадцать лет ещё, как решила тогда – не пью и не буду, а от этого отказаться не могу, хоть и Сашка ругается. Но я иначе психовать начну. Сама же не бросаешь? Ну вот…
Покурив, Лена проводила нас до калитки. Ещё долго, идя по улице, я слышала её хрипловатый сильный голос, которым она сзывала собак, а потом выкрикивала что-то через забор соседке.
***
Через пару-тройку дней я выучила по именам всю тёти Любину родню. Братьев звали Павел и Виктор – первый жил в другой деревне, а второй не уезжал из Мальцево, женился и родил двоих сыновей, на время первого моего приезда уже взрослых лбов старше двадцати лет. Всю жизнь провела в родных местах и тёти Любина сестра, Зина, недавно схоронившая мужа. Она была на четыре года младше Любови Ивановны, но выглядела старше: возраста прибавляли острые скулы, набухшие нижние веки да сильно потрескавшаяся кожа на натруженных руках. У братьев были сыновья, и тётя Зина тоже вначале родила Александра и Николая, прежде чем в младшем поколении бродниковской родни появилась наконец девочка Дарья.
Я в то или иное время видела всех шестерых племянников тёти Любы. Все они были люди одного типажа: с широкими скуластыми лицами, рыжеватыми или светло-русыми мягкими волосами и светлыми глазами.
После того визита к Ленке тётя Люба сводила меня к своему младшему брату, дяде Вите, потом к сестре, потом ещё к сватам – тихим старичкам, которые жили неподалёку в пропахшем кошками домике. Сваты были родителями жены тёти Любиного брата. Встречаясь со всеми этими людьми, я удивлялась, сколько же у человека может быть сродников. Своего отца я не знала совсем, тем паче его родственников, а у мамы из родни была только сестра в Комсомольске-на-Амуре, да её муж и сын.
Здесь, в Мальцево, меня никто не воспринимал в качестве ребёнка, и меньше всего – баба Зоя. Через три месяца, в середине сентября, ожидалось моё шестнадцатилетие, а для старухи это был вполне себе брачный возраст. В глазах бабы Зои никак не считался ребёнком и родной внук, младший сын тёти Зины Николай, у которого в восемнадцать с половиной лет родился маленький Виталька, самый первый бабушкин правнук. А за старшего внука Сашку, которому несколько лет назад стукнуло двадцать пять, баба Зоя всерьёз начала переживать и поговаривать: «Ох, не женится». Успокоилась она только тогда, когда тот привёл в дом Ленку, тогда ещё едва шестнадцатилетнюю, и стал с ней жить в той комнате, где я теперь ночевала.
К своим пятнадцати годам я успела прочитать книжку Дюма про королеву Марго, да потом ещё посмотреть сериал, и про себя окрестила бабу Зою королевой-матерью. Понятно, не из-за коварных интриг, какие плела при французском дворе старшая Медичи, а из-за того, что она была родоначальницей такого огромного, по моим понятиям, семейства. На восьмом десятке она прекрасно помнила и знала почти всё про своих детей, внуков и правнуков, и пыталась устроить их бытьё так, как ей казалось верным. А верной, как я скоро поняла, баба Зоя считала семейную жизнь – одинокий человек был для неё как бы и не совсем человеком, потерявший жену или мужа – несчастным, живущий без детей – несчастливцем вдвойне.
Меня никто не окружал особенным вниманием, не расспрашивал о школе. Иногда я могла сесть на крыльцо и задуматься о чём-нибудь на полчаса, и никто не говорил мне, что давно пора вставать и куда-то мчаться. Никто не одёргивал меня, не поправлял. За своей одеждой я следила сама. В самые первые дни было немного непривычно, что мне дают столько свободы, но скоро я начала чувствовать огромную благодарность за такое отношение. Чем больше мне разрешали быть одной и делать то, что я хочу, тем больше меня тянуло к людям, к их разговорам и делам.
Понятно, что я практически ничего не смыслила в тракторах, сортах помидоров, породах лошадей, но мне хотелось чувствовать себя на равных с приходившими в дом людьми. Хотелось чувствовать свою причастность к этой трудной, но интересной для меня жизни. Я полюбила мыть посуду и втайне радовалась, когда на ужин к бабе Зое приходило побольше человек или тётя Люба затевала какую-нибудь готовку: тогда посуды оставалось много, и, перемыв её всю, я знала, что сделала полезное для всех дело. Мне нравилось кипятить воду в старом, облепленном серовато-белой накипью чайнике, окунать ковш в свежую ледяную воду из бака в сенях, где пахло молоком и скошенной травой.
Но больше всего я полюбила ходить босиком по ласковой мягкой земле, чувствуя, как из неё поднимается живительное тепло. Я мяла пальцами шершавые листья земляники и пахучей мяты, гладила ветки смородины, собирая с них в небольшое пластиковое ведёрко агатовые крупные ягоды. Смородиновые, малиновые, крыжовенные кусты казались мне такими красивыми, что хотелось заботиться о них, как о живых существах.
– Девка все сорняки подчистую в огороде выполола, ягоду побрала, – хвасталась тётя Люба Ленке, Саше, бабе Зое. – Настька, слушай, у нас же ещё вон ирга стоит необобранная. Ты бы залезла на неё завтра да пособирала, а то птицы склюют…
– А где? – удивилась я. – Я смотрела, там вроде зелёные ягоды…
– А наверху-то! Там только с лестницей забираться.
– Ты у нас девка высокая, глядишь, и лестницы не надо, – улыбнулась Лена.
Над моим высоким ростом уже не раз подшучивали: со своими ста семьюдесятью шестью сантиметрами я была на полголовы, а то и на голову выше всех представителей бродниковской родни.
***
В тёплый пасмурный день мы поехали за грибами. Мы – это тётя Люба, Настя, Санька, младший тёткин племянник Никола с женой Полинкой и ещё одна, незнакомая мне до того дня женщина с весёлым круглым лицом. Лена осталась дома с ребятишками.
Выйдя из дома, я в ступоре встала перед гудящим трактором.
– Ну, забирайся, чё ли, – сказал Санька.
– А как забираться-то?.. – замялась я.
– О-о! Видно городскую барышню, – добродушно фыркнула тётя Люба. – Давай на руках подтягивайся и за борт.
– Прямо так?! – изумилась я. – А вдруг не дотянусь?..
– С такими-то ногами?!
Я подтянулась на руках, ступила ногой на колесо и, к своему удивлению, легко оказалась внутри трактора. Впрочем, сказать про этот трактор «внутри» можно было очень условно – бортиков у него не имелось.
– А как держаться-то? – решилась я спросить, когда все уже аккуратно расселись – кто на полупустой мешок, кто на ящик, кто прислонившись к задней стенке кабины трактора.
– Зубами за воздух цепляйся, – посоветовал Санька.
Мы долго ехали по сырой дороге. Жирные пласты земли прилеплялись к колёсам трактора, мимо лиц летели чёрные комки. Потом сырость кончилась, дорога стала ровной, красивой, ровные молодые берёзки убаюкивающе шумели густой листвой. Трактор потряхивало на кочках, но не до такой степени, чтобы поминутно думать о том, как бы не свалиться, и очень скоро я почти совсем перестала бояться, правда, крепко вцепилась на всякий случай в верхушку наполненного чем-то тяжёлым целлофанового мешка.
Когда добрались до места, грибов оказалось столько, что я могла срезать их, даже не поднимаясь на ноги. Нежные синие, белые, светло-жёлтые цветы остались в подарок весне и раннему лету. Теперь наступила пора уверенных цветов, ярких красок. Опушки пестрели рыжими пятнами лисичек, пышными тёмно-розовыми саранками. Чуть пореже встречались крупные лиловые колокольчики с листьями, похожими на крапивные.
По грибы я никогда не ходила, но от подружки Оли знала, что её отец брал на даче маслята и подберёзовики. Изредка ему попадались белые, но их всегда было немного. А тут – настоящее пиршество! Срезанные лисички мы складывали вначале в пакет, а потом высыпали в большой рогожный мешок. Через пару часов и и мешок оказался полон – настала очередь за вторым.
Домой вернулись к вечеру. Ужин сготовила тётя Люба: жареная картошка, салат из огурцов, редиски и зелёных перцев. Санька ворчал, что редиска уже старая и дряблая, а перцы можно было бы не трогать, поберечь. Никола с Полинкой ели всё молча, накладывали добавки, пили чай, жадно жуя пряники, а потом как-то очень быстро подскочили и ушли, сунув в карманы ещё по прянику. Вослед им Санька полуснисходительно-полупрезрительно обмолвил:
– Голодающие с Поволжья.
Баба Зоя ещё раз оценивающе поглядела на грибной урожай, коротко одобрила:
– Ничего.
Я уже была уверена, что старуха всегда так скупа на похвалу, всегда сдержанна, но вдруг увидела, как она подошла к Саньке и ласково, даже с каким-то трепетом, погладила его сухой рукой по груди.
– Как живёшь-то, внучек? – с той же лаской прошелестела она.
– Живём, хлеб жуём! – отозвался он словами моей мамы.
– И то ладно. Сашенька… Погляди, чё это на губе у меня? Болячка кака?
Санька бросил острый проницательный взгляд на лиловое пятно над губой и ядовито усмехнулся:
– Сифилис, баба!
Старуха ничуть не рассердилась и даже ничего не возразила, просто так и осталась около Сашки, может быть, наблюдая, не нужно ли будет ему ещё чего-нибудь принести. Не то, чтобы видя, а, скорее, угадывая её услуживость, Санька смягчился и почти ласково произнёс:
– Баба, я пошутил. Простуда, наверное. Иди, отдохни.
– А-а, – кивнула старуха и послушно побрела в своё кресло.
На кухне нас осталось трое – Санька, Настя и тётя Люба.
– Как у вас, для ребёночка всё готово? – поинтересовалась тётка.
– А чё ему надо. Конечно, всё. Кроватку вторую у Кармановых купил, собрал. Тряпки там Ленка взяла, что надо. Мать пелёнок ещё нашила.
– Ждёшь?
Санька яростно забрякал ложкой о край стакана.
– Ждёшь, не ждёшь… Один раз родила, другой раз родит. Чё делов. Раньше в поле рожали.
– Пацана хотел, да?
Санька вскинулся:
– Тётка, чё ты вот в душу лезешь? Кто родится, тот родится. Ты если хочешь встрять – лучше собралась бы да помогла. Стайку надо почистить, Ленка не может уже, то болеет, то устала, то ещё чё. Вот пошли лучше, чем вопросы задавать!
Тётя Люба спокойно встала из-за стола, оправила кофту.
– Ну, пошли.
Я начала убирать со стола, складывать масло, сметану, остатки салата в холодильник. Тётя Люба взяла меня за руку.
– Доченька, я, может, долго не буду… Похоже, я им там нужна… Ты грибами займись, ладно? Чистить же умеешь? Почисти все, в кладовке у бабушки там тазы стоят у входа, я уже приготовила. Почисти, в воде холодной сполосни и порежь. А потом я вернусь, мы их сварим и заморозим. Ладно, Настёна?
– Да, тётя Люба, конечно! – пообещала я.
Дома, на полу летней веранды, грибы выглядели скромнее, чем в лесу, но всё равно их количество поражало воображение. Я высыпала в таз половину первого мешка и, усевшись на низкий стульчик, начала работу. Чистить лисички было легко, знай убирай прилипшие листья да сухие сосновые иголки. Однако через какое-то время стала побаливать спина от того, что приходилось долго сидеть внаклон.
– Чаю нальёшь мне стаканчик? – позвала баба Зоя.
Я вскипятила и налила ей чаю, принесла к телевизору, но сама отдыхать не стала, боясь, что не успею управиться к приходу тёти Любы и подведу её. Второй мешок пошёл не так легко, а впереди была работа сложнее – резать грибы.
«Чёрт их знает, – думала я, – как их резать-то, крупно, мелко?!»
Решилась спросить у бабушки, но та ответила непонятно:
– Как хошь, так и режь. Всё съедим.
За все свои пятнадцать лет я не привыкла, чтобы мне доверяли хоть какое-нибудь серьёзное дело. А тут, оказывается, режь как хошь! Сама!
Я накромсала партию, встала со стульчика, размялась немного. За окном потихоньку темнело, перестали облаивать прохожих соседские собаки. Тётя Люба не возвращалась.
– Чё-то её долго нет, – слегка обеспокоилась бабушка. – Позвонить, ли чё ли?
– Нет, не надо! – неожиданно для себя воскликнула я. – Не надо звонить. Она… она предупреждала, что будет поздно, сказала не волноваться.
– А. Ну ладно. Я пойду тогда, маленько телевизер погляжу да спать…
Я прекрасно понимала, что, если тёти Любы всё ещё нет, то варить лисички придётся самой. Но мне как раз этого и хотелось. Если люди уже в семнадцать лет рожают живых настоящих детей, то кто же буду я, если не справлюсь с какими-то жалкими грибами?!
– Ничего-о, ничего, – подбадривала я себя. – Сейчас потихоньку разберёмся.
Дома у бабы Зои была маленькая электрическая плитка – в тёплой кухне, и большая газовая – на веранде. Я с газом никогда не имела дела, но в тот день пришлось с ним познакомиться – не ставить же огромную тяжёлую кастрюлю на одинокую хрупкую конфорку.
Я видела несколько раз, как тётя Люба готовит на газовой плите, но не помнила, что надо сделать вначале – то ли поджечь плитку, то ли повернуть рукоятку на баллоне. Логически поразмыслив, я включила газ и поднесла спичку. Расцвели синеватые огненные лепестки. Я возликовала и водрузила на плиту кастрюлю, в которую чуть не до верха наложила грибов и залила их водой. Ждать пришлось недолго, плитка работала на удивление шустро. От грибов поднялась пена, шапкой полезла через край кастрюли. Вскрикнув, я стала бегать по кухне, искать какую-нибудь чашку, в которую можно было бы скинуть часть грибов. Потом я наконец догадалась убавить огонь.
Когда первая партия лисичек сварилась, я загрузила в кастрюлю вторую. За окном давно стояла темень. Я уже перестала думать, почему так задержалась тётя Люба. Мне даже, наоборот, хотелось, чтобы она не приходила ещё хотя бы полчаса – тогда я успела бы всё доделать и порадовать её.
Так оно и вышло. Тётя Люба пришла уже ночью, когда я успела не только сварить все грибы, слить с них воду, но и расфасовать сваренное по пакетам. Зайдя в кухню, она увидела плоды моего труда, и удивлённо воскликнула:
– Ты всё сделала! Умница! А я-то знаешь, почему так долго? Ленка родила. В больницу отвозили, в райцентр.
Я кинулась ей навстречу и обняла. Тётя Люба была меньше меня ростом сантиметров на десять, и, чтобы стать с ней наравне, я положила голову ей на плечо. От неё слегка тянуло запахами стайки, молока и пота, которые плохо заглушала дешёвая туалетная вода. Я была счастлива, что она вернулась, и горда собой, потому что выполнила задачу, почти такую же важную, как и у неё. Если бы я не занялась тогда этими чёртовыми лисичками, они могли бы пропасть, и пропал бы весь труд людей, которые целый день их собирали и везли сюда. Ах, эта памятная ночь! Кто бы мог подумать, что взрослым человека делают грибы.
Чудо на руках
Грибной азарт у тёти Любы после той поездки только разошёлся. Через пару дней она потащила меня куда-то к востоку от деревни за подберёзовиками и белыми. Дорога до нужного места была долгая, и мы разговаривали. Мы прошли мимо длинного тёмно-зелёного здания с заколоченными окнами, не похожего на обычный дом, и я спросила:
– Что это такое?
– Это больница была. В позапрошлом году закрыли. Теперь придётся в райцентр ездить.
Я вслух посочувствовала местным больным, вынужденным терпеть такие неудобства, на что тётя Люба сказала:
– Люди как только не живут. Наша-то деревня всегда обустроенная была. Как брат мой, Витя, говорит: недеревенская деревня. А вот я после распределения попала учительницей в Двинку. Так я там захожу в магазин – одни конфеты-карамельки! Я ими неделю питалась, пока местные не стали подкармливать…
Чувствуя мой интерес, она углубилась в воспоминания о своей молодости.
– Там выходцы из Белоруссии жили. Я их сперва не всегда понимала, а потом приноровилась. Выйдет пацан к доске отвечать: «Гэта прямая прайдзэ чэрэз точку Гэ». Я ему: «Нэ прайдзэ». – «Чаво дразнытэсь?»
Я смеялась, слушая её весёлые байки, хотя они по сути не были такими уж смешными.
– Там, в этой Двинке, меня как-то пригласили на праздник. Я сижу за столом, а тут же рядом со мной ученики мои, семиклассники. Себе самогонку наливают, и им наливают. Почти что наравне. А в восьмом классе у меня ученица забеременела. Я, как классная руководительница, к ним домой пошла. Встречает меня ейный батька: рослый, пузатый такой, с усами. Я что-то мямлю им там, мол, как же вы так… Он меня послушал молча да и говорит: «Моя Валька хутка замуж выйдет и ребёнка родит, а ты, чуе моё сердце, так и помрэшь одна». И ведь чёрт побери, оказался прав!
Мне стало немного не по себе.
– Давай лучше песню споём, – предложила тётя Люба. – Я буду петь, а ты подпевай.
– Во суботу Янка
Ехав ля раки.
Пад вярбой Алёна
Мыла ручники…
Я не знала слов и вообще не слышала раньше этой песни, но с первого раза влюбилась и в мелодию, и в этот певучий язык, причудливо похожий на русский. Грянул дождь, от которого мы не прятались, продолжая петь. Промокшие и счастливые, мы добрели по раскисшей дороге до самого Мальцево. Там нас встретила охающая бабушка, которая уже посчитала, что мы, если не умерли, так заблудились, и ворчащий Санька, которого баба Зоя снарядила на поиски, как только услышала за окном грохот начинающейся грозы.
Мы с тётей Любой переоблачились в чистое, сели греться возле включённого «камина», – таким гордым именем здесь величали обыкновенный масляный обогреватель. Сашка осыпал нас заботливой бранью:
– Твою мать, вот надо же было придумать в такую погоду куда-то переться. Тётка, ты всегда была сумасшедшая. Ещё девчонку утащила. А я, значит, ходи за имя, бегай…
Через день Сашка поехал на соседском Уазике в райцентр – забирать из больницы Лену с ребятёнком. Мы с тётей Любой с утра отправились к ним в дом и вместе приготовили обед. Понятное дело, что готовила тётка, а я была только её скромной ассистенткой, но волнение у меня перехватывало через край. Расставив по местам блюда и тарелки, я переходила из комнаты в комнату, перебирала вещи, выглядывала в окно.
Часам к трём прибыли молодые родители, а с ними – тётка Зина, маленькая Анюта, незнакомые мне соседи. Застолье было коротким и не очень весёлым. Я подумала, что по дороге, наверное, из-за чего-нибудь поругались. Дело оказалось в другом. Ленка, оставшись наедине с тётей Любой, горестно шептала ей:
– Ну, что я сделаю, если это девчонка, и в меня уродилась! Что я сделаю?!
Тётя Люба обнимала её, похлопывала по спине.
Из их разговора я поняла, что Санька мало того, что был расстроен из-за появления второй девочки вместо желанного пацана, так ещё и окончательно вышел из себя, увидев, что новорождённая дочь нисколько на него не похожа. Прямо в роддоме он закатил Ленке сцену ревности, кричал, не стесняясь, что она якобы ему изменила.
– Успокоится он. Молодой ещё…дурак, – оправдывала племянника тётя Люба. – Отойдёт…
Лена взяла Анютку за руку, увела тётю Любу на кухню. Маленькая девочка осталась лежать на широкой кровати. Я осторожно села рядом с ней. Она спала, стиснутая фланелевой пелёнкой, недовольно причмокивала во сне толстыми губами. На лобик девочки падали прядки тёмно-русых волос. Я прикоснулась к ним только одним пальцем, и вздрогнула, когда девочка открыла глаза. Пробудившись, она заворочалась в своём тканевом коконе, и ещё недовольней, как мне показалось, зашлёпала губами. Повинуясь какому-то инстинкту, я дала ей нащупать свой указательный палец. Девочка мгновенно втянула его верхнюю часть в ротик и принялась сосать, крепко прижимая палец к ребристой поверхности своего нёба. Я поразилась силе, с которой такое маленькое существо цепляется за то, что может дать ей пропитание – пусть даже она жестоко ошибается, приняв мой палец за бутылочку или материнскую грудь.