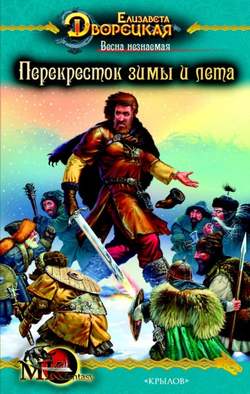Читать книгу Весна незнаемая. Книга 2: Перекресток зимы и лета - Елизавета Дворецкая - Страница 1
Глава 1
ОглавлениеГромобой стоял, опустив к ноге тяжелый меч, и смотрел прямо перед собой. Взгляд упирался в толстую, в крупных трещинах, кору старого дуба, утопавшего в снегу. В памяти бродили отголоски громовых раскатов, снова и снова отражаясь от чего-то в голове, кожа еще помнила палящее дыхание пламени, а рукам и плечам было тяжело, как после какой-то неподъемно-трудной работы. И больше он ничего не помнил, как будто пришел сюда во сне и вот только сейчас проснулся.
С трудом оторвав конец клинка от снега, Громобой приподнял меч. На клинке блестела темно-синяя окалина, похожая на кайму молний в темной туче. От меча веяло жаром. Но ни следов крови на лезвии, ни кого-нибудь похожего на врага вокруг. Громобой убрал меч в ножны и потер лоб ладонью. Как-то же он попал сюда! Зачем-то же он пришел на этот пустой, засыпанный и задушенный снегом берег, к этому дубу, для чего-то же он достал меч, на кого-то им замахивался! И, видимо, ударил, и не зря – раз больше никого и ничего здесь нет. В мышцах еще жило воспоминание о каком-то усилии, но в голове была пустота.
И прежде с ним бывало, что он слишком расходился в обрядовых поединках Перунова дня[1] или в битвах у «Ледяных гор», зимой сооружаемых у оврагов за вымолом, а потом себя не помнил и только дивился, сколько рук и ног невезучих соперников сумел сгоряча повредить. «Кого возьмет за руку – у того рука вон, кого возьмет за ногу – у того нога вон, а возьмет голову – так крутит, ровно пуговицу…» Кто смеялся, кто причитал, а ему было стыдно. «Медведь рыжий…» Воспоминания о чем-то, когда-то очень близком, как собственная кожа, а сейчас ушедшем за горы и леса, стучались в сознание и мешали сосредоточиться. Нет, эти поединки и пляски, это копошение пестрой людской толпы, смех и голоса девушек – это не то, сейчас не это нужно. Сейчас надо вспомнить, как он сюда попал и что тут делал. Где-то рядом мерещилась черная пропасть. Его сила ушла туда, в пропасть, и что-то там сделала, но это дело было настолько ему чуждо, что разум в эту пропасть заглянуть не мог. Громобой испытывал странное, непривычное беспокойство, точно какая-то часть его самого ему не принадлежала. Как будто рука или нога осталась за чужими запертыми воротами, во власти каких-то неведомых сил, хотя сам он продолжает ее ощущать как живую и свою… Бред собачий!
А на берегу не было никого, кто мог бы ему хоть что-то разъяснить. Ветер равнодушно посвистывал в ветвях, мертвенно качались тонкие желтые стебельки, торчавшие кое-где из толщи сугробов. Весь берег, как облаком, был покрыт одиночеством; безжизненность, пустота вырастали из снегов и наполняли воздух. Как будто на всем свете нет других людей, кроме него.
Оглядевшись еще раз, Громобой заметил на снегу следы. Следы были маленькие и странно неглубокие: там, где сам Громобой проваливался по колено, эти следочки погружались не глубже толщины ладони. Они тянулись вдоль берега, откуда-то издалека к дубу, рядом со следами самого Громобоя, и возле дуба кончались. Кое-где они были перекрыты следами Громобоя: значит, они пришли вместе, притом он шел позади. И видел его… ее… Следы были похожи, скорее, на женские. Но кто она была? И где она?
В голове гудело, как после сильного удара, и даже эти не слишком сложные рассуждения дались нелегко. Громобой снова вытер лоб. Волосы оказались мокрыми от пота, хотя вокруг было скорее холодно, чем жарко. Вспомнить ничего не удавалось: он видел следы на берегу, но никаких воспоминаний вид их не вызывал. Пусто, как снежное поле!
– Здравствуй, сынок! – произнес рядом спокойный женский голос.
Вздрогнув от неожиданности, Громобой обернулся и увидел женщину, выходящую из-за того же дуба. Ее не было за деревом, пока он стоял на месте и думал; она не могла ниоткуда подойти: с высокого мыска вся местность вокруг довольно хорошо просматривалась. Она выскользнула из какой-то неприметной щели, что вела в этот пустой и зимний мир из другого… совсем другого…
Вид ее показался смутно знакомым: средних лет, высокая, худощавая, большеглазая, с тонкими, строго сжатыми губами, с которых никогда не слетит лишнее слово. Одетая в простую, грубоватую одежду, с темным повоем[2] на голове, какие носят матери родов, она казалась одной из тысяч таких же женщин и в то же время первой среди всех, единственной и самой главной. Под строгим взглядом ее серых глаз, при виде суровых черт ее смуглого лица Громобою стало неуютно: как будто он, здоровый и сильный, превратился в мальчика перед лицом строгой матери.
– Снова довелось свидеться! – продолжала женщина, и Громобой, опомнившись, поклонился. – А теперь ты что же: по своей воле или поневоле пришел?
Женщина слегка склонила набок голову и глядела на него испытывающе, точно от его ответа многое зависело. И Громобой вспомнил, что уже однажды отвечал ей на этот вопрос. Вспомнилась темная избушка, в которой ему было тесно и где он почти доставал головой до кровли, вспомнилась дверь, через которую незнамо куда и выйдешь – то ли в прошедший век, то ли на Калинов мост, то ли к себе восвояси. И мелькнуло первое робкое воспоминание: в той избушке рядом с ним стоял кто-то – кто-то маленький, непоседливый, легкий, слабый, как облачко тумана, но он, Громобой, почему-то был сильно привязан к этому существу, не мыслил себя без него… Но оно теперь потерялось… Оставило немые следы на снегу и пропало…
– Да… поневоле не ходим! – Громобой ухмыльнулся, радуясь, что вспомнил-таки нужные слова и снова «повернул избушку»: женщина улыбнулась, лицо ее стало мягче и приветливее, как будто по этим словам она узнала его и решила, что с ним стоит разговаривать. – Здравствуй, матушка! – Громобой еще раз поклонился. В голове с каждым мгновением яснело, он теперь помнил почти все, что привело его к этому дубу, кроме одного. – В добрый час я тебя встретил. Помоги еще раз! Наставь на ум!
– Не помнишь? – понимающе спросила Мудрава.
Громобой мотнул головой. Он уже догадался, что в потере памяти нет его вины и что иначе и быть не могло. Он помнил всю дорогу от Прямичева и Убор, не помнил только, зачем пришел из Убора к этому дубу. Как видно, здесь он повстречался с чем-то таким, против чего его память и разум были слабоваты.
– Так и есть! – Мудрава кивнула. – Унесло ее от тебя – знать, пути разошлись, вместе вам быть не время.
– Кто? – нетерпеливо воскликнул Громобой, но Мудрава продолжала, как будто не слыша:
– И то верно: где же бывало, чтобы среди зимы лето с весной рука об руку ходило! Да оно и хорошо: раз унесло ее от тебя, стало быть, дух ее пробудился. Вошла в нее Весна, потому ворота и увели ее. А так хоть и не вертится годовое колесо, а уже скрипит – еще толканешь, гляди, и пойдет. Только вот искать ее тебе долго придется. Далеко она теперь: за лесами дремучими, за горами толкучими, за котлами кипучими, за огнями палючими. Завладел ею Велес…[3]
– Стой! – Громобой шагнул к Мудраве. Она замолчала, пристально глядя на него, словно проверяла, что пробудили в его душе ее слова. – Стой, мать! – повторил он, хмурясь от усилия вспомнить.
Он хотел непременно вспомнить сам, но образ не давался. Маленькое туманное облачко реяло совсем близко, обдавало тонким теплым запахом каких-то цветов, что ли, но ни лица, ни имени… Оно почти касалось его, оно звало, толкало, теребило, мучило сознанием чего-то важного, потерянного…
– Велес… – Громобой с мучительным усилием пытался схватить что-то, что носилось возле самого порога сознания. – Не Велес, а… сын его! Огнеяр! Да? – Он требовательно глянул на Мудраву. – Я к нему шел, потому как сказали, что он Лелю[4] у себя заточил, и оттого весна не идет… Вела сказала… – Громобой смутно помнил, откуда все это взял, но в самом знании был уверен. – Я же его искал! Она… Кто – она?
– Весна-Красна! – Мудрава вздохнула. – Слушай, сынок. И я не знала – теперь знаю. Лелю заточил не Велес и не сын его, а Светловой, сын князя речевинского. Он и Чашу Судеб разбил, и тем Чашу Годового Круга разрушил. Теперь Леля в священной Ладиной роще над Сварожцем живет и выйти оттуда не может. Огонь Небесный рощу кольцом окружает, не пускает ее на волю, а мать ее – к ней. Иди туда. Эта роща – твоя дорога к Ледяным горам, к новой Леле. Через рощу ты пройдешь и ее на волю выведешь, всему белу свету весну дашь.
– Но как же… – Громобой хмурился от умственного усилия, но никак не мог разобраться с этими двумя богинями Лелями, одна из которых давным-давно была заключена в священной роще где-то над Сварожцем, леший знает где, а вторая все это время была вроде бы рядом с ним и исчезла только сейчас, оставив эти вот следы на снегу. – Она же была со мной!
– Она и не она. – Мудрава склонила голову набок. – Не может так быть, чтобы весны не было. Нельзя родник засыпать – не в одном месте, так в другом он себе путь промоет. Как только одна Леля была в плен заключена, так белу свету другая понадобилась. А как понадобилась – так и народилась. И дух Весны в нее стал собираться, все больше и больше, капля за каплей. Так и пошло: одна весна – плененная, бессильная – в кольцо замкнута, а другая, новая, по белу свету ходит, никому не ведомая, никем не знаемая, но с каждым часом все сильнее и сильнее становится. Эта Весна с тобой и была. Люди ее не знали, боги не знали, и сама себя она не знала. Сама себя она узнает, когда все свои дороги пройдет, трое сапог железных стопчет, трое посохов железных изотрет… Только тогда она полную силу обретет. А до того далеко еще. Тогда и люди ее узнают, и боги узнают. Когда найдешь ты ее, когда у Велеса отобьешь, – тогда Перун[5] с Ладой[6] повстречается и золотые копья Зимерзлу[7] прочь погонят. Тогда…
Мудрава вдруг умолкла, не договорив, будто спохватилась, что сказала слишком много. Да уж! Громобою казалось, что он стоит под сплошным потоком молний и града: все гремит, блестит, бьет. Каждое слово – как молния: оглушает, а не ухватишь ничего.
– Весна… незнаемая? – повторил он, чуть ли не сердясь на Мудраву. – Как же я ее узнаю? – Громобой совершенно не представлял, кого ему искать. Туманное облачко, что мерещилось ему в воспоминаниях, никак не обретало человеческого лица.
– Тут я тебе ничем не помогу! – Мудрава развела руками. – Тебе ею владеть, только ты сам ее и узнаешь.
– Узнаю? – с сомнением повторил Громобой.
– Узнаешь! – уверенно подтвердила Мудрава. – И в тебе ведь батюшка твой Перун просыпается, ворочается, выйти на волю хочет. Надо будет – он тебе силу даст. А уж куда ее приложить – ты сам смотри. Ну, иди, сын Грома! – Мудрава показала на полуночь.[8] – Иди на Сварожец, ищи свою дорогу к Весне.
Громобой поклонился, огляделся, вспоминая дорогу в Убор.
– Да иди назад – через Турью, через Ветляну до устья, к Краенцу, а там через Истир перейдешь, по Сварожцу прямо к Славену поднимешься! – наставляла Мудрава, как будто весь этот непомерный путь можно было пройти в один день.
– Назад? – Громобой нахмурился.
Он вспомнил Прямичев, через который придется опять проходить по пути к устью Ветляны, впадающей в Истир. Толпа… князь… расспросы, на которые он совершенно не способен дать ответ… Но не это было самым неприятным. Что-то противоестественное виделось ему в том, чтобы идти назад. Идти нужно вперед, только так можно дойти до какой-то цели. Солнце ходит по кругу, но никогда не ходит вспять.
– А ведь вроде говорили, что тут где-то Стужень течет, что прямо к Истиру выводит! – стал он припоминать чьи-то рассказы. – Я же не рак, чтобы мне все пятиться!
– Здесь на Истир не ходи, тут дороги нет! – Мудрава качнула головой. – Неспокойно здесь на Истире. Голод в разбой толкает – на Истире тут засека стоит, и сидят в ней лихие люди. И вожак у них – Зимерзлина рода. Не ходи, нет тебе тут дороги.
– Мне нет – кому же тогда есть? – Громобой окончательно пришел в себя, и в нем проснулось привычное упрямство. – Если по пути все засеки обходить, долго же я буду добираться! Уж если я засеку не пройду, чего мне у той рощи делать? Я же не на посиделки, я в Ледяные горы собираюсь!
– Ну, как знаешь! – Мудрава не стала больше спорить. – Тебе идти, тебе и решать, а мне тебя за руку не водить – давно вырос.
– Спасибо тебе, мать! – Громобой поклонился. – Что сумею, то сделаю.
– По силе и спрос! – Мудрава ободряюще кивнула.
Громобой пошел по своим старым следам к Убору, а женщина в темном повое еще долго стояла, положив ладонь на холодную кору дуба, и смотрела ему вслед. Ей виделся не просто рослый, плечистый и мощный парень с темно-рыжими густыми кудрями – она видела сгусток живого небесного огня, белого и желтого, крови молний, дыхания грома – грома неведомого, незнаемого, припасенного Перуном на земле на тот самый случай, когда для самого Отца Гроз все земные и небесные дороги будут закрыты. Пробираясь через тьму и снега, небесный огонь в сосуде человеческого тела горит все так же ясно и ровно, и идет, идет вперед. Ведь и он – как весна, путь которой можно затруднить, но нельзя остановить. Мир держится на живом равновесии сил, на свободных, естественных переливах тьмы и света, огня и воды. Каждая из стихий ищет пути для своей силы, но не может стоять, как не может и совсем исчезнуть, сколько ни бей священных чаш и ни заключай в плен богов и богинь… В этом движении – суть белого света, залог бесконечного продолжения его жизни, которая может видоизменяться, но не может прекратиться совсем.
Громобой пропал за деревьями, Мудрава прислонилась к дубу и вдруг исчезла. Женская фигура слилась с корой, дочь Макоши вошла в ворота, которые для нее всегда открыты.
К далекому Истиру Громобой отправился один. Долгождан и Солома, потрясенные бесследным исчезновением Веселки, однако не утратили мужества и не хотели от него отстать, но Громобой отказался от дальнейшей помощи.
– Вчера ее невесть куда унесло, завтра меня унесет! – сказал он, избегая называть пропавшую девушку по имени. – А вы с чем останетесь, с кобылой втроем? Может, я вас в такие места заведу, куда и ворон костей не заносил, а сам… – Он запнулся, вспомнив ли скачку на Зимнем Звере,[9] дверь бани или ствол дуба – путей в Надвечный мир много! – И не выберетесь потом. Ступайте-ка домой. А я уж налегке…
Солома жалел, что такой увлекательный путь кончается для него так скоро, но не спорил. А благоразумный Долгождан быстро признал правоту названого брата: для сына Перуна в любом дубе могут вдруг распахнуться ворота, в которые никто не сможет за ним последовать, и что им тогда делать? Лучше уж сейчас проститься, пока назад в Прямичев лежит прямая и понятная дорога.
На другой же день Долгождан и Солома с княжеской лошадью отправились назад, вниз по Турье, а Громобой пошел в другую сторону – к ее истоку, неподалеку от которого брал начало Стужень. Путь через безлюдные, засыпанные снегом, глухие леса не пугал его: по реке не заблудишься. Уборский воевода Прозор подарил ему лыжи, подбитые шкурой с лосиных ног, а в своих силах пройти какой угодно путь Громобой никогда не сомневался.
После Убора Громобой еще три раза ночевал в княжеских погостьях, дважды – в огнищах лесных родов, а несколько раз прямо на снегу, на лапнике возле медленно тлеющего костра. В последнем огнище на Турье хозяйка послала с ним внука-подростка, который и провел Громобоя по лесу до ручья, где брал начало Стужень.
– Тут дальше не заплутаешь! – говорил парень, показывая вдоль замерзшего, почти не видного под снегом оврага, и утирал покрасневший на холоде нос рукавицей. – Только того – тут Стуженем личивины ходят. Дорога ихняя тут из лесов к жилью. Говорят, на Истире огнища[10] грабят. Даже под городками на дорогах шалят. Ты смотри!
– Да уж посмотрю, что за личивины такие! – Громобой усмехнулся. О лесном племени, воюющем под звериными личинами, он кое-что слышал, и оно казалось ему скорее потешным, чем опасным.
Подросток ушел назад к дому, а Громобой отправился вниз по руслу ручья. Земля дремичей теперь осталась позади. Перед ним расстилались личивинские леса, которые в глазах говорлинов были вовсе не обитаемы людьми и казались какой-то глухой страной злобных духов. Много дней подряд Громобой не видел ничего, кроме снегов, черных и серых стволов, зеленых еловых лап, звериных следов, древесного сора на белом снегу, сбитого птицами, чешуек от шишек, вышелушенных белками. В этих местах дичи было в изобилии, и ни разу Громобою не пришлось ложиться спать, не поджарив зайца или глухаря. Казалось, он один на всем свете, как тот первый человек, которого Сварог[11] вырезал из дубовой чурочки и пустил обживать огромный, ждущий живого тепла белый свет.
Пустынность, полное безлюдье этих лесов не угнетали Громобоя, а, наоборот, успокаивали и каким-то непостижимым образом помогали осознать свое место в мире. Много, много дней подряд чувствуя себя единственным человеком на всем белом свете, он все больше утверждался в сознании своей силы. В нем день ото дня крепло то самое сознание, которое в него не раз пытались вложить еще в Прямичеве: что он, такой вот, родился на свет не зря. Ему говорили это Вестим и Зней, старуха Веверица и князь Держимир, но только теперь Громобой, не вспоминая чужих наставлений, стал верить в это сам. Какой-то частью души скучая по людям, он все больше хотел что-то для них сделать, а это желание дает и силы. Далекий человеческий мир, скрытый за глухими пространствами безлюдных лесов, ждал от него дела, и Громобой шел к этому делу. Убежденность в своем предназначении вырастала откуда-то из глубины души сама собой, а именно такая и бывает крепче внушенной извне. Именно сейчас, с утра до вечера измеряя лыжами, которые тот провожавший его подросток называл просто «лосиными ногами», неизмеримые лесные пространства, он с небывалой прежде полнотой ощущал себя Перуном, вместилищем горячей и бурной силы небесного огня. Живой человек среди безмолвных снегов – Сварожья искра в непроглядной Бездне.[12] И сама эта сила, составлявшая его существо, вела его вперед. Он должен был идти именно потому, что родился таким, а не другим.
Несколько раз он встречал поселения тех самых личивинов, о которых столько слышал, но ожидаемых приключений не происходило: он никого не трогал, и его никто не трогал. Над рекой вставали длинные бревенчатые дома под дерновыми крышами, с рогатыми лосиными черепами на коньках, выбегали с лаем небольшие, но сильные, пушистые, с умными острыми мордами охотничьи собаки, подростки отгоняли их, тараща на чужака черные, круглые от любопытства глаза. Однажды – дело было под вечер – на шум вышли две женщины с длинными черными косами, красиво блестящими поверх серой и рыжей шубы мехом вверх, и знаками позвали Громобоя в дом, показывая на закат и в землю: дескать, скоро солнце спрячется совсем. Мужчин в доме было мало – как видно, ушли на охоту, и у огня трех земляных очагов, на низких деревянных помостах, что тянулись плотно вдоль стен, служа и столами, и сиденьями, и лежанками, копошились в основном женщины, старики, дети. Громобоя покормили похлебкой из рыбы, дали кусок хлеба, в котором ясно ощущался привкус растертой сосновой коры. Разговаривать с ним никто не пытался, только дети все таращили глаза на его оружие. Наутро Громобой пытался вручить одной из женщин стрелу с хорошим железным наконечником в уплату за гостеприимство, но она замахала руками и стала знаками изображать охоту: самому, дескать, пригодится. И проводила его обратно до реки, делая мелкие благословляющие знаки и приговаривая по-своему: «Укко-Скууро, этси Ауринко-Тютар! Оннэа маткалле! Тойвотан менеетюстэ!» Громобой ничего не понял, но, уезжая, мысленно пожимал плечами. И какой дурак придумал, будто личивины – оборотни и злые духи? Люди как люди. Всем бы такими быть.
Не раз вдалеке, особенно ближе к ночи, над молчащим лесом разносился волчий вой, не раз поднимались метели, так что два или три дня Громобой был вынужден, прервав путь, отсиживаться в шалаше из еловых лап, а потом откапывать себе выход на волю, как медведь из берлоги.
Но и сидя в полутемном шалаше, и на бегу через лес под серым низким небом, он часто думал об одном и том же. Мучительно хотелось знать: кого же он потерял? Никогда раньше Громобой не был склонен к размышлениям – он был достаточно умен, чтобы быстро усваивать все, что относилось к нему, но недостаточно любознателен, чтобы усиливаться постигать все то, что к нему отношения не имело. Нынешний же случай был совсем особенным.
Он очень хорошо знал ту девушку, которая привела его к дубу и исчезла, оставив только следы на снегу. Солома и Долгождан уверенно описывали Веселку с Велесовой улицы, Хоровитову дочь, но Громобой не мог ее вспомнить. Он отлично помнил Прямичев, и Велесову улицу, и купца Хоровита, и его жену, и детей, и кое-каких девок по соседству. Никакой Веселки он не помнил, и черты ее лица и нрава, как ни старался изумленный Солома их втолковать ему, не вызывали в его памяти никакого образа. Уж слишком это все напоминало басни о невиданных красавицах, что живут непременно за морями, если вовсе не на небе. «Да лицо-то у нее как и белый снег, у нее щеки будто алый цвет, очи ясны у нее, как у сокола…» Короче, руки в золоте, ноги в серебре, во лбу звезда – это кощуна[13] какая-то, а не жизнь. Все было не то.
Самое загадочное, что «не то» в описаниях Соломы означало, что в душе Громобоя жило что-то другое, какое-то таинственное «то», которое он и потерял возле того дуба. То легкое облачко, что мерещилось ему во время беседы с Мудравой, поселилось где-то возле сердца и теперь шло вместе с ним через эти бесконечные зимние леса. Его не оставляло сознание, что без своей пропавшей спутницы он и сам стал каким-то ненастоящим. И чем сильнее он ощущал в себе Перуна, рожденного оживить и освободить эти леса от ледяных оков Зимерзлы, тем острее становилось сознание этой утраты и необходимости ее восполнить. Сам путь его имеет смысл только в одном случае – если ведет к ней. И Громобой бежал и бежал по руслу окованной реки на «лосиных ногах», и ему помогало уверенное ощущение, что с каждым шагом он приближается к ней. Он не знает ее лица, но он не пройдет мимо нее. Он не может сбиться с пути – в какую бы сторону он ни повернул, он неминуемо придет к ней. Их встреча неизбежна, она предопределена их внутренней сутью, так же очевидна, как само их существование. Громобой никогда не смог бы выразить в словах эти тонкие и сложные ощущения, но в его душе они были слиты и сплавлены в какую-то золотую стрелу, которая указывала ему путь.
Мало-помалу лес расступался, река становилась все шире. Лыжи пришлось снять и вздеть за плечи: на открытом месте весь снег со льда сдувало ветром, и, несмотря на частые снегопады, здесь идти пешком было легко – по ровному месту, как по скатерти. И однажды Громобой обнаружил, что идет по широкой, в два перестрела,[14] ледяной дороге, а лес по берегам, все это немереное время нависавший над головой, смирно отступил и смотрится неразличимой серо-снежной стеной. Все указывало на то, что близко устье реки.
Когда Стужень кончился, Громобой не сразу это заметил. Ему показалось, что лес просто кончился и он вышел на луг, неоглядно широкий, как те проклятые Поля Зимерзлы. Ветер на открытом пространстве накинулся на него с яростью, словно зверь, изголодавшийся в пустом месте и наконец-то учуявший хоть одно живое существо. Впереди возвышалась снеговая стена и преграждала ему путь.
«И унес Змей Огненный ее в горы ледяные, горы крутые, железные…» – неведомо откуда всплыли слова какой-то стариковской басни. Громобой остановился, недоумевая, как же обходить эту гору, и вдруг заметил на ее вершине густой лес. И только тут до него с опозданием дошло: да он же выбрался на Истир! Этот «луг», по которому он идет, – это замерзший Ствол Мирового Дерева, а гора – его противоположный, крутой берег. Он был на священной реке, матери всех говорлинских племен, и она лежала перед ним как прямая дорога в небеса.
Сообразив, в какой стороне устье, Громобой поклонился Стуженю, приведшему его сюда, поклонился Истиру, которому предстояло вести его дальше, и двинулся вниз по течению. С первых же шагов его охватило какое-то неуютное чувство; оглядевшись, Громобой сообразил, в чем тут дело. Широкое белое полотно реки сияло нетронутой чистотой и гладкостью – ни следов, ни навозных пятен, неизбежной грязи торгового пути. А ведь кто-то здесь ездить должен: на берегах Истира стоят княжеские погостья и городки, живет множество родов. Здесь, возле впадения Стуженя в Истир, городков должно быть сразу два: Хортин дебрического князя и Велишин смолятического. Громобой шел, оглядывая берега, и на каждом прибрежном холме ожидал увидеть дымы и крыши.
И действительно, вскоре он заметил первые признаки человеческого присутствия. У низкого берега, ближе к которому он держался, из снега торчал широченный, относительно свежий дубовый пень с многочисленными следами топора. Шагов через десять попалось еще несколько пней – от березы и сосны. Громобой ускорил шаг: очень может быть, что срубившие эти деревья люди опережают его на месяц-другой, но эти первые за множество дней следы человека разбудили в нем нетерпение. Ему вдруг страстно захотелось убедиться своими глазами, что в этом снежном мире есть еще хоть кто-то из людей!
Через недолгое время впереди показалось что-то странное. Нечто вроде высокой, в три человеческих роста, полутемной стены перегораживало реку, начиная от ближнего пологого берега. До противоположного берега стена не доставала, но между ее концом и крутым западным берегом тянулась другая стена, белая, составленная из громадных ледяных глыб, засыпанных смерзшимся снегом.
Разглядывая странную стену без ворот, Громобой замедлил шаг. Она так не вязалась с гордым величием широкой реки, с мирным покоем спящего леса, казалась нелепой, неумелой и неуместной поделкой, и Громобой ощутил желание немедленно смести ее, как кучу сора. Какой злой дух все этот тут взгородил? И зачем? Раздумывая, он подходил все ближе. На ближнем к берегу конце засеки виднелось какой-то дикое сооружение, похожее на бобровую хатку из сосновых стволов и ветвей. Что за леший живет? Громобой пошел быстрее: любопытно было, что же все это значит.
Возле «бобровой хатки» мелькнуло что-то живое; Громобой приостановился. В щель между бревнами вылез крошечный человечек, похожий на лешего: одетый в косматый кожух,[15] суетливый и юркий, с темным, едва видным из-под бороды лицом. В руке у него серовато поблескивал топор. Громобой остановился, разглядывая неожиданно мелкого обитателя великаньего шалаша, а тем временем из щелей полезли новые. Как муравьи из муравейника, пять или шесть таких же «леших» выбрались из-под завала и направились по льду прямо к Громобою. У кого-то были топоры, у кого-то копья и луки.
Громобой на всякий случай сбросил на снег свои лыжи. «Лешие» выглядели скорее жалко, чем угрожающе: одетые в закопченные, грязные кожухи и шапки, заросшие бородами по самые глаза. Но лица их казались злобными, враждебно-вызывающие взгляды не нравились Громобою, хотя тревоги не внушали. Вид у них был нездоровый, какой-то одичалый; так и казалось, что вместо человеческой речи сейчас услышишь от них звериный вой.
Подойдя шагов на семь, «лешие» остановились, растянувшись цепью вдоль реки и преграждая Громобою путь. Ближе всех к нему стоял мужик непонятных лет, с длинными свалявшимися волосами, длинным носом и провалившимися глазами с болезненно-красными веками. Он смотрел на Громобоя как-то тупо-выжидающе и покачивал в ладони топор. На засаленном и порванном у самого плеча кожухе нелепо смотрелся ярко-красный, нарядный пояс с вышитыми концами.
– Здоровы будьте, мужички! – бодро приветствовал Громобой всех сразу. – Кто же вам такую избушку сложил – уж не батюшка ли Стрибог?[16]
– Семь вихрей, семь ветров! А ты кто же? – хрипло осведомился красноглазый.
– А ты кто такой, чтоб меня спрашивать? – с насмешливой приветливостью отозвался Громобой – тоже мне, старушка из избы на курьих ножках нашлась! – Уж если я куда иду, так всякую незнать[17] лесную не спрашиваю!
– Тут дороги нету! – ответил «леший». Его глаза по-прежнему смотрели на Громобоя без всякого выражения, как на пустое место. – Тут кто попало не ходит, а кто ходит, тот у воеводы дозволения просит и в пояс кланяется.
– Воевода? – Громобой усмехнулся. Ему вдруг вспомнилось предостережение Мудравы о разбойниках, засевших на Истире, и теперь стала ясна и эта засека, и «лешие». – Что же у вас за воевода такой? Речной? Или лесной? Или, может, подкоряжный? Сапоги лубяные, пояс лыковый?
– Ты сам будешь подкоряжный! – с туповатой угрозой отозвался вожак «леших». – Положим под корягу – там и будешь лежать.
– «В болото глухое, под корение сухое!» – повторил Громобой, вспомнив заговоры Веверицы. – Вам больше подойдет. Ну, где твой воевода! Давай его сюда, коли не шутишь!
– Много тебе чести – с воеводой воевать! – только и ответил «леший» и топором, что держал в руке, сделал короткий знак своим. – Давай, ребята!
«Лешие» с криком, воплем и визгом, так что после тишины резко зазвенело в ушах, разом кинулись на Громобоя. Он даже ухмыльнулся, выхватывая меч: «лешие» собирались драться с обычной глупостью нечисти – всем скопом, чтобы навалиться и задавить числом. Не на такого напали. Жаль, оглобли под рукой нет.
Громобой был не слишком привычен к оружию князей и кметей, но меч Буеслава неплохо ему послужил. Первый же удар развалил пополам «лешего», которому не посчастливилось добежать до него раньше других, так что голова с плечами упала на снег в трех шагах от уполовиненного тела, обрубки рук разлетелись в разные стороны, и лед на три шага оказался забрызган блестящей, дымящейся темно-красной кровью.
Вопли мгновенно зазвучали по-иному: угроза и дикое торжество в них сменились ужасом; набегавшая было волна отшатнулась назад. Быстрое движение клинка выписало в воздухе длинную черту желто-синего пламени, пахнуло жаром, вспышка ослепила глаза; казалось, сам человек вмиг обернулся шаровой молнией, «громовым колесом», разящим гневом небес.
Неожиданная вспышка ошеломила и самого Громобоя, хотя и меньше, чем «леших». Отскочив назад, он опустил меч и заморгал, стараясь прогнать с глаз огненные пятна и разглядеть своих противников. Из десятерых нападавших на ногах остались трое, и те убегали назад к засеке, побросав на лед, возле тел бывших товарищей, свое исковерканное оружие. Клинок в руке Громобоя сиял ослепительным синим светом, как кайма молнии в темной туче, и кровь прямо на глазах впитывалась в него, не скатываясь на снег.
– Эй, погоди! – заорал Громобой и со всех ног пустился вслед за лиходеями.
Вдруг ему стало весело: в крови вскипело какое-то горячее, лихорадочное удальство, сила забурлила и рванулась на волю, совсем как тогда, перед княжьим двором в Прямичеве. Отец Гроз проснулся в его крови и толкнул в битву, как на праздник.
Услышав его голос, «лешие» побежали еще быстрее, а им навстречу из щелей засеки лезли новые, все больше и больше, их набралось уже десятка два. Навстречу Громобою полетели стрелы, но все как одна легли далеко, словно какая-то невидимая сила отбрасывала их от Громобоя. И он чувствовал присутствие этой силы: тот огонь, который он носил в себе, вспыхнул и наполнил его горячей неудержимой мощью.
Эти новые были вооружены всерьез: каждый, кроме копья или топора, держал щит, а у некоторых поверх шапок даже имелись железные шеломы. «А работа так себе!» – привычным глазом кузнеца мимоходом заметил Громобой. На лицах отражалась злоба, но Громобою она казалась смешной. Без щита и шелома, с одним мечом, он однако же ощущал себя неуязвимым, несокрушимым, всемогущим, и эта драка с «лешими» казалась всего лишь забавой.
– Давай все разом, чего возиться! – весело крикнул он и призывно махнул рукой. – Эх вы, вояки подкоряжные!
Трое «леших» издалека метнули копья, но два пролетели мимо, а третье Громобой поймал в воздухе и тут же, одним движением перевернув, метнул назад. Никогда раньше он такого делать не пытался, но сейчас сам не заметил, как у него это вышло; все казалось легко и просто. Он даже не целился, но копье из его рук нашло жертву: один из бежавших, как казалось, сам напоролся на летящее острие и мешком повалился на лед. В яростных криках остальных зазвучал ужас, но бежавший первым «леший» оглушительно засвистел, подгоняя свое воинство вперед.
С одного взгляда на свистуна Громобой понял, что это и есть здешний вожак. Мужик в косматом волчьем кожухе был невысок, но коренаст, длиннорук и ловок. Борода была длиной до пояса, волосы, темные с проседью и густые, как личивинская чаща, спускались с непокрытой головы ниже плеч и путались с серым мехом кожуха. Взгляд у него был дикий, пронзительный и такой нехороший, что Громобой перестал смеяться и нахмурился. Из этих глаз на него глянул тот же дикий, неживой, вечно голодный и злобный дух, что он уже встречал в обличии черного волка – Зимнего Зверя. Вот это был противник для него!
На бегу косматый вдруг пронзительно засвистел, и у Громобоя неожиданно дрогнули колени, как будто под них сзади ударили острым холодным железом. Глаза сами собой зажмурились, уши заложило, но все это только подстегнуло ярость Громобоя, и он с удвоенной силой бросился вперед.
– Гром на тебя! Рассыпься! – выдохнул Громобой, с замахом вскинул меч и обрушил его на щит свистуна, который как раз до него добежал.
Удар прозвучал гулко, свистун присел, прикрываясь щитом, но сила удара была больше, чем он мог выдержать, и он упал на лед, но щит по-прежнему держал над собой. Громобой выпустил меч, нагнулся, схватил упавшего за ноги, рывком поднял и его телом, как дубиной, наотмашь ударил трех набежавших лиходеев. Те покатились по льду, звеня своим оружием и испуская вопли ужаса; на белом снегу густо заалели кровавые брызги.
Сам свистун поначалу дико взвыл, но быстро затих, когда голова его столкнулась на лету с чем-то из оружия его же ватажников. А Громобой шагал вперед, продолжая молотить ряды нападавших головой их же вожака, и они отступали, спотыкались, катились по льду назад, крича и вопя. Дикое зрелище и бесславная гибель вожака потрясали ватажников и лишали сил. Из завала вылезали все новые «лешие», но, разглядев, что происходит, половина из них кидалась назад.
Добравшись до самой засеки, Громобой бросил на снег тело, не подававшее никаких признаков жизни, и ухватил ближайший ствол. Теперь он мог сделать то, что хотел – смести с лица Истира эту дрянь! Под руку ему попался молодой дубок; ухватив за развилку ствола, Громобой выдернул его из кучи и вскинул над головой. Он ощущал, как неохотно подалась перепутанная, смерзшаяся древесная «кладка», но вырвал дерево почти без усилий – как ему казалось. Та же горячая сила бурно кипела в нем, для него не было ничего трудного.
«Лешие» с воплями скопом лезли на него, но Громобой, как вихрь, единым махом сметал дубком десятки человек. Ему было смешно смотреть, как они лезут на свою погибель, он хохотал, глотал холодный воздух, задыхаясь от жары и от смеха. Тела, отлетавшие под его ударами, казались не тяжелее теней. Обходя его, противники бежали прочь, он пытался их догнать, бил с размаху своим дубком и тут же искал новых; его раздражало, что они, как муравьи, разбегаются в разные стороны, гоняйся теперь за каждым!
Наконец он выдохся и опустил дубок. Поблизости уже никого не оставалось, и лишь несколько темных фигурок, суетливо дергая ручками и то и дело падая, убегало по гладкому льду куда-то вверх по течению Истира, в ту сторону, откуда он пришел. Громобою было отчаянно жарко, все тело пылало горячим паром; распахнув кожух и сбросив на лед шапку, он рукавицей вытирал мокрый лоб.
Он остался совсем один: вокруг было тихо, белый лед был усеян темными телами в самых нелепых положениях – искореженных, избитых. Возле них лед был залит красным – как соком из раздавленных ягод.
Вдруг одна из ближайших «ягод» застонала. Громобой опомнился: с него спал тяжелый кровавый хмель, и он осознал, что натворил.
От ужаса волосы шевельнулись на голове и стало холодно. Дрожащими руками Громобой запахнул кожух, кое-как завязал пояс каким-то нелепым узлом и поднял со снега шапку. Шапка и рукавицы казались насквозь мокрыми и надевать их не хотелось. Громобой безотчетно сунул их за пазуху, не сводя глаз с ближайших к нему тел.
Что же ты натворил… рыжий медведь! Его все сильнее бил озноб, все яснее делалось, что он только что поубивал два или три десятка человек… Передавил, как муравьев… Но это же не муравьи, люди… Хотелось скорее очнуться от этого дурного сна; Громобой пытался понять, как это вышло, но почти ничего не помнил. Какая-то злобная нечисть в беспамятстве занесла его на этот берег и бросила возле накиданных мертвых тел, чтобы он принял все это за дело своих рук… Тяжесть многократной человеческой смерти черной волной разлилась над рекой и навалилась на него, дышать стало трудно, словно камень лег на грудь. Тянуло сказать кому-то: «Я не хотел!» Громобой смотрел на дубовый ствол, валявшийся под ногами, и следы крови на коре ужасали его, бросали в дрожь.
Не хотел… Он даже не мог понять, как это получилось. Что такое вдруг проснулось в нем и толкнуло убивать всех подряд? Да, они сами начали… Но десятки убитых оставались десятками убитых, Громобой не верил в дело своих рук и сам себе казался жуток, дик, чужд… Снова и снова он старался вытереть о подол кожуха свои руки, хотя на них следов крови не осталось, а дрожь не унималась, словно все эти мертвые духи вцепились в него невидимыми холодными зубами и рвут по жилочкам, по косточкам, по суставчикам, а он беззащитен – от нежити бревном не отмашешься… Как тогда, в Прямичеве, перед княжескими воротами… Но сейчас и буйство драки, и ужас перед содеянным были сильнее.
Громобой шагнул к ближайшему телу. Может… может, еще не поздно хоть чуть-чуть поправить? Лиходей был еще жив: удар бревна пришелся по плечу и рука была откинута в сторону под каким-то нелепым углом. Искаженное болью бородатое лицо кривилось, из сжатого рта вылетало звериное поскуливание. Ощутив тень, раненый приоткрыл глаза и тут же, вытаращив их, завопил благим матом, дернулся, попытался отползти назад, несмотря на боль. В выпученных глазах бился такой ужас, что Громобой содрогнулся и попятился.
Но все же у него отлегло от сердца: одним мертвецом меньше. Не обращая внимания на вопли мужика, Громобой разрезал на нем кожух, осмотрел размозженное плечо и по возможности вправил кости. Еще лет десять назад Веверица взялась его учить этому делу, приговаривая, что «много костей ты в жизни переломаешь, а кто поломал, тому и вправлять». Ободрав подол рубахи того же мужика, Громобой его же топором вырубил подходящие дощечки и приладил ему лубок, бормоча заговор той же Веверицы: «Как у синего камня нет ни раны, ни крови… Встань на камень, кровь не канет; встань на железо, кровь не полезет; встань на песок, кровь не течет…» Мужик то ли ослабел от боли, то ли обеспамятел от изумления, но больше не кричал и не дергался, а дал Громобою покончить с ним и заняться следующим.
«Вот медведь проклятый! – бранил Громобой сам себя, одно за другим осматривая лежащие тела, поднимая то одного, то другого и с тоской убеждаясь, что большинству помощь не нужна. – Чтоб тебя самого так перекорежило! Как хватит за руку, так рука вон! Правильно тебе говорили: голова с воз, а ума с воробьиный нос! Кулаки что молоток, а голова – пустой горшок! Тьфу!» Размозженные головы, свернутые шеи, продавленные ребра, переломанные хребты… Кровь, кровь, кровь… Громобоя мутило от вида и запаха этой кровавой каши, но он хмурился, кусал губы и терпел: сам виноват! Но кое-кого он все-таки перевязал, замотал в лубки поврежденные руки и ноги. За сломанные носы и челюсти он браться боялся – как бы своими копытами хуже не наделать, тут умелая бабка нужна. Где ее взять?
– Давай, что ли, помогу! – сказал рядом женский голос.
Громобой обернулся. Возле него стояла женщина, средних лет, румяная, круглолицая, с задорно вздернутым носом и ясными, светло-серыми глазами.
– Пусти! – Она подошла ближе, отстранила Громобоя от лежащего мужика с разбитой челюстью и опустилась на колени. – Я тут сама справлюсь, а ты разведи-ка огонька – зазяб ведь сам.
– Ты кто? – как дурак, спросил Громобой.
– Живина! – ответила женщина, глянув на него, словно он и сам знает, да забыл почему-то. – Мать послала. Сестра-то моя Запрета не успела тебя за руку схватить, а ты уж Встрешника[18] за ноги взял – не подступишься! Ох, парень! Плохо, когда ум без силы, а когда сила без ума – и еще того хуже! Что Перун без Велеса, что Велес без Перуна…
Громобой вытирал руки об обрывок чьей-то грязной рубахи (после первого раненого он догадался брать для перевязки рубахи убитых, которым они уже не нужны). Живина… Еще одна из восьми дочерей Макоши,[19] помогающая больным и увечным, поддерживающая огонь жизни в тех хрупких сосудах человеческих тел, где он грозит угаснуть… Мать послала… Сестра Запрета, что назначена Макошью удерживать от дурных поступков, не успела схватить его за руку… Да уж, припоздала, матушка!
– Что это со мной было, а? – Громобой присел на корточки, заглядывая в лицо богине, хлопотавшей над раненым.
Казалось, ничего особенного она не делала: просто водила пальцами над головой лежащего, и из-под ее пальцев струился мягкий желтоватый огонек – жизнеогонь, живым вместилищем которого являлась богиня Живина и которого не хватало раненому. И сама собой исчезла кровь, искаженные черты лица разгладились, дыхание стало ровным, даже волосы заблестели, будто только что из бани. Громобой заметил, как не похожи нежные розовые пальчики Живины на сухие, длинные пальцы Мудравы, загрубелые от нескончаемой нити и веретена.
– Сам не знаю, что со мной такое случилось! – продолжал он, радуясь, что есть с кем поговорить. – Не хотел я, клянусь, не хотел! Они сами на меня полезли…
– Что полезли, так не могли не полезть! – рассудительно ответила женщина, не отводя глаз от раненого. – Сидел тут Встрешник, а посадил его Сивый Дед. А ты – гром небесный, ты им – нож острый, копье колючее. Не могли они тебя пропустить, а если кто и мог их одолеть, то только ты.
Громобой оглянулся туда, где он бросил искореженное тело косматого вожака этой засечной ватаги. Смотреть на него не хотелось… но Громобой нигде его и не увидел.
– Не ищи! – Живина коротко глянула на него и бегло улыбнулась. – Это не враг тебе был, а так, комарик мелкий. Враг для тебя иной припасен. А этот – как умер, так и растаял. Хоронить не надо.
– А эти-то! – Громобой кивнул на лежащих. – Люди, как есть. Что же они…
– А и то! – Живина глянула на него снисходительно, как на глупого ребенка. – Говорила же тебе Мудрава: голод в разбой толкает. Запасы-то народ подъел – ведь по-старому уж березень-месяц[20] на дворе бы был! А тут, гляди, какой купец и проедет, все пожива будет!
– Березень! – Громобой так и сел на лед.
Мир покачнулся перед глазами. Конечно, он чувствовал, что с тех пор как впервые в этом нескончаемом году выпал снег, прошло уже много времени. Но при неизменно коротком дне следить за ходом времени было трудно, и он давно утратил даже примерное представление о нем. Он лишь надеялся, что зима еще не вышла из своих обычных пределов, что еще можно постараться и запустить годовое колесо вовремя… Но березень-месяц! Два лишних месяца снег лежит!
– Ну, березеня-то нет никакого, сам видишь! – Живина кивнула куда-то в сторону, имея в виду снег, который все равно везде, куда ни глянь. – Толкнешь ты годовое колесо, не толкнешь – все, что пропало, уж не вернется. Того березеня, что пропал, больше не видать. Если и будет, то другой какой… Ну, огонька-то разведешь мне? Или народ померзнет!
Опомнившись, Громобой пошел разводить огонь. За дровами, слава Перуну, ходить недалеко – только выбери из засеки бревно посуше. Выдернув сосновый ствол, Громобой наклонился к лежащему поблизости топору, но тут вспомнил про свой меч. Надо бы отыскать – не пропадать же сокровищу прямичевских князей! Оглядевшись и заметив кучку тел, лежавшую подальше от всех прочих, он вспомнил, как началась эта дикая битва… где он взял за ноги лиходейного вожака, оказавшегося самим Встрешником.
Отыскав меч, Громобой вернулся к засеке. Можно считать, крепость у врага отбил. В Прямичеве любят эту зимнюю забаву – городить ледяную крепость и отбивать ее ватагами друг у друга. И там Громобой с детства отличался – сколько разбитых носов, подбитых глаз, вывихнутых рук… Тьфу! Громобой скривился – собственную удаль почему-то было противно вспоминать. В досаде он со всей силы ударил мечом по ближайшему бревну в засеке: гори ты синим пламенем!
И, мгновенно ответив его мысленному приказу, над бревном вспыхнула волна прозрачного синеватого пламени. Громобой отскочил от неожиданности, не веря глазам. Беловато-желтый язык огня, по краям окаймленный прозрачной синью, широко и бурно взвился на стене засеки, лизнул ее снизу доверху и затрещал в переплетении веток. В лицо Громобою полыхнуло жаром, он попятился. А огонь, словно радуясь, что ему освободили место, заревел и ринулся в бой. В какие-то мгновения все засека была охвачена синеватым пламенем. Громобой стоял в десятке шагов от нее, держа в руке свой меч, и синие отблески пламени на синем клинке играли особенно остро и ярко, словно меч вдруг открыл глаза и любовался своим творением.
А засека на глазах стала разваливаться: словно что-то толкало ее изнутри. Огромные пылающие стволы один за другим вылетали из завала и, рассыпая искры, разливая волны жара, падали с шипением на лед. Громобой пятился, прикрывая рукой лицо; в ушах стоял оглушительный гул пламени, треск и дикий вой, словно выл, корчась в муках, какой-то жуткий дух. Над рекой стало жарко, как не бывает и летом, и страшно казалось, как бы сам Истир не проснулся от зимнего сна, потревоженный этим буйством пламени на поверхности его ледяного доспеха. Ледяные глыбы возле засеки плавились, и на их вершинах трепетали гребни того же синеватого пламени.
– Хорошо, – сказал женский голос у Громобоя за спиной. – Одну дорогу ты себе расчистил, вот бы и все прочие так. Теперь – иди.
Не оборачиваясь, Громобой шагнул вперед. Стена огня опала, теперь за широким черным полем, усеянным дымными головешками, он увидел Истир – длинное пространство широкой реки, которое раньше было скрыто от глаз засекой. Замерзшие стволы сгорели невероятно быстро, и стена пламени опала, раскрыв перед ним ворота на полуночь.
– Иди! – повторила за спиной богиня. – Вон там – Велишин. Видишь?
– Вижу, – одними губами отозвался Громобой.
Впереди, на высоком крутом берегу виднелся город – такой большой, что даже со льда, снизу, его стены и крытые тесом крыши сторожевых башен были хорошо видны. Уже спускались сумерки, очертания города немного расплывались, он казался загадочным, прекрасным и манящим, как те золотые терема на вершине мира, где обитают сами боги.
И Громобой пошел прямо через пышущее жаром пожарище, даже не подумав, что может спалить сапоги.
До Велишина он добрался как раз к сумеркам, когда десятник уже стоял на башне, помахивая плетью и издалека подгоняя мужичка, торопящегося с возом дров:
– Давай, давай, Досужа, шевелись, закрываем! К личивинам пойдешь ночевать!
Громобой прошел в ворота даже раньше припоздавшего дровосека, и десятник кинул на него беглый удивленный взгляд. И мужичок, проезжая следом, не сводил глаз с рослого плечистого парня с рыжими кудрями и почему-то мечом на поясе. Меч не слишком вязался с простой одеждой и лыжами за спиной, и десятник, по лицу Громобоя скользнув вполне равнодушным взглядом, на мече задержал внимание. Но спрашивать ничего не стал. В такое время каждый норовит вооружиться.
Позади ворот сразу раскинулся широкий пустырь, в более благоприятные времена служивший местом торга. Сейчас он был пуст, половина ворот выходящих на него дворов уже закрылась. От пустыря в разные стороны расходилось несколько улиц – две вдоль крепостных стен, остальные куда-то в глубину города, к детинцу. Громобой неспешно шел через пустырь, оглядываясь. Уже темнело, все ворота и избы казалиcь серыми, сонными, одинаковыми. Но из-под заслонок тянулись дымки, на кольях тынов[21] сохли горшки и корчаги,[22] отовсюду веяло жилым духом. Собаки лаяли на чужака, редкие прохожие с любопытством оглядывались на Громобоя, и ему было отчасти неуютно в городе после долгого лесного безлюдья. Одичал совсем, мало-мало что хвост не вырос…
– Эй, молодец! Погоди, что ли! – окликнули его сзади, и Громобой обернулся.
Звал его тот мужичок, что шел рядом с волокушей,[23] погоняя усталую лошадь. Громобой остановился.
– Ты, я смотрю, не наш, не велишинский! – продолжал мужичок. – Может, ищешь кого? Так я подскажу, я всех наперечет знаю.
– Издалека я! – Громобой кивнул, и его дремический выговор подтвердил мужичку, что собеседник его не просто издалека, а очень издалека.
– Оно и видно… А к нам чего – родня здесь, что ли?
– У доброго человека по всему свету родня!
– Оно и верно! – одобрил мужичок. – Ну, пойдем к нам, что ли? У меня место есть.
Они поднялись вверх по улочке, и девушка, стоявшая в воротах одного из серых, притихших дворов, замахала рукой внутрь двора:
– Едет, едет!
– Это дочь моя, Добрушка, – мужик хмыкнул, как видно, обрадовавшись при виде дочери. – Приехали.
Громобой ухмыльнулся: заметив рядом с отцом незнакомого гостя, девушка застыла, не сводя с него глаз, и на лице ее было недоверчивое изумление: это что – к нам? Откуда? Почему? Зеленый платок, впопыхах накинутый, свалился с ее головы на плечи, и стали видны две русые косы, закрученные в калачи на ушах. У себя дома Громобой ничего подобного не видел, и такая прическа казалась ему очень смешной. Но девушка, видно, решила, что он смеется над ее изумлением; она нахмурилась и исчезла за воротами.
Поставив лошадь, хозяин повел Громобоя в дом. Двор был широк, хлев рассчитан на несколько коров с овцами и свиньями, отдельно стояли курятник и амбар. На самом краю, у тына, Громобой приметил весьма знакомое сооружение – кузницу – и кивнул на нее хозяину:
– Ты работаешь?
– А кому же? – оживленно отозвался тот. – С личивинами хороший торг, за нож куницу дают, за топор соболя. Богато жили, и припас еще есть кое-какой. Кабы не… – Хозяин запнулся, вспомнив, что все это благополучие в прошлом. – И сыновей приучаю, да малы еще. А вот молотобоец у меня был знатный, да… – Он опять запнулся и махнул шапкой: – Ну, ладно, это все…
– Я сам из кузнецов, – сказал Громобой. – Отец мой – староста Кузнечного конца в Прямичеве.
– Да ну! – Хозяин даже остановился на крыльце и, задрав голову, глянул в лицо гостю. Он так удивился и обрадовался, словно дремический парень вдруг оказался его племянником. – Ну, недаром я на тебя наскочил! Ну, идем, идем, чего встал!
За порогом избы их встретила хозяйка – невысокая, но весьма дородная круглолицая женщина в красном повое,[24] с налобником, тесно усаженным разноцветными стеклянными бусинами. Громобой мигом прикинул, сколько ножей и топоров, в пересчете на дорогие стеклянные бусы, носит на голове хозяйка – получилось очень немало. Лицо хозяйки было суровым, а в руках она держала маленькую округлую чашу с водой и пылающий уголек в железных щипцах – прямо из печи.
– Смотри, мать… – начал Досужа, но жена махнула на него угольком, отчего в воздухе осталась дорожка сизого дымка, и тут же макнула уголек в воду в чашке.
Уголек резко, сердито шикнул, а хозяйка торопливо заговорила:
– На море на окияне, на острове на Буяне, лежит бел-горюч камень, на беле камне стоит дом железный, вереи медные! Ты, Мать Макошь, как хранила ты нас от веку, защити нас от змея огненного, от духа нечистого полуночного, и неживого, и незнаемого, и обертыша, и перевертыша!
Хозяйка бросила уголек на пол, девушка подала ей пучок какой-то засушенной травы, женщина макнула его в чашу и стала брызгать травой воду на Громобоя, быстро приговаривая:
– Не катись ты, вода, по чистому полю, не стелись ты по синему морю, а будь ты страшна духу нечистому, полуденному и полуночному, неживому и незнаемому, и обертышу, и перевертышу! А ты, дух нечистый, рассыпься по синему морю, по сырому бору, по медвяной росе, по утренней заре; нет тебе здесь чести и участи, места и покоя; и не делай пакости, дух нечистый, сему месту и дому, и скоту, и человеку, и от сего часу на весь век; полети отсюда на свое старое время, в бездну преисподнюю, и там будь заклят вечно и бесконечно на веки веков. Чур меня, чур!
Громобой довольно быстро понял, что она делает, и стоял спокойно, только старался сдержать ухмылку. Брызгая на него освященной угольком водой, хозяйка трижды обошла гостя кругом, и вместе с ней его окутало облако запаха высушенной плакун-травы, которую еще зовут зверобоем. Все это время та девушка с косами-баранками на ушах и два мальчика-подростка, лет тринадцати-четырнадцати, смотрели на обряд заклинания нечистого духа широко открытыми глазами, с затаенным дыханием, и Громобой едва удержался, чтобы им не подмигнуть.
– Чур меня, чур! – повторила хозяйка и застыла, держа в одной руке пучок плакун-травы, а в другой чашу и внимательно глядя на Громобоя: не рассыплется ли?
Громобой слегка развел руками: рад бы тебе угодить, да не рассыпаюсь что-то.
– Ладно, мать! – заговорил хозяин. – Поворожила – и успокойся, что ли. Это – добрый человек, из наших, из кузнецов, хотя и издалека. У него отец в Прямичеве староста кузнечный! Ты лучше ему меду поднеси, с воды-то что, хоть и с угольком! Ну, проводи в дом-то!
– А то как же! – с облегчением произнесла хозяйка и наконец опустила пучок плакуна. – Как же в нынешнее-то время незнамо кого в дом пускать! Как Добрушка прибежала: отец чужого ведет! – так я и спохватилась: не нечистый ли дух привязался! В лесу-то…
– Да он не из лесу, в воротах повстречал!
– Все едино! Одни нечистые и шарят! Сохрани нас Макошь и дочери ее!
Девушка тем временем ушла в глубину избы и вернулась с деревянным ковшиком, в котором белело молоко.
– Будь нашим гостем, добрый человек! – сказала она, подавая ковшик Громобою и поглядывая на него смущенно и чуть-чуть лукаво.
– Будь с вами мир, покой и достаток, скоту здоровья, людям веселья! – ответил Громобой, принимая ковшик.
Девушка была очень милой – с зеленоватыми глазами, немного вздернутым носом и розовым нежным румянцем на щеках. Казалось даже, что это она, а не печка в углу, наполняет теплом весь дом. Когда Громобой вернул ей ковшик, она потянулась к его лицу и слегка коснулась губами его заросшей щеки: видно, таков был обычай здешнего гостеприимства. Громобой, не ждавший такой чести, не сообразил вовремя нагнуться и только удивился. Вид у него получился немножко глупый, и братья-подростки прыснули со смеху. Девушка тоже засмеялась, и Громобою стало так легко здесь, точно он и правда пришел в свою семью.
Уставший за целый день в лесу хозяин послал сыновей топить баню, женщины готовили ужин. Громобою пока не досаждали вопросами: как говорится, сперва напои, накорми, а потом и спрашивай. Когда же он после бани уселся с хозяевами за стол, взгляды обеих женщин стали еще более любопытными: избавившись от щетины, с расчесанными волосами гость показался им красивым, а значит, еще более занимательным. У Добруши и братьев был такой вид, будто им всем поднесли подарок, и Громобой изо всех сил старался вести себя как должно, не опрокинуть чего-нибудь на столе. Совсем в лесу одичал – от человеческого дома и от людей отвык!
Между гороховой кашей и карасями в сметане Досужа решил, что время для расспросов подошло.
– Как же ты к нам добрался-то? – начал он. – Прямичев-то неблизко.
– Зачем же тебя в такую даль понесло? – нетерпеливо подхватила хозяйка. – Тут теперь только нечистые духи лазят!
– У вас ведь тоже – так? – Добруша кивнула на окошко, сейчас задвинутое заслонкой, но ясно было, что она имеет в виду бесконечную зиму. – Как у нас, да?
– И у нас, и у вас, и везде на белом свете – так! – ответил Громобой сразу обеим хозяйкам. – Хочу посмотреть, что на свете делается и нельзя ли как делу помочь.
– И у нас так! – Досужа горько закивал. – Все зима и зима, все зима и зима, проклятая, чтоб ей ни чести, ни места! Запасы подъели – хорошо у меня хозяйка, чисто белка: все-то у нее по щелочкам распихано, в каждом пенечке по орешку… От капустных кадушек с осени проходу не было.
Девушка и братья засмеялись, воображая свою дородную мать белочкой, а хозяйка погрозила мужу ложкой:
– Будешь впредь со мной спорить! «Куда столько, подпол ломится, хлеб погниет, крупу мышь поест!» А вот пришло время, так поклонишься мне – есть что пожевать!
– Личивины теперь торговать не ездят, торг столько дней пустой стоит, одни вороны скачут! – продолжал Досужа. – У меня этих ножей, ледовых подков, топоров, серпов, сошников лежит – год торговать хватит. А не едет никто, кому теперь сохи нужны? Снег пахать?
– А Зимнего Зверя не видели?
– Ой, видели! – воскликнула Добруша, и ее ресницы встрепенулись, как ласточкины крылья. – В самое новогодье! Навалился Зимний Зверь на солнце, чуть не съел! Мы все чуть со страху не померли! А хотела наша старуха погадать – глядь, а чаша-то разбита!
Ее братья принялись наперебой рассказывать про явление Зимнего Зверя, но Громобой слушал их без удивления.
– И у нас так! – только и сказал он, когда братья кончили.
– А у речевинов что? – спросил Досужа.
– Не знаю. – Громобой пожал плечами. – Я только личивинов видел. Люди как люди…
– Стой, а ты как же прошел-то? – сообразил хозяин. – Ты от Прямичева как шел-то? По Истиру снизу? Так должен был мимо речевинов идти. Или теперь и земли местами переменились?
– Шел я по Стуженю от Турьи. На Истир вот только что вышел.
Хозяева промолчали в ответ и переглянулись.
– Ты как шел-то – лесом? – с какой-то осторожностью спросил Досужа.
– Я не леший – лесом лазить в такой снег! Истиром шел, говорю же!
Хозяева еще раз переглянулись.
– А как же ты… через засеку… – почти прошептала Добруша, боязливо глядя на него. – Если сверху от Стуженя…
И Громобой вспомнил о засеке, которая за время пути к городу и знакомства с Досужиным семейством совсем вылетела у него из головы.
– Да ты про что? – дружелюбно спросил он у девушки. – Какая засека?
– Встрешникова. Что на реке стоит и никого не пускает.
– Нет там никакой засеки. Чистое место. – Громобой мотнул головой.
– Это ты… как-то… того… мимо прошел, что ли? – высказался наконец озадаченный хозяин, не предполагая даже, как это могло произойти. – Стоит же на Истире, под самым городом, засека. И сидит там Встрешник, нечистый дух, со своей ватагой. Уж два обоза купеческих, говорят, разграбили, лиходеи, чтоб им ни чести ни места!
– Чтоб им с моста провалиться! – в сердцах бросила хозяйка.
– Мы и за дровами-то ездить боимся – как бы что, по десятку собираемся, я один припоздал!
– А что же ваш воевода? Или нет такого? – спросил Громобой.
– Как не быть! Воевода Берислав, из самого Глиногора родом, князем Скородумом к нам сюда посажен.
– Что же – без дружины посажен? Или так сидеть, скамью греть?
– Зачем обижать! Воевода хороший, честный, судит по правде, в прежнее время берег нас. А теперь… Снаряжался он на Встрешника, два раза даже…
– Только Встрешник этот – нечистый дух! – выкрикнула хозяйка. – Как засвищет – лес к земле клонится, из людей дух вышибает! Кого воевода на него повел – едва половина вернулась!
– Да ну, мать, не гневи богов! – Досужа поморщился. – Все живые пришли. Только с десяток оглохло, а у прочих еще того… колени стали слабые. Едва-едва теперь отходят. Этот Встрешник, я тебе скажу, – хозяин наклонился через стол к Громобою, – и впрямь нечистый дух. Свистом людей губит. Потому больше воевода и не ходит на него. А вот как он на нас пойдет…
– Не надо, батюшка! – Добруша сморщилась, как от боли. – Не говори! Зачем ему на нас ходить?
– А ты не причитай! Пойдет – так пойдет, а говорю я, не говорю…
– А ватажники его – тоже духи нечистые? – спросил Громобой. От этого рассказа он сильно помрачнел, потому что вспомнил свое дикое буйство, и ему снова стало стыдно за пролитую кровь и отнятые жизни.
– Нет, это мужики…
– Да наши же мужики там есть, велишинские! – злобно бросила хозяйка. – Наш вон Справец – подручник его, тоже подался… Чтоб его громом убило! Как нам за хлеб отплатил! Пришел из лесу, лоб здоровый… вроде тебя, – хозяйка окинула Громобоя неприязненным взглядом, как будто обвиняла его в сходстве с не угодившим ей Справцем, – а ложку в руке едва умел держать, трех перечесть не мог! Выучили его ремеслу, невесту хотели сватать, женился бы да жил, так нет!
– Я тебе поминал, молотобоец у меня был, – виновато добавил Досужа. – Здоровый парень… Тоже все говорил: есть нечего, пропадем… Да разве я его не кормил? За столом со всеми сидел. А то взял да и пропал, а потом говорят – видели его во Встрешниковой засеке.
– На людей глядеть стыдно! – в досаде бросила хозяйка.
Громобой все молчал, хотя мог бы сказать: возможно, пожелания хозяйки сбылись и непутевого молотобойца уже убило. Громом.
В дверь постучали. Добруша отворила: отряхивая с плеч и шапок мелкий сухой снег, вошло сразу трое: двое мужчин и женщина, тоже с расшитым бусами повоем на голове.
– Говорят, гость у вас далекий, Досужа! – приговаривали они, уже найдя глазами Громобоя. – Пустишь нас послушать, что на свете делается?
Слух о госте кузнеца расползся по соседним дворам, и вскоре на лавках сидело чуть не пол-улицы. Громобою пришлось рассказывать: про Прямичев, про Зимнего Зверя, про Костяника,[25] про черную корову. И про свой поход к князю Огнеяру, на которого указала Веверица. Про Веселку он молчал: что-то замыкало ему рот, придерживало и без того не слишком умелый рассказ, словно она была – тайна, неведомая даже ему самому. Велишинцы изумлялись, ужасались, а при рассказе о видении Веверицы обрадовались: здесь, как оказалось, лучше знали князя Огнеяра. Но о том, мог он или не мог похитить Лелю, разгорелся спор. И Громобой с изумлением узнал, что смолятический князь Скородум, на земле которого он сейчас находился, с князем Огнеяром состоит в близком родстве, потому что несколько лет назад взял в жены его, Огнеяра, мать, княгиню Добровзору. Сам Огнеяр тоже бывал в Велишине и даже однажды избавил его от личивинской осады. Его все видели и хорошо помнили: его темные глаза, в которых вечно горит багровая искра подземного пламени, его волчьи клыки в ряду верхних зубов и полоску волчьей шерсти вдоль всего хребта, которую на шее можно увидеть. Одни говорили, что ему только богинь и похищать – похитил же он когда-то княжну Даровану! Другие же не верили, что родич и друг князя Скородума может устроить такую беду всему белому свету.
А Громобой слушал, впитывая каждое слово. Речь шла о его настоящем противнике, для встречи с которым он родился на свет. О том, в чьих руках сейчас находится та, которую он потерял…
Когда же его стали спрашивать, как он попал в Велишин, изумляться опять пришел черед горожан. У Громобоя язык не поворачивался рассказать про свое побоище, и он повторял то же, что и Досуже: нет на Истире никакой засеки. И это ведь правда – теперь ее там нет. Говорить, что она была, когда он вышел на священную реку, совсем не хотелось. Велишинцам нетрудно будет понять, что одолеть – в одиночку! – Встрешника и всю его ватагу мог только не простой человек. Расскажи он им, как взял Ветрового Духа за ноги и его же головой крушил его же ватагу – да они от Громобоя побегут по углам и щелям!
– Как так – нет? – Велишинские мужики недоверчиво качали головами. – Вон, из Глиногора купеческий обоз пришел, к дебричам правил, да так на воеводском дворе и стоит. Идти боятся, у них дружины-то всего ничего, десятка два, а Встрешник и сотню одним свистом положит.
– Это тебя Макошь, видно, за руку мимо засеки провела! – решили наконец соседи, и по лицам было видно, что в это единственное объяснение они не слишком верят и принимают только за неимением лучшего. – Чтобы засеку миновать и не заметить… Боги тебя любят, парень!
Сам Громобой все это время не столько слушал стариков, сколько поглядывал на Добрушу. Присутствие девушки как-то беспокоило его, но и казалось приятным. Она напоминала ему о том легком облачке, которое он потерял возле дуба. Память оживала, и он уже знал: у той, которая шла с ним искать весну, были такие же румяные щеки, такие же ясные глаза. Она была так же легка, стройна, и, глядя на нее, тоже хотелось думать о будущем и верить в счастье. Сердце билось, когда он встречался с Добрушей глазами, все время хотелось подойти поближе, взять ее за руку, разглядеть на дне ее глаз ту тайну, которую боги скрыли от него. Она – знает, не может не знать!
Но подойти к ней Громобой так за вечер и не решился. Память о бревне в собственных руках не пускала его к девушке; мерещилось, что невидимая тень того дурацкого дубка может как-то задеть и ранить ее. Да и вид ее, непривычная прическа с двумя косами на ушах и третьей, спущенной по спине, придавали ей какой-то особый, отстраненный вид. В ней тоже скрыта не последняя из тайн мироздания, но едва ли сама она задумывается об этом.
Поздно вечером, когда все уже улеглись спать, внезапно раздался стук в ворота.
– Кого еще несет! – проворчал с широкой лежанки Досужа. – Не наслушались!
– Дивий великан![26] – пискнул с полатей младший из мальчиков и тут же захихикал.
– Мара![27] – поддержал второй.
– Бросьте! – с тревогой упрекнула их сестра. – Накликаете!
Досужа было зашевелился на лежанке.
– Лежи! Постучит – перестанет! – одернула мужа хозяйка.
Но стук продолжался. Наконец Досужа, отдернув занавеску, выбрался с лежанки, кое-как оделся и вышел.
Назад он вернулся не один: в сенях стучали шаги нескольких человек, что-то слегка позвякивало. Громобой приподнял голову.
– Огонь зажгите! – велел Досужа от порога. – Не видать ничего!
Мальчишки ссыпались с полатей и раздули угольки из печки. Засветилась лучина, Громобой сел на постели, которую ему устроили прямо на полу. У дверей стояло двое мужчин, в которых нетрудно было узнать кметей, – сапоги, хорошие кожухи, цветные пояса, собольи шапки и мечи в ножнах с серебром.
– Утро доброе! – обратился к Громобою один из них, сразу найдя глазами чужого в избе. – Поднимайся, парень. Воевода Берислав тебя ждет.
– До утра не подождет? – довольно-таки вежливо осведомился Громобой. – Я весь Стужень на лыжах пропахал, подустал малость. В первый раз под крышей лег – так нет, опять вставай!
– Поговори у меня! – вполне спокойно, как человек, не сомневающийся в своей силе, ответил ему один из кметей. – На весь Стужень сил хватило, так еще малость потерпишь.
– Не гневить бы тебе воеводу! – удрученно намекнул Досужа.
Вид у хозяина был смущенный, встревоженный и виноватый. И Громобой стал одеваться: смирение было лучшим, чем он мог отблагодарить кузнеца за гостеприимство.
Добруша, в накинутом прямо на рубаху кожухе, беспокойно приглаживала волосы и смотрела на него своими большими зеленоватыми глазами с явной тревогой; Громобой слегка подмигнул ей и шепнул поговорку Ракиты:
– Рада бы курица нейти, да за крыло волокут!
Девушка вымученно улыбнулась в ответ. И Громобой, натягивая кожух, из-за ее беспокойства жалел ее гораздо больше, чем себя. А ему-то что сделается?
На дворе перед крыльцом их ожидало еще трое кметей с длинными копьями.
– Уважаете! – Громобой хмыкнул.
– Чего? – не понял десятник.
– Уважаете меня, говорю. За одним пятерых прислали.
– А мы вообще гостей уважаем. Макошь велит! – так же спокойно просветил десятник. – Давай, шагай. По сторонам не прыгай, а то ненароком в темноте и насмерть зашибиться можно.
Один из кметей шел впереди, да и без этого заблудиться было бы трудно: вверх к детинцу вела всего одна улица. Кметь нес факел, освещая сплошной ряд тынов и запертых ворот – тихих, молчаливых. Падал мелкий снег, и Громобою вспомнилась та ночь в Прямичеве перед Велесовым днем, когда водили черную корову. Тогда он тоже бродил по таким же темным и пустым улицам, не зная, где бы сбросить свою непонятную тоску… А может, Зимнего Зверя искал. Кажется, он кого-то тогда встретил… Встретил, кажется, то самое существо, которое теперь ищет… Громобой напряженно вспоминал, что же было в тот далекий вечер, оглядывался вокруг, словно в поисках подсказки, и ему казалось, что прямо здесь все это и было, что эти темные тыны, ворота с заснеженной резьбой и есть Прямичев, и Громобой всматривался вперед, с замиранием сердца ожидая, что сейчас из-под снежной пелены опять выйдет она … Думая об этом, он совершенно забыл, где на самом деле находится и к кому идет. Если только он сумеет встретить ее снова, ему сразу станет ясно, куда идти…
Воеводский двор был пуст и тих, но в гриднице горели факелы и пылал огонь на очаге в середине. Воевода Берислав, мужчина лет за тридцать пять, рослый, статный, с прямым носом и ясными серыми глазами, с опрятной светлой бородкой, был бы красив, если бы не блестящая лысина ото лба до затылка. Сбоку у края скамьи сидела, как видно, его жена – нарядная женщина лет двадцати с небольшим, тоже высокая, с длинной узкой спиной, и ноздри ее трепетали от волнения и любопытства, как у лошади. Кроме них в гриднице было с два десятка кметей на скамьях вдоль стен. Иные позевывали в кулак, но тоже посматривали на Громобоя с многозначительным любопытством. Казалось, они о нем кое-что знают, и их осведомленность ему ничего хорошего не обещает.
Громобой, подведенный к воеводе шагов на пять, слегка поклонился.
– Ну, добрый молодец, с чем пожаловал? – осведомился воевода, кивнув в ответ на поклон.
– С чем звал, воевода? – поправил его Громобой. – Я-то уж было спать наладился. И тебя беспокоить в мыслях не было.
– Уж прости, что потревожил! – насмешливо ответил воевода, пристально его рассматривая и как будто ожидая, что этот взгляд смутит невольного гостя. – Я говорю, с чем в Велишин пожаловал?
– Мимоходом! – честно ответил Громобой. – Иду я вниз по Истиру, к речевинской земле, к городу Славену.
– Далеко же собрался! – отметил воевода. – И откуда идешь – от Стуженя?
– От Стуженя, – подтвердил Громобой. – От Турьи.
– И что – никто тебя по пути не останавливал? – с намеком спросил воевода. – Шел, никого не встретил?
– Ты про засеку, что ли, говоришь? – ответил Громобой, имея в виду, что темнить тут нечего. – Так бы и сказал. Нет там никакой засеки. Хоть завтра сходи сам да погляди. Чистое место, как скатерть.
– А какое место-то? – Воевода Берислав слегка наклонился со своего высокого сиденья, глядя в лицо Громобою блестящими светло-серыми глазами, умными и слегка насмешливыми: рад, что подловил. – Если нет засеки, откуда же тебе знать, где она быть должна?
Громобой помолчал. Конечно, от воеводы так легко не отделаешься. У него не было особых причин скрывать произошедшее, но он не знал, как приступить к такому рассказу. «Вот, стало быть, взял я его за ноги да и…» Ему уже виделись обидные недоверчивые и насмешливые взгляды; того гляди, еще разгневаются, решат, что это он над ними насмехается!
– Может, как есть расскажешь? – деловито предложил воевода, который по-своему понял его замешательство. – Мы, знаешь, давно гостей с того конца поджидаем. Вот тебя и дождались.
– С какого конца?
– Да от Встрешника. Видно, надоело соловью на дубах сидеть да добычи ждать, надумал он сам добычи поискать… у нас хотя бы. Услышал, что богатый обоз пришел, вниз по Истиру хочет идти… Дай, думает, пошлю кого половчее, пусть разузнает, что за обоз, да какая при нем дружина… А?
– А! – Громобой сообразил и ухмыльнулся. – Складно у тебя выходит, воевода, прямо кощуна. Только не про меня это. Я в ловких-то никогда не ходил. В Прямичеве меня только и бранили: не так повернулся, зашиб кого… Медведем дразнили.
Кмети на скамьях сдержанно рассмеялись.
– Да ты глянь на него получше, воевода! – крикнул один старый, седобородый кметь. – Зачем Встрешнику кого-то посылать – сам бы как свистнул, мы бы кверх ногами с лавок полетели! А этот не от них! Что-то не похож!
Прочие кмети хохотали все дружнее, и в их смехе слышалось одобрение. Громобой, при всей его силе, не казался им похожим на разбойника.
– До утра, что ли, разговаривать будешь? – надменно и небрежно вмешалась молодая боярыня Прилепа, обращаясь к мужу. Она, наоборот, была полна подозрений, и этот смех ее раздражал. – В поруб его, да пусть сидит.
– Помолчи! Все молчите! Пусть он расскажет! – вместо воеводы ответил ей другой женский голос, от дверей сзади. Он звучал повелительно, и вместе с тем в нем слышалось нетерпеливое тревожное волнение. – Пусть он говорит, все говорит! Разве не слышите: у него выговор дремический.
Боярыня слегка охнула и в видимом смущении обернулась к дверям. И все в гриднице посмотрели туда же вслед за ней, все сидевшие, не исключая и воеводы, встали. Громобой тоже обернулся.
У дверей за его спиной стояли двое: мужчина лет пятидесяти, плотный, суровый на вид, с густой темной бородой, и девушка с рыжими косами. В ее чистом, белом, правильном лице было что-то такое, что Громобой задержал на ней взгляд; как-то сразу стало ясно, что смущение боярыни и почтительность мужчин относится именно к девушке, а не к суровому бородачу возле нее. В ее рыжих косах, в красновато-коричневой рубахе с плетеным поясом, в золотых янтарных браслетах на обеих руках было что-то цельное, ясное – она казалась чистым огоньком, освещающим всю гридницу, алым папоротниковым цветом, который цветет лишь раз в году, но зато увидевший это чудо навек счастлив!
Сердце стукнуло, по телу пробежала горячая дрожь – это она! Та, что он потерял! Громобой смотрел на девушку, надеясь узнать и действительно узнавая все, что он искал, в этом светлом лице, мягких золотистых бровях, в строгом, пристальном и притом взволнованном, трепетном взгляде. Сама весна стояла в нескольких шагах от него, нежданно-негаданно выйдя из мрака на свет, как солнце из тучи, и лицо ее освещало весь этот темный зимний мир. Она тоже искала его, Громобоя, может быть, не зная, кого ищет, и вот теперь сердце говорило ей, что она нашла его! Громобоя тянуло сразу же подойти к ней, но он не смел, не решался протянуть к ней руку, словно мог неосторожным прикосновением разрушить это светлое чудо, такое призрачное в пляшущем свете очага. Его удерживало тревожное, смешанное с надеждой, недоверие в ее глазах: сперва он должен был доказать ей, что он и есть тот, кого она ищет. Слишком дорого стоило ее доверие, слишком значим для судеб всего мира был ее выбор, чтобы она могла вручить себя без достаточной уверенности. Но его грело чувство обретения: самое главное свершилось! Цель его достигнута: он нашел ее, а все остальное казалось не стоящим внимания. Не отрываясь, Громобой смотрел на девушку, словно хотел взглядом удержать ее на месте и не дать снова исчезнуть.
– Расскажи: как ты прошел через засеку? – принялась расспрашивать девушка, и теперь все остальные молчали. – Ведь ты ее видел?
– Да. – Громобой кивнул. Больше он не взвешивал, что следует рассказывать, а что нет: она имела полное право услышать, как все было, без утайки.
– И что же? Почему же ты говоришь, что ее нет?
– Правду говорю. Была – а больше нет. Чистое место. Как скатерть…
Строгий взгляд девушки требовал пояснений, и Громобой начал. Вышло куда хуже, чем рассказы о прямичевских делах: о себе всегда труднее говорить, чем о других, и собственные подвиги в пересказе показались Громобою еще более нелепыми, чем были на деле. Его окружали десятки изумленных, недоверчивых глаз, в гриднице висело недоуменное и тревожное молчание, но Громобой никого не видел, кроме девушки, и обращался только к ней. Она слушала с напряженным вниманием, не выказывая удивления и не отказываясь ему верить, но видно было, что она никак не может объяснить себе его появления.
– Не может такого быть! – Когда он замолчал, воевода Берислав сокрушенно покачал головой: хотел бы поверить, а не могу. – Видел я сам этого Встрешника – он нечистый дух, от его свиста у людей колени подгибаются. А ты не слышал, как он свистел?
– Слышал.
– И что?
– Уши заложило. И разозлил он меня. Говорю же…
– А я говорю, что этого не может быть! – вскрикнула боярыня Прилепа и даже сделала сердитый шаг вперед. Из почтения к новоприбывшей она все это время молчала, но теперь ее терпение кончилось. – Не может быть, не бывает! – упрямо и даже озлобленно твердила она. – Чтобы воевода с дружиной ходил и едва живой вернулся, а парень посадский один всю ватагу перебил и засеку по бревнам развалил! Разозлился он, видишь ли! Так не бывает! И ты, воевода, ему не верь! Врет он все, и лиходей он сам из Встрешниковой ватаги, и морочит тебя, дураком перед людьми делает! В поруб его!
Кмети загудели: кроме изумления, в их голосах слышалось одобрение боярыниной речи. Здравый смысл и собственное достоинство не позволяли им поверить, что все рассказанное – правда.
– Заговорит он вас, совсем с ума сойдете! – продолжала боярыня, ободренная поддержкой. – Совсем заморочит! Встрешник – нечистый дух, и этот тоже, и вся ватага у него такая.
– А тебя-то как зовут? – спросила девушка. Все это время она тоже не сводила глаз с Громобоя и, похоже, не слышала никого другого.
– Громобой, – ответил он, и кое-кто, несмотря на общее волнение и недоверие, засмеялся.
– Вот точно! – сказал тот темнобородый, что стоял рядом с девушкой. – Встрешника только громом и убить. А что он мог кого хошь за ноги взять – кто как хошь, а я верю! Погляди, воевода, какой парень здоровый! Ему только с медведем бороться!
– Случалось и с медведем, – согласился Громобой, все так же глядя на девушку. Сейчас он согласился бы на что угодно. – Есть медведь под рукой – давайте. Только пусть потом хозяин не обижается, что зверя покалечили!
Кмети засмеялись громче. Вопреки рассудку, рыжий парень вызывал все больше доверия.
– Ты-то хоть скажи! – Боярыня Прилепа буравила глазами мужа, пытаясь добиться от него поддержки, и иногда бросала боязливо-обиженные взгляды на девушку, которая вовсе не слушала ее разумных речей.
Девушка вдруг подошла к очагу, подняла погасший уголек и приблизилась к Громобою. Боярыня и темнобородый разом сделали движение ее удержать, но она не оглянулась. Громобой стоял столбом и от сильнейшего сердцебиения почти не владел собой – такое с ним случилось впервые в жизни, и это состояние даже казалось ему болезнью, но этой болезни он не променял бы на прежнее несокрушимое здоровье. Каждая жилочка в нем зажила своей жизнью, кровь потекла горячими реками, он чувствовал одновременно огромную силу и неодолимую слабость. Казалось, вместе с ней к нему приближаются все боги разом; вот она уже стоит рядом с ним, и ее присутствие превращает это место в какой-то заоблачный мир, Золотой Сад Сварога.[28]
Девушка сделала ему знак наклониться, и ему вспомнилось, как кузнецова дочь поцеловала его… Не помня себя, он повиновался. Девушка протянула руку и коснулась его лба еще теплым угольком. От ее рук, от ее близко придвинутого белого лица на него плыли волны тепла. Вблизи она казалась такой красивой, что захватывало дух. В полутьме ее зрачки стали огромными, так что цвета глаз нельзя было разобрать; эти черные глаза смотрели прямо в его душу и держали в своей власти всю его жизнь от начала до конца. В ней к нему пришло божество; Громобой не мог ошибиться, вся небесная часть его существа уверенно говорила, что к нему пришла его судьба, которая не могла к нему не прийти.
– Именем Макоши и дочерей ее: злой дух, рассыпься! – шептала девушка. – Пади, огненный змей, пади, дух полуночный, рассыпься по синему морю, по сырому бору, по медвяной росе, по утренней заре! Храни нас, Мать Макошь и дочери твои: Брегана Заступница, Мудрава Всеведущая, Зволина Милосердная, Живина Исцелительница, Улада Благодетельница, Умелья Рукодельница, Баюла Утешительница, Запрета Удержительница…
Приговаривая это, она чертила угольком по лбу Громобоя. Потом она отошла, а все вокруг ахнули. На лбу парня ярко горел огненным светом громовой шестигранник – знак, убивающий нечисть. Горел, как звезда, распространяя по гриднице мощные лучи света и волны жара. Охнула, прижимая руки к груди, молодая боярыня, даже мужчины попятились, и только девушка стояла в трех шагах перед Громобоем, не сводя с него глаз, как зачарованная. А Громобой смотрел на нее и один не замечал огненной звезды у себя на лбу.
– Я так и знала, – тихо сказала девушка, глядя на него и обращаясь как будто к нему одному. – Я так и знала. Все говорят: свет белый гибнет, вся нечисть повылезет… А я знала: теперь-то и он появится… Тот, кто все вернет и поправит… Кто раньше был не нужен, а теперь понадобился – и появился. Мне Макошь обещала… Обещала, что ты придешь и я тебя увижу…
Голос ее дрогнул, в глазах заблестели слезы.
– И мне обещала, что я тебя увижу, – ответил ей Громобой, зная, что этими невнятными словами они двое говорят про одно и то же. – Не сама Макошь, а дочь ее. Сказала, чтобы я шел к речевинам. Обещала, что я тебя найду и узнаю. Узнал. Как увидел, так сразу узнал.
Девушка дышала глубоко, в глазах ее переливались слезы волнения, даже румянец появился на щеках, и это лицо, полное тревоги и какой-то жадной надежды, жажды понять его, отбросить все сомнения и безраздельно поверить ему, казалось прекраснее самой красоты – ничего такого Громобой раньше не видел и вообразить не мог. Не помня себя, он шагнул к ней, но она попятилась.
– Верь ему, воевода! – Она посмотрела на Берислава и повелительно кивнула. – Мне не верь, а ему верь. Может, во всем свете ему одному сейчас и можно верить. Я знаю. Мне Макошь его обещала. Теперь я не боюсь…
Вдруг она вскинула руку к губам, словно хотела поймать на лету последнее слово, повернулась и быстро пошла к дверям. Громобой проводил ее взглядом до дверей. Вот она скрылась, и оставшиеся в гриднице показались пнями темными, бессловесными – ушла единственная здесь живая душа, и он опять остался один в чаще дремучих лесов… Воевода Берислав что-то говорил, что-то спрашивали кмети, но Громобой с трудом их понимал: все его мысли по-прежнему были с ней, с той, что показалась ему и опять скрылась из глаз. А его все расспрашивали про Встрешника и засеку, не догадываясь, что он уже и забыл об этом, что Встрешник для него все равно что комар, растертый ладонью, ничто по сравнению с самым главным – с этой встречей, здесь, в гриднице… А может, кое-кто и догадывался: кмети вслед за Громобоем бросали взгляды на двери, в которые она ушла, и понимающе кивали – такую красавицу увидишь, так все на свете забудешь, это понятно!
– Хочешь, пойдем, на месте посмотрим, – предложил Громобой воеводе. – Покажу тебе и место, где засека, и леших этих, что там лежат… Едва ли кому такое добро понадобится, не украдут авось. Только, сделай милость, завтра пойдем. Уморился я с вами.
– Не ходи! – Боярыня Прилепа дергала мужа за рукав. – Не ходи! Он тебя заведет на погибель! Пойдете сдуру, а вас там с топорами ждут!
– Уймись! – вежливо попросил жену воевода. – Раз к… она, – он показал глазами на потолок гридницы, над которой помещались горницы,[29] – сказала, что ему можно верить, значит…
– Все одно что сама Макошь сказала! – окончил за него темнобородый. – А ты, баба глупая, молчи!
Молодая боярыня обиженно поджала губы и отвернулась, но спорить больше не стала.
Громобой не задавал вопросов, кто эта девушка, как ее зовут и почему ей здесь такой почет. Перед его глазами стояло ее лицо, озаренное внутренним светом, видимым только ему одному, – она была единственной на свете, и ей не нужно было ни имени, ни рода, ни племени.
А слово ее и правда стоило дорого: сюда Громобоя вели пять кметей с копьями наготове, а обратно его, забыв все подозрения, отпустили одного. Воевода предложил ему переночевать в дружинном доме, но Громобой подумал о Досуже – а вдруг не спит, тревожится, – и попросился назад к кузнецу. Под медленным снегопадом он в одиночку шагал по темным улицам вниз на посад, и на душе у него было так радостно, как не бывало с самого начала этой проклятой зимы. Он увидел ее, ту, что все исправит, и начало возрождению мира было положено.
1
Перунов день – праздник Перуна, 20 июля.
2
Повой – женский головной убор, закрывающий волосы.
3
Велес (Волос) – один из главных славянских богов, хозяин подземных богатств и мира мертвых, покровитель лесных зверей и домашнего скота, бог охоты, скотоводства, торговли, богатства и всяческого изобилия.
4
Леля – дочь богини Лады, олицетворение весны.
5
Перун – один из главных славянских богов, повелитель грозы, грома и дождя, бог войны, покровитель князей и их дружин.
6
Лада – богиня весеннего расцвета природы, покровительница любви и брака.
7
Зимерзла – олицетворение зимы.
8
Полуночь – север.
9
Зимний Зверь – зимний дух, олицетворяющий бури и вьюги.
10
Огнище – поселение.
11
Сварог – верховное славянское божество, отец богов и создатель мира, давший людям металлы и ремесла, хозяин Верхнего Неба, где хранятся запасы воды для дождя и живут души предков, покровитель брака.
12
Бездна – первобытный хаос, противоположный упорядоченному миру, «белому свету».
13
Кощуна – древняя песнь мифологического содержания.
14
Перестрел – мера длины, около двухсот метров.
15
Кожух – верхняя теплая одежда с рукавами.
16
Стрибог – бог неба и ветра.
17
Незнать – нечисть.
18
Встрешник – злобный дух в виде пыльного столба, встречается на дороге и предвещает беду.
19
Макошь – главное женское божество славян, богиня земного плодородия, урожая, покровительница женской судьбы и всех женских работ.
20
Березень – апрель.
21
Тын – забор из заостренных бревен или жердей.
22
Корчага – большой глиняный сосуд.
23
Волокуша – бесколесное приспособление для перевозки грузов в виде оглобель с прикрепленным к ним кузовом.
24
Повой – женский головной убор, закрывающий волосы.
25
Костяник – зимний дух, сын Зимерзлы.
26
Дивьи люди – разновидность нечисти, нечто вроде лесных или подземных людей, имеющих только одну половину тела (скорее всего, левую).
27
Мары – лесные зловредные духи в виде уродливых женщин, связаны с миром умерших.
28
Сварожьи Сады (Золотой Сад Сварога) – разновидность небесного счастливого царства.
29
Горница – помещение верхнего этажа.