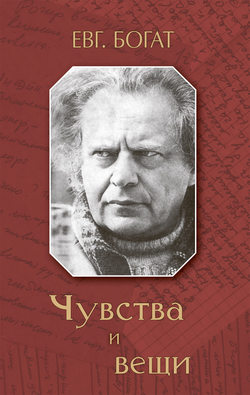Читать книгу Чувства и вещи - Евгений Михайлович Богат - Страница 1
Предисловие
ОглавлениеДмитрий Быков
Одной из главных достопримечательностей города Зарайска был старый человек, который по выходным приходил на главную местную площадь и начинал играть на старом немецком аккордеоне; играл с девяти утра до полудня, потом говорил, обращаясь к немногочисленной публике: «Желаю всем выдержки и достоинства» – и уходил. Подавали ему скудно, но он, кажется, играл не для заработка. Это было что-то вроде миссии.
Это был Вячеслав Залецило, редкую фамилию которого знала в семидесятые годы вся страна или по крайней мере вся интеллигенция, потому что вся интеллигенция читала «Литературную газету», а в ней был опубликован очерк Евгения Богата «Мастер праздника». Там рассказывалось о том, как Залецило в родном Зарайске пытался устраивать для людей музыкальные праздники, а местная администрация его изводила. Тогда он в состоянии аффекта вонзил перочинный нож в задницу одному из чиновников, самому безобидному, а тот возьми и умри от сердечного приступа. Богат рассказал его историю и добился того, что Залецило вместо восьми лет строгого режима получил пять (и менее строгого), вышел, жена с ним развелась, трудоустроиться он не мог и теперь устраивал горожанам единственный доступный ему праздник.
Мне кажется, эта история символична: она показывает нам Россию после Богата. Люди, в чью судьбу он вмешался, не могли, конечно, влиться в ряды обычных граждан и вообще жить по-прежнему, но все-таки он их спас – и им оставалось как-то манифестировать, олицетворять собою те добродетели, за которые он боролся. Когда его не стало – ровно в начале той эпохи, которую он приближал и в которой ему не нашлось бы места, – вся советская интеллигенция оказалась примерно в таком же положении. Он, как умел, смягчил ее судьбу, но она оказалась никому не нужна, и, кроме выдержки и достоинства, ей не осталось никакого утешения.
Это очень символично – как все в судьбе Богата, – что он умер в самом начале перестройки: она обесценила то, что он делал, хотя достижения ее были неоспоримы. Богат способствовал тому, чтобы огромная, сложная, многоэтажная система, называемая Советским Союзом, стала более человечна, более удобна для жизни, более честна, наконец. Потом возникла идея, что человечность и честность были с ней несовместимы, – но это не так, конечно. Вероятно, ее можно и нужно было как-то реформировать, совершенствовать, сближать с Западом или Востоком – а то она так и зависла между ними, потому что все серьезные решения отсрочивались из страха нарушить хрупкий баланс, примерно как сейчас. Но тогда у нее были неоспоримые резервы и ресурсы – прежде всего огромное большинство народа, которое медленно превращалось в интеллигенцию, читало, думало, имело понятие о добре и зле. Этих людей сначала разлагали безвременьем, а потом просто смахнули с доски. И советская интеллигенция, для которой работал Богат, перестала существовать. Документом ее существования осталась эта книга.
Эту интеллигенцию, которая считала Богата своим главным публицистом, называли то образованщиной, то мещанством. Но это мы еще не видели тогда настоящего мещанства, настоящей псевдокультуры. Сегодняшний средний класс окормляется Дмитрием Киселевым и Владимиром Соловьевым, а тогдашний – Богатом, братьями Аграновскими, Стреляным. Почувствуйте разницу.
Среди журналистов – главным образом плохих, которые в нашей профессии, как и в любом другом деле, составляют большинство, – принято презирать «моральные подвалы», то есть статьи на моральные темы; их называют болтологией, даже если за такими текстами стоят месяцы напряженной работы. Думаю, в основе этого презрения – банальное понимание, что написать очерк могут не все, очерк сложнее репортажа и журналистского расследования, он не сводится к сбору фактов – надо вычленить действительно значимую проблему и продемонстрировать действительно новый человеческий тип. Богат не был болтуном-моралистом и тем более ханжой: он не отделывался общими рассуждениями в пользу бедных, за все хорошее против плохого. Он наблюдал самые тревожные, самые опасные симптомы перерождения общества – и пытался, как мог, это перерождение остановить. Принадлежа к поколению комиссарских детей, он верил, что это возможно. И, думаю, не ошибался. Он был носителем советских добродетелей, к числу которых ошибочно причисляют жестокость, идеологическую выдержанность, догматизм или классовую ненависть. Он защищал иные ценности, ныне безнадежно похеренные: просвещение, альтруизм, солидарность, презрение к прагматике, сострадание, достоинство, утопическое мышление. Советские интеллигенты могли быть сколь угодно смешны для человека, у которого нет и никогда не бывало ничего святого; но это плохой смех, форма капитуляции перед энтропией. Советское общество во многом было искусственным – не зря в последнем, ненаписанном романе Стругацких один герой должен был говорить, что «ваш мир кем-то выдуман». Но он был реален, я помню, ведь я один из его последышей; я из тех, кто по средам ждал «Литгазету», ныне катастрофически опоганенную, как почти всё на постсоветском пространстве, от патриотизма до религии. И очерки Богата, если они там были, я читал первыми, потому что еще подростком понимал и чувствовал больше, чем сейчас (сейчас-то все притупилось – это обусловлено и возрастом, и эпохой, обесценившей слово).
Богат выпускал книги – и очерки – двух типов: в одних популяризовал науку, рассказывал об искусстве, о литературе, о великих исторических событиях и личностях, и это было полезно и увлекательно, но это умели многие. Тогда популяризаторством занимались и серьезные ученые, которых вытеснили из официальной науки, и честные журналисты, которым проще было рассказывать о гениях прошлого, чем о сомнительных кумирах настоящего. Лучше же про Моцарта, чем про Брежнева, правда? И были очерки второго типа – о судебных ошибках, административном садизме, о пренебрежении частными судьбами, о сломанных биографиях, о доведениях до самоубийства, о трагедиях, которые казались бытовыми, а оказались глобальными. Тогда «бытовым» называли все подряд, вплоть до глубочайших, новаторских повестей Трифонова. Но тот «быт» был на порядок сложнее нынешней культуры и философии. По тогдашним меркам и Богат был «одним из» – ведущим очеркистом, но не более того. Это сегодня видно, что он был мастером документальной прозы, одним из создателей «нового журнализма», чьи вершинные достижения сравнимы с лучшими очерками создателей этого направления – Томаса Вульфа, Нормана Мейлера, Хантера Томпсона.
Я перечитал сейчас эту книгу очерков Богата – и поразился тому, что многие из них помню: «Урок», «Коллекцию», «Двоих»… Просто до деталей, до отдельных формулировок. Богат научил всех читателей – и тех, кто потом пошел в журналистику, и тех, кто никакого отношения к ней не имел, – раскапывать очевидную на первый взгляд ситуацию, оправдывать несправедливо обвиненных, переставлять акценты; научил задавать вопросы там, где все ясно; главное же – научил доискиваться до мотивов, потому что именно мотивы поведения героев и есть самое интересное в его очерках. Пожалуй, он был несколько идеалистического мнения о человеческой природе. Но он умел с первого взгляда опознавать жажду доминирования, растленную душу, наслаждающуюся чужим страданием, – и особенно ненавистен ему был цинизм, который в начале перестройки вроде был побежден, а потом вернулся такой лавиной, что погреб под собой даже память о Богате. Только сейчас к нему начинают возвращаться, и я не знаю, добрый ли это знак. С одной стороны, это показатель некоторого усложнения эпохи – а только от сложности и зависит степень свободы. С другой – это показатель еще одного близкого кризиса, от которого общество – если оно существует – может и не оправиться.
Богат не был адвокатом дьявола и не защищал человека вообще. Но он защищал то, что ему представлялось главным, – талант, совесть, солидарность; и пока он жил и работал, все, кого растоптала система или просто жизнь, могли надеяться на него. Он был таким же заступником – и работал в том же труднейшем жанре, – как Герцен, Короленко, Кони. Он был из тех, кто стирал границы между журналистикой и литературой, советским и русским, интеллигенцией и народом. Думаю, это благороднейшее искусство сегодня мало кто оценит. Но по крайней мере нам полезно вспомнить о том, что на этой территории когда-то могло быть, что казалось тут мейнстримом, что мы считали нормой – хотя было это обычной будничной святостью.