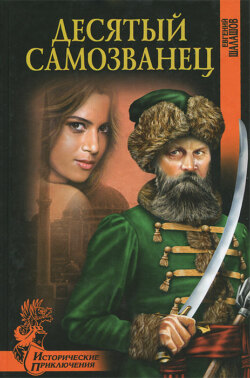Читать книгу Десятый самозванец - Евгений Шалашов - Страница 1
Часть первая
Беглый подьячий
Оглавление7154 год от сотворения мира (1646 год от Рождества Христова)
Москва
Сухонький, как лущеная шишка, боярин сидел за длинным столом и мял листы дорогой немецкой бумаги. Не удержавшись – запустил комком в стоящего перед ним дьяка и пристукнул твердым кулачком:
– Из Константинополя грамотка пришла – у турок русский царевич объявился!
Борис Иванович Морозов, царский дядька, коему покойный Михаил Федорович велел заботиться о сыне, был, почитай, главным боярином. Да, что там – и на Руси, и, в Европе знали, кто нынче настоящий царь на Москве …
Назарий Чистой, думный дьяк и глава Посольского приказа, благоразумно помалкивал, а Морозов повысил голос, чуть ли не до визга:
– Почему ж вы, дьяки посольские, головы ученые, самозванца проспали? Или, знали, да не докладывали? А?! Отвечай, когда спрашивают?!
Борис Иванович закашлялся, схватил стоявший на столе корец с квасом и принялся пить, словно хотел вымыть из горла гнев.
«Ну, вроде, выдохся!» – решил дьяк и начал оправдываться:
– Прости Борис Иванович – не ведали мы о самозванце. Истинно – ни сном, ни духом не ведали! Послы Константинопольские, сиречь, Стамбульские, нам не подчиняются и отписок в приказ не шлют …
– Знаю, что не подчиняются… – буркнул Морозов, успокаиваясь. – Иначе – другой бы разговор был. Не то, что с шапкой бобровой, а с головой бы распростился. Ладно, садись, – смилостивился боярин.
Назарий Петрович, с опаской присел на краюшек тяжелого табурета.
– Так вот, думный дьяк Чистой, – продолжил между тем боярин Морозов. – Должен ты сего самозванца сыскать и к нам доставить!
– Что за самозванец-то? – осторожно спросил дьяк. – Кто таков-то?
– Ну, если бы я знал… – фыркнул боярин, поправляя высокую шапку. – Посланник, князь Телепнев, пишет, что зовется Иоанном Каразейским-Шуйским.
– А точно, самозванец-то? – осторожно поинтересовался дьяк. – Вдруг, да…
– Не вдруг, а точно! – прикрикнул Морозов. – Не было у царя Василия сыновей. Точно, тебе говорю! Было у него от жены две девки, да обе во младенчестве померли. Да и молод, что бы сыном Шуйского-то быть…
– Князь Телепнев, сам-то вора ловить не пытался? – деловито спросил Назарий Петрович.
– Ну, как же, пытался. Только, – развел боярин руками, – разве ж они выдадут?! Им, басурманам, на руку, что бы новая Смута у нас завелась.
– А может, – подумав, предложил дьяк, – подкупить кого – из тех же турок, али татар? Дело нехитрое… Ну, а разве нашего беглого ворья в Османской империи мало? Там же такие есть, что за полушку родную мать удушат. Вот, ежели, серебра не жалеть, то и нового самозванца прирежут. Ну, а что бы не обманули, так пообещать, что ежели, мол, голову-то сюда привезут, так и вовсе – награда царская будет.
– Ну, это – как уж пойдет, – помотал головой Борис Иванович. – Для начала – узнай – кто таков, самозванец-то этот. А не то, государь-то спросит – что я отвечу? Телепнев даже имени настоящего узнать не смог. Как узнаешь, так и ловить-то легче будет! Вот, забери все отписки от послов, всех приказных хомутай. И – с Богом! – заключил боярин, провожая дьяка…
…Вернувшись в Приказ, дьяк для начала, просмотрел бумаги, скопившиеся на столе. Самозванец – самозванцем, но, ежели, есть дело, что требуется выполнить немедля, так самозванец обождет. Ждал, чай, с год, так лишний час не помеха – не убежит.
Обнаружив, что стол, с ножками, как у индийского элифанта, завален лишь грамотками, что могут полежать день-другой, а то и неделю, Назарий Петрович немного успокоился. Выглянув за дверь, крикнул: – Я обеда-то седни дождусь? Было слышно, как с рундучка, стоявшего в сенях, упал проснувшийся Гринька Котошихин – молодший приказной, должный следить за порядком да бегать в харчевню.
– Так ведь, ничего еще не принесено, – сунул Гринька в дверной проем опухшую от сна рожу. – Я ж думал, что ты, Назарий Петрович, позже приедешь… Сон мне, тут, давеча приснился, что к батюшке-царю тебя вызывали, за наградой великой… Вот, стало быть, – принялся рассказывать подьячий, а у самого – по морде было видно – только что все придумал: – Приходишь ты к государю великому, да становишься впереди бояр да окольничих, а царь-батюшка тебе и говорит – жалую тебя, слуга мой верный Назарий, чином думного дворянина! И выносят тебе бояре шапку песцовую! И, сам боярин Морозов, возлагает, батюшка-дьяк, на головушку твою…
В другое время дьяк с интересом послушал бы Гринькино вранье, но сегодня было не до этого. Да и брюхо начинало подводить…
Чистой, хмуро посмотрел на подьячего, раздумывая – то ли на двор отправить, с приказными мужиками дрова рубить, то ли – сразу в конюшню, навоз убирать…
– Э, не извольте беспокоиться, – переменился в лице Котошихин. – Щас, в харчевню сгоняю…
– Я ведь, тебя в Приказ-то, почему взял? – задушевно сказал дьяк, глядя в глаза непутевому приказному. – Взял, потому, что батька твой на коленках ползал, просил, к делу дурня приставить. А дурень-то, что даже перо не может очинить, совсем уже и страх и совесть потерял. Видел же, что дьяк приехал, а время – обеденное? И, что, сообразить не мог? Лень-то матушка, вперед тебя родилась? Может, к батьке тебя отправить, обратно?
Приказной мелко затрясся. Знал, паразит, что ежели, разозлившийся дьяк отправит его к батьке, старому дворянину Котошихину, имевшему и без того троих сыновей, перебивавшихся с хлеба на квас в захудалых имениях, будет худо… На него земли у отца не хватит. Тогда останется только подаваться в стрельцы, либо, плюнуть на гордость и честь дворянскую, идти к кому-нибудь в холопы. Ну, можно еще в монастырь или, на дорогу, с кистенем… А в приказных, Гринька, худо-бедно, имел ежегодно, три рубля. На хлеб-квас, да на одежу, хватало. Ну, перепадало еще и праздничных, да наградных (хотя, этих, нечасто). Мог бы, конечно же, давным-давно получать и больше, только – был парень глуп, как баран. Чистой, из уважения к отцу, не гнал дурня, определив его в личные посыльные. Ну, грамотку там, из приказа в приказ доставить, да обед из харчевни для боярина притащить – ума у парня хватало. Ну, а еще врать он умел, как сивый мерин…
– Назарий Петрович! – возопил Гринька, бухаясь на колени, – прости меня, дурака! Прикажи лучше в батоги меня бить, без жалости, но к батьке не отправляй!
– Ладно, – вздохнул дьяк, – к батьке погожу отправлять. Но, – нахмурил он бровь, – из молодших подьячих переведу я тебя обратно, в неверстанные писцы…[1]
– Назарий Петрович, да я щас, мигом! – радостно возопил Гринька, срываясь с места.
– Стой! – рыкнул Чистой, а когда тот встал, как вкопанный, сказал: – Судочки-то, небось, грязью да паутиной поросли? Так ты, лодырь, их так в харчевню-то и понесешь… А там – кто же их мыть будет? Так ведь и плюхнут, прямо в грязное! Нет уж, всю посуду намоешь, да золой надраишь, а опосля – мне покажешь. Понял?
– У-гуу, – радостно завыл лодырь, срываясь с места.
– От, дурень, – беззлобно сказал дьяк в след Котошихину.
А когда Гринька гордо предъявил начищенные до блеска медные судки, Назарий Петрович остался доволен. И, вроде бы простил…
– На-ко, – протянул дьяк копеечку. – Возьмешь сегодня щи да каши на троих. Да скажешь, Ерофею Ивановичу, да Унковскому Ваське, что бы на обед ко мне шли…
…Приглашенные к столу, понимали, что дьяк их зовет не на особливый пир, а потому, что есть срочное дело. Дьяк Посольского приказа Ерофей Иванов, коего все, кроме начальника, звали Алмазом, послал домой татарчонка предупредить жену, чтобы обедать не ждала и, послала бы чего-нибудь к столу. Ну, а та и расстаралась рыбными пирогами, да кашей с черносливом (день-то постный). Унковский, старший подьячий, был вдовцом и, потому приволок к столу копченого леща и квас.
Помолившись, все трое принялись за постные щи, принесенные Гринькой.
– Поварню бы завести? Что мы все – по харчевням, да по трактирам, как стрельцы холостые, – раздумчиво сказал думный дьяк, отодвигая пустую миску.
– Неплохо бы, – согласился Унковский, а Ерофей-Алмаз, которому было все равно, промолчал…
От каши с черносливом дьяк решил отказаться, зато пирога с осетром отведал с удовольствием.
– Мастерица, супруга-то у тебя! – похвалил Чистой, на что Иванов горделиво кивнул.
– Только, ежели поварню-то заводить, так ведь и место под нее нужно, – отметил Унковский, обдирая леща. – Это ж тогда, пристройку надобно делать.
– И – повара брать и, мужиков кухонных, – согласился начальник приказа, запивая обед квасом.
– А для Васьки – повариху погрудастей! – хохотнул Алмаз Иванович.
– По мне, так лучше – позадастей! – не стал спорить Унковский, вдовствовавший уже второй год.
– Ну, приказной люд, ерунды не болтать! – с нарочитой строгостью насупился дьяк. – День-то скоромный, а вы…
Подчиненные притворно притихли, а Назарий Петрович продолжил рассуждать о поварне:
– Ну, надо бы все обдумать да обсчитать, а там уж и решать – челобитную государю подавать – или нет. Даст боярин Морозов денег – тогда можно. Ну, а ежели, не даст? Ну да, ладно, – заключил он, – поварня от нас не уйдет. Жили мы как-то без нее и еще проживем…
– Дело, стало быть, спешное есть, – вздохнул Алмаз Иванович.
– Ну, может, не столько спешное, сколько – важное, – кивнул Чистой, вытирая руки рушником. – Помолимся, да поговорим…
Поблагодарив Господа за трапезу, крикнули Гришку, что бы тот убрал со стола. А после того, как Котошихин сгреб всю посуду и протер столешницу, посольские чины принялись за дело. Бумаги, присланные из Константинополя-Стамбула, читались вслух самим дьяком, а потом перечитывались наособицу.
– Не густо примет-то Телепнев накопал, не густо… – вздохнул Назарий Петрович. – Лет, может, под тридцать, а может, чуть поболе… Волос черен, лицо – продолговатое… Хм. Нет бы, шрамы, какие там, на теле… Или, пятна там, родинки. Как искать-то будем?
Алмаз Иванович, читал грамотки более вдумчиво, посему, первым нашел кое-какую «зацепочку»:
– А вот, Назарий Петрович, пишет Телепнев, что переводчик при посольстве, Зульфикар-ага, сказал, что сей самозванец, по-турецки говорит чисто, но так, будто татарский язык вначале учил… И, вот, еще, – «Хвастал оный самозванец, что в Польше бывал и язык польский разумеет. И, обронил еще в беседе, что Москву хорошо знает.
– Ну и что? – пожал плечами Чистой. – Ну, знает… И, что с того, что знает-то? Чем нам это помочь-то сможет?
– Так, подумать нужно, чем… – задумался Иванов. – Может, прикинуть, кто у нас такой умный-то может быть? Кто ж он таков-то – Иоанн Васильевич Каразейский – Шуйский?
– Ну, так где тут зацепочка-то? – хмуро сказал начальник приказа. – Ну, то, что не Шуйский – понятно. А Иван? Иванов-то у нас, пруд пруди. А может, имя-то совсем другое… Из княжат или, из детей боярских? Ну, из этих-то – вряд ли… Телепнев бы узнал.
– Может, из купцов? – предположил Унковский. – Купцы-то, могут и языки хорошо знать. Как считаешь, Алмаз Иванович?
– Может, – согласился приказной дьяк Иванов, который и сам был из московских гостинодворцев. – Только, не припомню такого…
Алмаз Иванов задумался. Не упомнив, кто из знакомцев мог бы подойти под описание вора, покачал головой…
– Может, из приказных? – предположил Унковский.
– Из приказных? – недоверчиво переспросил Назарий Петрович. – Много ли приказных, что бы по-татарски, по-турецки, да по-польски говорить умели? Ну, по-татарски, положим, – принялся рассуждать думный дьяк, – многие знают, да понимают. А по-польски? Тоже, есть такие. А так, что бы сразу, да три языка? Наш, ежели, приказ взять, так и то, не более пяти-шести человек наберем. Грамотный да иноземную речь знающий? Вот я таких, за двадцать лет службы не упомню…
– А Костка Конюхов? – вспомнил вдруг Алмаз Иванович. – Умнейшей головы мужик был, хоть и пьяница. Все грамотки, хоть русские, хоть иноземные, читал, как Псалтырь. Пропал он, не то три, не то четыре года назад.
– Да нет, – покачал головой Чистой. – Не Костка это. Тому, сколько помню, и лет-то уже к полста, да и приметы другие… Длинный он, сутулый. Да и волос – не черный… Он, помнится, весь уж седой был. Вроде бы, спился, да помер. А так, светла головушка была. Васята, а ты что скажешь?
– А что сказать? – переспросил Унковский, которому было не в первой работать «гончим псом» Посольского приказа. – Среди беглых приказных надо искать. Сейчас возьму молодших подьячих, да по приказам разошлю. Поспрошают, списки составят – всех, кто без вести пропал, али, в бега подался. Потом, приметы их сверять будем… А вот, Алмазу Ивановичу, – в Разбойный бы приказ сходить. Пусть приказные тамошние посмотрят – нет ли у них кого в розыске, с такими вот приметами. Мне-то могут и не сказать… Ну, чует мой нос, что что-нибудь да там должно быть, такое, такое, любопытственное. Может, где-нибудь да и всплывет, рыбка-то наша…
* * *
– Ну, нашли чего? – с надеждой посмотрел Чистой, на вошедших в палату дьяка Иванова и старшего подьячего Унковского.
– Вроде бы… – неопределенно ответствовал Унковский, вытаскивая из-за пазухи несколько грамоток.
– Ну, садитесь, да толком разъясните, – осерчал дьяк. – Почитай, цельную неделю по приказам лазили, так не тяните кота за …хвост! Меня же нонеча боярин грозился к царю отвести, что бы о деле потолковать…
– Алмаз Иванович, ты начнешь, али – я? – почтительно спросил Унковский.
– Ну, давай я вначале скажу, а ты – продолжишь, – предложил Иванов. – Пришел, значит, я в Приказ Разбойный, да попросил, чтобы рассказали – не было ли каких-нибудь с приказными происшествий? Может, пропадал кто, может – убили… Вначале-то они, поворчали. Мол – такого на Москве – пруд пруди… Ну, где ж им всех приказных упомнить? Каждый год бегут – кто в Литву, кто – на Дон, да на Запорожье. А уж мертвыми-то, кажий месяц одного-другого находят. А я им тут приметы-то и обсказал… Старшой подьячий, сразу тут вспомнил, что был у них мужик, с такими приметами. Только, вроде, погиб мужик-то. Года три назад, пожар на Тверской случился. Может, помнишь, Назар Петрович?
– Ну, где же мне все пожары-то на Москве упомнить? – буркнул было дьяк, но тут же спохватился: – Постой, постой… Это, не тот ли пожар, когда дом шведского посланника едва не сгорел? Еле-еле отстояли. Ну и что же?
– А вот, Разбойный приказ, когда сыск по пожару чинил, обнаружил, что начался-то он с дома Тимошки Акундинова. Уголья да бревна горелые разобрали, да там труп нашли. Он, хотя и горелый весь, но видно, что бабий. Соседи, по одеже да жуковиньям опознали, что труп тот супружницы Тимошкиной, Таньки. Ну, а Тимошкина-то тела нигде не нашли. А в доме, окромя Акундиновых, жил еще Костка Конюхов. Так вот, Конюхов-то, тоже куда-то делся. Смекаешь, господин дьяк?
– Конюхов? – заинтересовался думный дьяк, припоминая, что разговор о Коске Конюхове и его знании иноземных языков у них уже был. – Хм… А Тимошка, что за гусь?
– Мужик, говорят, грамотный. Родом из Вологды, стрелецкий сын. Отец его, Демид Акундинов, во дворе у владыки Вологодского и Великопермского жил. Ну, а, за сына Демидова, владыка свою внучку, что крестницей у боярина Ивана Патрикеева была, замуж отдал. Приданое, хорошее дал, да и самого Тимоху, к Патрикееву в службу отдал. Патрикеев, до того как в Новую четверть сесть, да боярином стать, в Вологде, при воеводе Лыкове служил. Ну, а сам князь Лыков Тимоху грамоте-то и обучал.
– Лыков, Лыков… – задумался Чистой. – Если тот, что в Вологде, в воеводах был – князь Михайло. А князь Михайло, помнится, греческий да латынь хорошо знал! И, ежели он, Акундинова грамоте обучал, то мог и языкам иноземным обучать. Как, мыслишь?
Цепкая память да прежний опыт помогали Чистому держать в уме сказки едва ли не на всех служилых людей Российского царства.
– А я об этом и не знал, – уважительно посмотрел Алмаз Иванович на начальника. – У тебя, Назарий Петрович, не голова, а Дума боярская! А я-то решил, что это Конюхов мог его татарскому, да польскому обучить!
– Так ведь, одно другому не мешает! – хмыкнул польщенный дьяк. – Он ведь, мог и у Лыкова поучиться, да и у Конюхова чего-нибудь перенять. Парень-то, сам сказывал, толковый… А что там, еще-то про пожар-то? Может, они с Косткой-то бабу убили, да в бега и пустились… Только, зачем?
– Ну, точно-то сказать нельзя, – поднял плечи Иванов. – Но дело-то еще, вот в чем… В Разбойном-то приказе, поперву, разыскные листы никуда не рассылали. Ну, а вдруг и сам Тимоха в пожаре погиб? Тела-то ведь могли и не найти. Убил он свою бабу, или нет, никто не знает. Но вот, в приказе Разбойном, Васька Шпилькин служит. Его-то, на месте сейчас нет, но говорят, что у Васьки на Тимоху – вот такой зуб! Что взял как-то Акундинов у его бабы ожерелье, да зажилил. Ну, а еще соседи Тимохины видели, как два воза добра из дома увозили. По виду – скупщики краденого везли. А люди-то сказали, что в доме-то все, что было – приданое Танькино…
Назар Чистой был умным человеком. Посему, долго раздумывать не стал:
– Приданое знатное прокутил, ожерелье зажилил… Видимо, для чего-то деньги ему нужны были? Смекаешь, для чего?
– Да кто его знает? Я ведь еще узнал, что Тимошка-то в Приказе Новой чети служил. Ну, а в Новую четь Василий ходил…
Унковский, что слушал старших, не перебивая, почтительно кивнул:
– Узнал я, что Акундинов сто рублей в приказе получил, да деньги в казну не вернул. Расписочка его лежит. А казначей, что лишние деньги выдал, платит теперь все сполна, из собственного жалованья… Боярин Патрикеев, как косточки-то крестной увидел, то заплакал, да в Разбойный приказ пошел – ловите, мол, убивца! А приказные тамошние говорят – а где видоки, что зрели, как Тимошка бабу-то свою убивал? Ну, Патрикеев полаял, да и отступился. Решили, что грамотки сыскные отправят на Акундинова как на татя, что деньги в казне украл… Ну, а коли сыщут его, тогда можно и спросить – убивал он жену-то, али – нет… Может, от какого воеводы и отписки есть. Только, на память не вспомнят, а искать долго. Я там человечка посадил, пусть все подряд смотрит. Вдруг, да чего найдет…
– Списки с листов розыскных на татя остались? Приметы?
– Приметы все схожи – роста среднего, волос – черен, губа – оттопырена. Ну, еще – когда он на Москве жил, то бороду носил. Ну, бороду с усами сбрить недолго… Я еще с народом потолковал, кто Тимошку знал. Говорят – точно, его приметы!
– Стало быть, самозванец – Тимошка Акундинов и есть! – утвердительно заметил думный дьяк. – Может, он еще тогда воровство-то измыслил? Что бы, сыном-то царя назваться, деньги немалые надо иметь… И, скажи-ка – родня у Тимошки есть?
– Сын у него, есть, Сергунька, – кивнул Унковский. – На Москве живет, у приятеля Тимошкинова – Ивана Пескова. Был я у Пескова-то. Тот рассказал, что мальчонка к нему прибежал перед самым пожаром. Сказал, что батька да матка ругаются сильно… Иван-то баял, что боярин Патрикеев хочет мальчонку к себе во двор взять, вроде, на воспитание. Ну, а пока он к дьячку бегает, грамоте обучается. Вроде, говорят, еще и мать у Акундинова жива.
– Ну, что же! – повеселел Чистой. – Одну задачу, что боярин задал, решили. Стало быть, оный самозванец – Тимошка Акундинов. Ну, ты, Ерофей Иванович, еще подьячих-то в Вологду пошли, пусть мать его отыщут, да в Москву привезут. И, грамотки сыскные всем воеводам да посланникам надо отослать, что бы Акундинова ловили. Но, это уже царю-батюшке, да Морозову надо докладывать, что бы они сами приказали – вернее будет…
7151 год от сотворения мира (1643 год от Рождества Христова)
Москва
… Тимофей Акундинов раскрыл похмельные зенки и понял, что лежит он не на собственной мягкой перине, да не под боком у нелюбимой, но законной супружницы, а в чужом чулане, да на грязном тряпье. Окон нет, так что и не понять – вечер, сейчас, али – утро…
– Очнулся, голубок? – услышал он голос. – Пить, небось, хочешь?
– Хочу, – не стал скрывать Тимофей, попытавшись рассмотреть – кто это с ним разговаривает?
«А, вроде бы, Федотом звать, – с трудом припомнил парень. – Кажись, гость торговый, из Холмогор. Точно. Говорил, что в Москву он кость рыбью привез, да сукна, что у аглицких купцов прикупил, да еще что-то. Сколько же мы с ним вчера выпили?»
– Держи, милок, от щедрот, – добродушно сказал Федот, протягивая ковшик. – Тута пивко тебе. Всю ночь караулил. Хотел сам выпить, да поберег. Вот, думаю, проснется, друг-то мой сердечный, да пить и захочет!
Тимоха, жадно ухватил ковшик, сделал один, второй и третий глоток. Хотел, было сделать еще один, чтобы башка встала на место, но был остановлен…
– Эвон, присосался-то как, как телок к вымени, – ласково приговаривал Федот, отбирая посудину. – Давай, друг любезный, о деле поговорим, а уж потом и пивко допьешь!
– А что за дело у тебя ко мне? Просьба, что ли какая? Да ты ведь, вроде бы, по торговой части, а не по питейной…
– Просьба? – искренне удивился Федот. – У меня-то к тебе, какие просьбы могут быть? Не, парнёк…
– А что?
– Ты в кости вчера играл?
– Ну, – нехотя протянул Тимофей, пытаясь припомнить. – Может, и играл… Что с того?
– А помнишь, сколько проиграл-то?
Вот это Тимоха помнил смутно. Помнил, что когда в каморку, где они пили, зашел цыган, да предложил сыграть, первым к нему сел Федот. Проиграв копеек пять, друг махнул рукой и с горя заказал еще водки. Ну, а потом решил попытать судьбу и сам Акундинов. Помнится, вначале везло. Цыган только скалил белые зубы, да вытаскивал из кисета новые копеечки, что переходили в Тимохину кису. Ну, а потом, вроде бы, фартить перестало… Кажется, он даже хотел и вовсе перестать играть, но выпили еще… А дальше, вроде бы были какие-то незнакомые морды – не упомнить, мужские или бабьи, новая выпивка, которую он уже и пить-то не мог…
– Так, сколько же? – с томлением в голосе поинтересовался Акундинов. Ну, ладно если, рубль-два… Хотя, тоже, жалко. Ну, а ежели, все десять?! Считай, что треть жалованья коту под хвостик…
– Ты, друг любезный, – продолжал ласково улыбаться Федот, – вчера двести рублев продул…
– Двести рублев?! – еле сумел вымолвить обескураженный Акундинов. – Да быть такого не может!
– Может, может, – замахал руками друг-собутыльник. – Еще как может! Не веришь, бывает, что и тыщу проигрывают. А у тебя-то – всего-то двести. Плюнуть, да растереть.
– Да, как же так? – не веря своим ушам, переспросил Тимофей. – Не может такого быть…
– Тут и свидетели есть, – продолжал издеваться Федот. – И я подтвердить могу, и, сам цыган, да и хозяин.
Тимофей, перевел дух, откинулся назад себя и задумался. То, что его облапошили – понятно. Тут, как говорится, и, к бабке не ходи… Обычно он старался не пить с незнакомцами, но тут… Не так он себе представлял «подсадных». Да и хозяин, сволочь, такая, не иначе – в доле. Что и делать-то теперь?
– Дай, ковшик-то, – попросил он, а когда Федот отвернулся, потянувшись за пивом, попытался вскочить и вырваться на волю… Увы, Тимофей был с жуткого похмелья, потому – руки-ноги не слушались. Да и мужик этот, похоже, был наготове – увернувшись от удара, пнул Тимофея в живот так, что тот упал на пол и скрючился от боли…
– Э, ромалы, да что тут творится-то? – донесся из дверей веселый голос. – Кто тут кого бьет?
– Он, сволочь, бежать хотел, – объяснил довольный Федот появившемуся цыгану. – Ну, а его…
– Ты, осторожней давай, – обеспокоился цыган. – Не искалечь мужика-то. Зачем нам калека нужен? Не, калека нам не нужен, – рассудительно заметил он и звонко засмеялся: – Калека платить не сможет!
– Ничо, – усмехнулся Федот уголком рта, а потом, пнул еще раз, пытаясь попасть в пах. – Парень молодой, сильный. Чё ему сделается-то? А поучить-то надо, чтобы не рыпался, на кого не след…
Наклонившись к Тимофею, стонавшему от боли, цыган укоризненно сказал:
– Вай, ром, да нехорошо-то как! Играли честно, кто хошь подтвердить может. Сел играть – играй! Проиграл – плати!
– Да где же я такие деньги-то найду? – захрипел Тимофей, ползая по грязному полу и размазывая по нему слезы и сопли… – Это же все жалованье мое, за шесть лет, с лишним! Да за такие деньги, можно три дома на Москве купить!
– Ну, ром, а вот это меня – ну никак не колышет! – жестко усмехнулся цыган, опять показав белоснежную пасть. – Кто вчера кричал, что жена у тебя – внучка епископа Вологодского, а сам ты – сын князя Каразейского? Врал, никак?
– Не, почти не врал, – отозвался Федот. – Жена-то у него – на самом деле внучка епископская. Ну, а сам-то он – стрельцов сын.
– Ишь, – горько усмехнулся Тимофей. – Все-то и вызнали…
– Ну, а как же, – довольно хмыкнул Федот. – Нужно же знать, кого из репьев московских разводить будем. Ежели, он безденежный, так чё и стараться-то?
– Ну, а ежели… – стал успокаиваться Акундинов, почувствовав, что и боль потихоньку отступает. – Положим, если я, скажем, заплатить не смогу? Возьму, да боярину Патрикееву пожалуюсь?
– Э, ром, да на что пожалуешься-то? – усмехнулся цыган. – На то, что в кабаке напился, да двести рублев проиграл? Что тебе боярин-то на это скажет? А? Думаешь, после этого ты у него в любимцах останешься? В рот тебе водку никто не лил, да силком за стол не усаживал.
– Ну, а платить не захочешь, – вмешался в разговор бывший друг-сотрапезник. – То можно, скажем, домишко твой спалить. Али, женку подстеречь, да снасильничать. Ну, в крайнем случае – тебя самого на куски порезать…
– А на кусочки-то резаный, как я тебе деньги отдам? – поинтересовался Тимофей. – С каждого кусочка – по копейке, а с каждого клочочка – по денге?
– Ох, да ты, шутник, – улыбнулся цыган, а потом ткнул парня в бок одним пальцем. И, вроде бы несильно и ткнул, но Тимофей весь зашелся от боли…
– Вот, вишь, ром, как больно-то бывает, – рассудительно сказал цыган. – Так что, лучше не шути…
Когда боль утихла и Тимоха смог соображать, то услышал степенный голос «торговца»:
– Ты, Тимоха-Воха, не шуткуй. Польза, от того, что тебя на куски порежем, самая прямая – другим урок будет! Посмотрят на клочки-кусочки-то, что от тебя останутся да и поймут… Ну, а если же ты не заплатишь, то вон, гляди.
Федот вытащил из-за пазухи клочок бумаги и сунул его под нос Акундинову:
– Видишь? Запись кабальная, что ежеля ты, Тимофей Демидов, сын Акундинов, не выплатишь двести рублев, взятые в долг, то с головой и с имуществом своим отдаешь себя в полон помещику, Федоту Иванову, сыну Иванову. Вот – подпись твоя. А тут – подписи видоков… Понял, нет? Срок у тебя – неделя! Иначе, будешь ты моим полным холопом.
– А ты что, помещик? – сквозь боль усмехнулся Тимофей. – Ты ж говорил – гость торговый. Гостям-то торговым холопы не положены. Рылом не вышли…
– Ну, когда надо – гость я торговый. А, коли, нужда какая – помещик я, – ухмыльнулся Федот. – Я, когда припрет – и швец, и жнец и, на дуде игрец…. Ты не боись, все законно…
– Верю, – кивнул Тимоха, а из его уст сами собой стали выходить вирши, до сложения которых он был большой охотник:
Спьяну взял я игральные кости,
На кон бросил свою судьбу.
И, беда пришла ко мне в гости,
Наплевав на мою мольбу!
Коль пришла такая паскуда,
Мне теперь на все наплевать.
Водки-пива теперя добуду,
Победую, едрит твою мать!
– Ну, парень, силен! – прищелкнул языком цыган. – Знал бы тебя раньше, попросил бы песню сложить! А теперь, что уж там…
– Ладно, мужики, отдам я деньги, раз проиграл, – хмуро сказал Акундинов. – Только, – чуть помедлил он, – водки мне поднесите…
– Вот это по-нашему, – обрадовался Федот. – Правильно, проиграл – плати! А вот водки-то, не обессудь… – притворно развел он руками, – хозяин задарма не нальет. Он же решит, что ты, как приказной, хочешь ему проверку устроить – государеву водку, да задарма! Домой ступай, да и пей там, сколько влезет…
* * *
… А еще вчера казалось, что жизнь – славная штука! Вчера подьячий Приказа Новой Четверти Тимофей Демидов, сын Акундинов возвращался домой, довольный собой, жизнью и службой, которую он раньше частенько поругивал. Приказной дьяк Редькин, по приказу боярина Патрикеева, ведавшего приказом, сообщил, что с завтрашнего дня он назначен старшим подьячим. Приказные средней руки запоглядывали косо, зато младшие, на всякий случай, стали именовать его с «Тимофеем Демидычем», а жаловаье теперь будет не в пример больше – не десять рублев в год, а цельных тридцать!
Выйдя на Тверскую, миновав терема и службы шведского резидента, Акундинов подошел к собственному двору. Немного постояв и подумав – а не постучать ли в ворота, что бы жена, али, Костка, вышли и открыли новоиспеченному старшому, но передумал. Засов, чай, супруга опустит только на ночь, а потянуть за веревочку, поднимая крючок, особого труда не составит.
Перед тем как зайти в избу, Тимоха немного помешкал, поглядывая на дом. Что ж, хорош дом… Нынешним летом плотники заменили три нижних венца и надставили еще на три и, изба стала выше. Еще бы пару-тройку венцов – терем будет!
«Баньку, что ли новую срубить… – подумал Тимофей, еще толком не представляя – куда же он будет тратить такие огромные деньги! – Или, сарай каретный поставить?» Правда, вовремя вспомнил, что каретный сарай ему, вроде, как и не нужен, потому как не то, что кареты, но даже простого возка нет! Ну, а зачем возок, если он и лошадь-то не держит? Ну, теперь-то и лошадь можно завести. Ну, а там и о возке подумать можно…
– Танька! – громко позвал Тимофей супружницу, пытаясь, что бы голос звучал грозно, как положено хозяину…
– Тихо ты! – отозвался вместо жены Костка Конюхов, бывший в доме то ли приживалом, то ли слугой. – Сергунька спит. Только-только спать уложил. Разорался…
– А чего, он сам-то не уложится? – удивился Тимофей, но потишел. – Осьмой уж год парню пошел… Меня, в его годы никто спать не укладывал. Да я… – стал он вспоминать, как в младоотроческие годы таскал отцу в караулку туесок с едой, бегал с хворостиной за гусями, да ловил в реке Вологде здоровущих раков.
– Да ладно тебе, – примирительно сказал Константин, слезая с полатей, где спал сын. – Попросил малец, что бы я ему быличку рассказал. Ну, я ему и рассказал. Правда, – зевнул Костка, – сам чуть не заснул. С робетенком-то, как с котом – засыпается страсть, как хорошо…
… Константин Евдокимов, сын Конюхов, был единственным сыном стремянного Дворцового приказа. Батька его, родом из дворянских детей, ратной службе служить не восхотел, а потому, не получивши имения, выбрал для себя стезю царского конюха. Но, постепенно, дошел до высоких придворных чинов и скопил изрядное состояние. Константин – Костка или, как звали его родные и друзья – Костка, с детства терся около приказных да посланников иноземных. К шести годочкам уже знал и письмо и, грамоту, а к десяти мог «шпарить» целые страницы из Иоанна Дамаскина, да из Николы Медиоланского. Иноземные языки учил вообще шутя. К двадцати годам знал греческий и латынь, аглицкий и немецкий, турецкий и польский и состоял в личных толмачах у Великих послов. В двадцать пять лет Константин Евдокимович стал старшим подьячим Посольского приказа. Бывал и в немецких землях и во французских, живал в Польше и Швеции. И, быть бы ему приказным дьяком и доверенным помощником боярина Лыкова, ведавшего в те годы Посольским приказом! Да, что там – приказным дьяком… Боярин, говорил, что Константин может и думским дьяком стать! Только, сгубило мужика то, что губит многих других – страсть к «зелену вину»… Вначале, Конюхову все сходило с рук. Лыков, тогдашний начальник приказа, самолично таскал за чуб и делал отеческие внушения. Константин, клялся и божился, что пить будет только по большим праздникам, но, проходила неделя-другая, «срывался». И длилось так не год-два, а лет, наверное, десять. Постепенно, «слетел» из старших приказных, в средние, а там – и в младшие, а из Константина Евдокимыча, стал просто, Константином, а там и Коской. Потом, правда, судьба ему предоставила редкостный миг, когда можно было бы все возвернуть и, даже преумножить! Любимец царя Михаила Федоровича, боярин Морозов, отправляемый в Свейское королевство для подтверждения границ, да для подписания торгового договора пообещал, что ежели, все выгорит, то быть Константину опять старшим подьячим, а то и – помощником боярина! Но Конюхов, встретив знакомого по Франции мушкетера, искавшего места при королевском дворе, набрался так, что потребовал, что бы свеи вернули обратно Корелу с Ижорой и все, что отошло шведкой короне после Смуты! И, хотя войны между Россией и Швецией не случилось и договор тот шведы подписали, но разъяренный боярин, которому пришлось потратить серебра раз в десять больше, чем рассчитывал, велел бить толмача кнутом и отправить в Сибирь, куда-нибудь в Тобольский острог. Правда, остывши (а тут еще и батька долго вымаливал прощения у царя), пристроил дурня в приказ Новой Чети в разряд неверстаных подьячих, коим, денежное жалованье не полагалось, но положены были, «перьевые» деньги, позволявшие не помереть с голоду. Теперь Костка ходил в приказ только тогда, когда в нем была большая нужда. Нередко и старые друзья-приятели из Посольского приказа, не сумев разобрать какую-нибудь заморскую грамоту, звали его на подмогу. Так, что денег, на еду ему хватало. Ну, а водки… Какой же кабатчик-целовальник не напоит бесплатно подьячего из Приказа Новой четверти, зная, что он завтра может быть послан с проверкой? Правда, раздосадованный батька, Евдоким Конюхов, отчаявшись дождаться от сорокалетнего оболтуса хоть чего-то путного, согнал его со двора. И, как-то раз, пьяный Костка, шагавший из кабака, упал в сугроб. Наверное, в этом сугробе и закончилась бы его жизнь, но судьба была к нему благосклонна.
Тимофей, возвращавшийся в тот вечер со службы, прошел бы мимо мужика, спавшего в сугробе. Пьяниц в Москве много. Каждую зиму, почитай, можно увидеть заснувших в сугробе. Кому-то везет и, проспавши ночку в сугробе, греет счастливчик потом задницу на печке, да посмеивается. Кто-то потом, на паперти стоит, культями трясет, да ради Христа на водку просит. Ну, а ночные караулы поутру стаскивают крючьями до десятка замерзших. Хорошо, если у кого-то из мертвецов родственники сыщутся. А нет – так пролежит до весны, а когда землица оттает, то похоронят во рве, за кладбищем.
Жалеть всех – жалетельности не хватит. Но этого угораздило упасть около ворот Акундинова. Помрет, так ищи потом родственников, а не найдешь – хороняй сам, за свои, кровные. Решив, что распинать и растолкать мужика дешевле, чем платить за копание могилу (а копари зимой берут вдове дороже!), Тимоха поднял пьянчугу. Ну, а раз уж поднял, то бросать его было уже нельзя. Пришлось вести в дом, укладывать в сенях и объясняться с женой. При свете лучины выяснилось, что спасенный, в придачу ко всему еще и сослуживец, то выгонять было совсем неможно. Так, с тех пор, Костка и жил у Акундинова. Танька, супружница Тимохи, хоть и ворчала порой на постояльца, редко бывавшего трезвым, но подкармливала. Костка, будучи пьяным, хозяевам старался на глаза не показываться (дом-то большой, чуланов хватало!), а когда был трезвым, то исправно кормил скотину, таскал воду, дрова, а зимой еще и расчищал дорожки. В трезвом виде, заработав какую-нибудь денежку, Костка сдавал ее на хранение Таньке, зная, что пьяному она их не отдаст ни за что!
… Сегодня Конюхов был трезв, аки голубь. И, даже, собирался терпеть целых две недели – аж, до самой Казанской…
– Что за быличку-то рассказывал? – полюбопытствовал хозяин. Тимофей и сам, вместе с женой, с удовольствием слушал Косткины россказни, коих тот во множестве нахватался в разных странствиях. Особенно Акундинову нравилась та, что про кота в сапогах. Только – дурак этот кот. Надо было самому князем становится, а не бездельника пропихивать. Хотя, на хрена коту власть и титулы?
– Да вот, про девку одну, которую злая мачеха в лес прогнала, да убить хотела. А там, ее семеро карликов к себе жить взяли.
– Карликов? А разве ж, это не семь богатырей было? – удивился Тимофей, который уже давно заметил, что былички, которые рассказываются в разных царствах-государствах, очень похожи с нашими, русскими.
– Ну, у нас – семь богатырей, – не стал спорить приятель. – А у немцев да французов – семь гномов, карлов по-нашему.
– Ну, а потом ее яблоком порченым отравили, да выжила девка-то. А там и королевич приехал, девку поцеловал, да за пир и свадебку. Все, так? – завершил Тимоха.
– Так, да не совсем, – покачал головой Костка. – Во французской-то быличке, там прынц-королевич спящей принцессе ребенка заделал, да и утек.
– Вот ведь … – покачал головой Тимофей. – Все-то бы им опаскудить… Э, – спохватился вдруг он, – а Сергуньке-то как рассказал?
– Не боись, рассказал так, как положено, – хохотнул друг.
– Ну и ладно, – успокоился любящий отец. – А где Танька-то?
– К вечерне ушла, – сообщил Конюхов, загремев печной заслонкой. – Велела – ее не ждать, мальчонку уложить, да тебя накормить.
Костка ловко орудуя ухватом (будто всю жизнь этим занимался!), вытащил из печки горшок. Поставив его на опечек, снял крышку и зажмурился от удовольствия:
– Ух, ты, вкуснота!
По избе разнесся запах мясных щей. Тимоха, сглотнув слюну, достал из хлебного ларя каравай. Конюхов сбегал в сени и притащил соленых огурцов.
– М-м, – только и сказал Акундинов, проглотив первую ложку.
– Мастерица, жёнка-то у тебя, – подтвердил и приятель, наворачивая щи. – Одну ложку съешь, так и язык проглотишь…
Что да, то да! Танька, хотя и взял ее Тимоха только ради приданного, (нет, девка-то была смазливая, только вот, «давала» направо и налево так, что и родители и дед-епископ, плакали от стыда), после свадьбы остепенилась. Оказалось, что и готовить мастерица и хозяйка хорошая. Да что там, положа руку на сердце – и жена верная и мать – на зависть.
– К такой бы еде, да водочки чуток, – заметил Тимофей, лукаво покосившись на Коску.
– Ну, дак, как скажешь, – деланно-равнодушно отозвался тот, а потом с тревогой спросил: – А Танька-то, ругаться не будет?
– Ну, сегодня не будет, – снисходительно ухмыльнулся Акундинов и сказал то, чего уже давно хотел рассказать: – Я ведь, нонеча повышение получил. Теперь я – не хухры-мухры, а – хрум-хрум!
– Ну, никак Тимоша, в старшие подьячие выбился! – восторженно произнес друг-приятель. – Ну, молодец! Ну, а там, глядишь, в дьяки выйдешь.
– В дьяки-то, вряд ли, – вздохнул Акундинов. – Патрикеев-то, боярин, нынче у государя в остуде. А так… – задумался он, – кто его знает…
– Ну, так кончится остуда-то, – утешил друг. – Глядишь, станет он у государя опять в милости. Да и какая у боярина-то остуда? При деле, при месте. Никто ни шапки его соболиной не лишал, ни места в приказе. Ха… Так что, будет Танькин крестный во власти – и тебя не забудет. Эх-ма, – вздохнул Костка, – вроде, не хотел я и пить-то, но, за ради такого дела… У тебя есть чего?
– Ну, кое-что, для аппетиту… – хитро ухмыльнулся Акундинов, доставая маленькую скляницу, не больше шкалика.
– Ну, а чего тут пить-то? – разочарованно сказал Конюхов, но за чарками сбегал.
Скляницы хватило, аккурат, по половинке чарки.
– Ну, Тимофей! – поднял Костка тост. – За то, что бы быть тебе дьяком!
Акундинов, скромно потупился, но подумал: «А чем черт не шутит? И, впрямь, почему бы дьяком-то не стать? Тот же боярин Патрикеев, прежде чем начальником Новой четверти стать и в дьяках успел побывать, да и в приказных хаживал. Чем это я хуже?»
– Скляница-то такая хитрая, откуда? – поинтересовался Костка, рассматривая посудину. – На аптекарскую похожа.
– Ну, так она аптекарская и есть! – хохотнул Тимоха. – Мне ведь, за что старшинство-то дадено? За то, что накрыли кабак, что мимо казны торговал.
– Слыхал, – кивнул Костка.
– Ну вот, – принялся объяснять Тимофей. – Ту-то водку, что в кабаке нашли, вылить пришлось…
– Вылить?! – в ужасе встрепенулся Конюхов. – Это как, вылить?
– Да так, – повел плечами Тимофей. – Боярин приказал – вылить. Мы, поохали, да и вылили. Да и водка-то, дрянь, на табаке настоянная, – сморщился он. – Но, все равно, виновен целовальник-то. Он же, подлец, крест целовал, что торговать будет честно, да все доходы в казну отдаст. Ну, а сегодня, по государеву указу, велено было энтого кабатчика, водить по Москве, а на шею ему, скляницы малые с водкой привязать. Весь день водили! Ну, а потом, отвели на торг, да там, тридцать батогов и всыпали. Теперь он, коли жив останется, в Сибири будет медведям водку продавать!
– А скляницы, стало быть, себе? – понятливо кивнул Костка. – Ну, а чего же взял-то так мало?
– Так ведь, я не один там был.
– Ну, – грустно вздохнул Конюхов. – Не хрен было и вообще брать. Только, в нюх попало…
– Недолго и сходить, – хмыкнул Тимофей, оставляя ложку.
– Ну, так я – мигом, – встрепенулся Костка, с готовностью вскакивая из-за стола. – Токмо – ты денежку-то дай, а не то, забесплатно, даже нашему брату, только «вторака» нальют, сволочи.
– Знаю, как – мигом, – усмехнулся Тимофей. – Уйдешь в кабак, так и припрешься к утру – без водки, с мордой побитой. Нет уж, сам схожу.
Да и чего не сходить? Уж кто-то, а Акундинов, по должности своей знал, что казенных кабаков на Москве – как блох на худой собаке. А как же иначе, если половина дохода в казну идет от ее, родимой?
Неподалеку от дома был такой кабак, про который он точно знал, что хозяин никогда не доливает водку водой, да не настаивает ее на той иноземной травке, табаком именуемой, от которой потом два дня болит башка. Ну, то, что целовальник, приторговывает не только казенной, но и самодельной водочкой – известно. А кто же не без греха? Целовальник, однако, был умен, потому ни разу не попадался.
Кабак был хорош еще и тем, что имел совсем низенькое крыльцо. Правильно-с высокого-то и навернуться недолго, да шею сломать. А там – объясняйся излишний раз с приказными из Разбойного приказа, да с плачущими родственниками.
Миновав длинные сени, заставленные пустыми бочками и, пройдя внутрь, Акундинов осмотрелся – нет ли кого из знакомых, к кому бы подсесть, да похвастать новым чином? Но, за длинным, ничем непокрытым, зато отскобленным, до белизны столом, уставленным разными бутылками, заедками и закусками (в зависимости от кошелька) таковых не было. Были тут, либо крестьяне, из зажиточных, что приезжали в первопрестольную по торговым дела, купцы, зашедшие порассуждать все о тех же делах, да стрельцы, свободные от караула.
Целовальник, завидев подьячего из Новой четверти, заулыбался и закивал так, что того и гляди-башка оторвется.
– Милости, просим! – заворковал кабатчик так радостно, что казалось – встретил лучшего друга.
– Да не на службе я, не боись, – усмехнулся Тимофей. – Водочка-то у тебя, какая?
– Ну, как обычно, – ответил хозяин. – Казенная. Ту, что с государева винокуренного завода отпускают. Вот, попробуй…
В любом кабаке, Акундинов мог бы пить-есть в три горла, да задарма. Только, за красивые глазки никто поить не будет. Рано или поздно, но стребуют с тебя службу за все съеденное и выпитое! Отслужить-то ты, конечно же, отслужишь. Но, как говорят старики: «Сколь веревочке не виться, а хвостик все равно торчит!» И, ежели тебя только со службы попрут – так рад радехонек будешь, что дешево отделался. Таких, что зарились на дармовщинку, Тимофей уже насмотрелся… Кого потом ставили на правеж, да били батогами так, что мясо клочьями летело. Ну, а кого после правежа – прямо в Сибирь, а кого – на кладбище… Это в других приказах – фарт. Там, не то, что старшие подьячие, но и писцы неверстанные уже так зажрались на подарках да подачках, что спали на шелке, да с серебра ели. А за Новой четью, что водочные сборы блюдет, смотрят со всех сторон. Тут тебе и Разбойный приказ и, Приказ Большой казны и, Дворцовый. Все посматривают – не взял бы, приказной чего…
Акундинов решил вначале сам попробовать водку. Ну, не брать же незнамо какую. Хотел, было, прямо у стойки опрокинуть чарку, да толклись тут какие-то рожи, самого синюшного вида, что и стоять-то с ними рядом было противно. Брезгливо покосившись на шваль, да принюхавшись, Тимоха спросил у целовальника:
– А эти-то тут чего делают?
– Так, известно, чего, – вздохнул тот. – Чего и все – водку пьют. Ну, а где они на это денежки берут, так – не мое это дело. Мое дело – копеечку в государеву казну вносить. Ну, так ведь сам же знаешь…
Это, точно. Главную копеечку тащат в кабак не бояре-купцы, а самый, что ни на есть, простой люд. А тут уж такой простой, что проще, вроде бы и некуда… Куцые шапчонки, кафтаны в неряшливых заплатках, а штаны, так засалены, что уже не понять – какого они цвета. Даже лапти, которые можно бы самому сделать за полчаса, если не полениться надрать лыка, были обмотаны склизлыми тряпками…
Стоять рядом с кабацкой теребенью, от которой разило мочой да навозом, было невмоготу. Пришлось заказать себе кувшинчик на два шкалика[2], пару соленых огурцов (не пить же голью!) и поискать глазами местечко. Облюбовав край скамейки и уголок стола, что бы не тревожить соседей (не надолго ведь, чай!), Тимофей сел.
Водка была настоящая – первой выгонки. Акундинов, не спеша (подождет, Конюхов, не помрет чай, от лишней минутки) сидел и чокался с солидным мужиком, назвавшимся торговым человеком по имени Федот. Будь это какой-нибудь теребень, что клянчит глоточек водки, да огрызок огурца, то послал бы его на три буквы. Этот же, пришел со своей выпивкой и закуской.
Сидели, помалкивали, прислушиваясь к разговору соседей о ценах на рожь и пшеницу, да о том – когда же выгодней забивать бычков, что бы не продешевить на московском торгу, да почему нынче соль будет и еще, о всякой всячине.
Когда все было выпито, Федот предложил:
– А что, Тимофей, может, еще – чуть-чуть? Угощаю…
Тимофей прислушался к себе. Вроде, с двух шкаликов, только слегка похорошело. Ну, а что такое два шкалика на двух крепких мужиков? Так, тьфу. Вот, ежели бы он целый штоф принял, то да[3]… А так, пожалуй, можно бы еще… А Костка может и еще подождать…
Выпили еще по чарке, закусили. Торговый гость, явно войдя в кураж, предложил еще. Сказал, что хорошо нынче поторговал, потому – угощает! Ну, Тимофей еще не был пьян до такой степени, что бы отказываться от дармовщинки, да заказывать самому. Хотя, знал он за собой такую слабость – если, начинает кутить, то пропивает все, что есть… Ну, а предложение нового знакомого перейти в другую, «чистую» половину, Тимоха воспринял на «ура». Действительно, а чего же это старший подьячий да гость торговый должны сидеть в одном зале с разными пьянчугами?!
Сидя в чистой каморке, отделенной от общего зала не дерюгой, а дощатой перегородкой, друзья-приятели «уговорили» полуштоф, заказанный Федотом и принялись за другой, купленный, на сей раз, самим Акундиновым. И, как-то стало совсем тепло и хорошо, а когда в каморку заглянул незнакомый мужик, цыганистого вида, да предложил перекинуться в кости, то Тимофей и отказываться не стал…
* * *
… Тимофей, едва-едва сумел доползти до дома. Упав на руки перепуганной насмерть Таньке и встревоженному Коске, которые дотащили до лавки, он то ли заснул, то ли потерял сознание. Проснулся уже тогда, когда на дворе был белый день.
– Ну, где же ты пропадал? – поинтересовалась Татьяна, которая хмуро сидела на скамье и пряла шерсть.
– Да вот, избили меня, – хмуро сказал Тимоха, попытавшись задрать рубаху и посмотреть – что там у него…
Танька бросила пряжу, соскочила с лавки и подбежала к непутевому муженьку:
– Где болит? – с тревогой спросила баба, оглядывая его живот. – Живот, али – ниже?
– Ну, вроде, того, – буркнул он, а Танька уже спускала с него штаны и подштанники, оглядывая «хозяйство».
– Ну, вроде бы, все на месте, – удовлетворенно сказала она, поднимая порты обратно. – Ничего не отшибли. Синяки, только, здоровенные. Главное, куренок твой на месте. Ну, да ничего, – легкомысленно отмахнулась она. – Тебе – на пользу! Лишний раз кобелиться не будешь. Били-то тебя – из-за бабы, али, из-за девки?
– Да пошла ты к едреной бабушке! – выругался Акундинов так, живот схватило от новой боли… – У тебя на уме – только кобели да сучки, да всякие случки!
– Никак, по пьянке, побили? – удивилась жена. – Ну и ну! Да неужели, напился в кабаке, да с мужиками подрался? Неужто, все, как у людей? – недоверчиво покачала головой баба, не веря в такое счастье…
За восемь лет супружеской жизни она неплохо изучила муженька… Бывало, пару раз, Тимохе перепадало от парней за то, что лез к ихним девкам… Ну, а как не лезть, если не отказывают?
…Целый день Акундинов отлеживался, слушая ленивые попреки жены. Однако, Танька, хоть и сердилась из-за вчерашней неявки, но, перекипев, принесла миску с квашеной капустой и нацедила стаканчик рассола. Видя, что помогает плохо, вытащила откуда-то штоф водки. Хотела в чарку налить, то Тимоха затребовал, что отдала всю посудину. Супруга, обматерила муженька, но водку поставила на табурет, рядом с лежанкой. А куда она, зараза денется, если супругу невмочь? Да и сама Татьяна, хотя и сердилась, но как любая баба, жалела битого мужика, еле-еле приползшего домой, …
К вечеру, когда от штофа осталась добрая половина (одному-то пить, как-то и не с руки), а Тимофей успел и поспать и, протрезветь, явился слегка пьяненький Конюхов.
– Ну, вот, а сам про меня говорил – без водки придет, да битый, – язвительно ухмыльнулся Костка. – А сам-то, пришел со штофчиком, да как, огурчик…
– Пошел ты! Без тебя тошно… – поморщился Акундинов.
– Да ладно, Тимоша, не серчай. Я же, понимаю, все в жизни бывает впервые, – сказал приятель, покосившись на штоф.
– Да уж, – фыркнул Тимоха, разливая водку в свой и, в невесть откуда-то взявшийся, второй стакан, подставленный Конюховым.
Молча, без чоканий, выпили. Акундинов, отставив стакан, откинулся на подушку…
– Ну, впрямь, как о покойнике, – заметил Костка.
– В чулан сейчас оба пойдете! – пригрозила Татьяна, занятая хлопотами по хозяйству. – Перегаром разит так, что дышать нечем. Рассол надо с похмелья хлебать, а не водку!
Тимофей, не чувствуя настроения ни стукнуть, ни, даже и обматерить жену, сполз с лежанки, взял штоф, стаканы и безропотно поплелся в каморку Конюхова. Костка, ухватив со стола пару ломтей хлеба да миску с солеными огурцами, пошел следом.
Расположившись на деревянном топчане со старым овчинным тулупом, на котором спал Костка, перед маленьким столом, сколоченном из горбыля, мужики разлили водку.
– А чего переживать-то? – выпив и откусив от огурца, стал рассуждать Конюхов. – Из-за морды битой? Так, плюнь – не девка красная. Все заживет, как на собаке. Из-за того, что в приказ не пошел? Я ведь, когда ты вчера не пришел, пождал-пождал, да спать лег. А с утра, когда ты пьяный да битый пришел, в приказ сходил, да сказал – болен, мол, Тимофей Демидов, сын Акундинов. Может, еще день-два проболеешь. Боярин, правда, спрашивал – не запил ли, свежий старшой-то от радости? А я уж соврал, что съел, дескать, чего-то … Ну, так он и говорит – пусть мол, выздоравливает, а тогда уж и на службу приходит. Знает, ведь, боярин-то наш, что муж у евонной крестницы – не пьяница, да не прощелыга. Ну, то, что бабник, дак тоже ничего. Все ж таки, у боярина в любимцах ходишь.
– Благодарствую, – как-то спокойно поблагодарил Тимофей. Ну, а как же не ходить? Он у Патрикеева, еще с Вологды в любимцах ходит. Не зря же, его на Таньке женили, да в Москву в приказ Новой четверти определили. Правда, было подозрение, что боярин не о нем беспокоился, а о крестной своей. Ну, кто бы ее в Вологде-то замуж взял? Пожалуй, он бы тоже не взял, зная, что придется оставаться дома. Уж Танькина «слава» до замужества была такова, что ей бы только в деревню, за какого-нибудь бобыля-холопа замуж идти. А ведь, если кому сказать, что дед у нее – владыка Вологодский да Пермский! – не поверят…
– Слушай, а где ты весь день-то болтался? – спросил Тимофей. – Вроде бы, дел к тебе из приказа не было. Если б было что, так я бы знал.
– Так из нашего-то – не было, – кивнул Костка. – А вчера, уже после того, как ты за водкой пошел, прибег ко мне мальчонка – посыльный, из Посольского приказа. Там мол, бумажка старая нашлась, во времена Василия Шуйского писана. А письмена, не то – польские, не то – латинские. Разобрать никто не смог. Так вот, сам дьяк Чистой хотел знать – что в ней этакого прописано, если она в тайном сундуке лежит?
– Прочитал? – равнодушно поинтересовался Тимофей, занятый своими грустными мыслями.
– А как же! – ухмыльнулся Костка. – Только, не польские, не немецкие там письмена, а русские… Почерк такой, что и не прочитать вовсе. Вот, сидят там какие-то трескуны, что и читать-то, как следует, не умеют.
– А-а, – только и сказал Акундинов и замолчал.
– Слышь, Тимош, а чего ты не спрашиваешь, что в той бумаге было? – слегка обиделся Костка.
– Ну, что в той бумаге было? – послушно спросил Тимофей.
– Э, – довольно погрозил пальцем Конюхов. – Тайная бумага. До сих пор про нее никому говорить не велено!
– И правильно, – вздохнул Акундинов и налил еще по стакану. – И не говори тогда никому.
– Благодарствую, – сглотнул Конюхов слюну и выдул весь стакан одним махом, ровно стакан квасу на жаре опрокинул. Потом посидел, покрутил башкой и радостно сказал: – Эх, какой же ты человек-то хороший! Ну, так вот, – продолжил он рассказ. – О бумаге-то той, тайной-претайной, никому говорить не велено, а тебе скажу! В бумаге-то этой, о самозванце речь шла. О сыне Бориса Годунова. Дескать, не удавили царя Федора Годунова по приказу Лжедмитрия окаянного, а жив он! Жив, да у верных людей скрывается. Укрылся, дескать, он в Устюжне Железной, у кузнецов тамошних, что на болоте железную руду добывают, а теперь своего часа ждет. А скоро, как срок его выйдет, то придет он на Москву с верными людьми, да боярам-предателям, что в верности ему клялись, да полякам на убиение отдали, всем худо сделает. Только, – захрустел Костка остатками огурчика, – не дошел он до Москвы…
– Ну, а что с самозванцем-то сделали?
– А, – небрежно отмахнулся Костка. – Царь Василий Иванович его зарезать велел, тайком, что бы никто и не знал. Не он первый – не он последний…
– Вон как, – улыбнулся чему-то Тимофей. – Да сколько же этих самозванцев-то у нас было?
– Сщас, посчитаю, – пьяненько икнул Костка, загибая пальцы. – Лжедмитрий, который Гришка Отрепьев. Ну, а может – вовсе он и не Гришка, а настоящий Димитрий Иоаннович был… Кто его знает? Ну, да ладно – один Лжедмитрий, самый первый, это – раз. Еще один Димитрий, который Мишка Молчанов, тот, что Лжедмитрий второй, «вор тушинский» – два. Потом, вроде бы, было еще, не то, два, не то три. Заруцкий, атаман, да еще кто-то. В Посольском-то приказе, их считали как-то, да плюнули. А, – вспомнил вдруг Конюхов, – был еще Петр Федорович, что себя за внука царя Иоанна себя выдавал, за сына Федора Ивановича. Тот, что Илейкой Муромцем звался. В общем, – заключил он, тупо глядя на сжатые в оба кулака пальцы, – у всех царей, что последними из Рюриковичей были, по два, да по три воскресших сынка объявилось. Вроде, штук девять было…
– Ну, а за сынка Шуйского-то, Василия Ивановича, вроде никто себя не выдавал? – поинтересовался Тимофей. – Шуйский-то ведь тоже, Рюрикович.
– Ну, у этого – никого, – сказал Костка, потянувшись к штофу. – Но у Шуйского-то, две девки были, да померли. Малы они были, чтобы рожать-то… Но, какая разница? Было б надо кому, так и девки б воскресли, али – сынок бы какой объявился. Вон, как в прошлый-то раз – только ляхам Москва понадобилась, так живенько царь Дмитрий и объявился. Ну и сейчас … Ежели, ляхам, шведам, а то – туркам, нужно будет, так и найдут.
– Слушай, а на хрена им это нужно? – поинтересовался Акундинов, отбирая у друга штоф, что бы тот не расплескал и, сам разлил оставшуюся водку. – Что им-то с того?
– Ну, брат, – хмыкнул Костка, даже забыв про стакан. – Это же ежику понятно! Одно дело – идти простой войной. И, совсем другое, если повод есть. К тебе ведь, коли на улицу пристанут, дак морду-то бить тоже не сразу зачнут, а покобенятся вначале. Спросят – кто таков, да почему не здороваешься, да почему шапку не снимаешь… А коли царство-государство на другое царство-королевство напасть захочет, дак оно всегда лучше, коли повод есть. Ну, коли причина есть, то повод-то – несложно найти. А лучший повод – так это, ежели законного царя пошли на престол возводить. Тут ведь, и среди русских сумнения начнутся.
– Что за сумнения-то? – не унимался Тимофей.
– Ну, ты еще спрашиваешь, – понизил голос Костка, оглядываясь по сторонам – не услышал бы кто! – Царем-то нашим, Михайлом Федоровичем, разве ж все довольны? А как его на престол выбирали, знаешь?
– Знаю, рассказывал батька, – кивнул Тимофей, также понижая голос. – Казаки черкасские его выкликнули да люди лихие… А Пожарский-то, освободитель – он против Михайлы завсегда был.
– Откуда знаешь? – подозрительно прищурился Конюхов.
– Так говорю – батька рассказывал, – пояснил Тимоха. – Он же у князя Пожарского в ополчении был и Москву освобождал. Ну, а как Михайлу-то на престол избрали, то князь Дмитрий в немилость попал. В Думе окольничим сделали, ровно – кость кинули. А те, кто ляхам, да тушинскому вору задницу, да все остальное лизал, те в боярах-то и остались… Батя, почитай, года три вместе с ним ляхов гонял. Потом уж только, в Вологду служить назначили.
– Вот, видишь… – туманно изрек Константин. – Как все было-то. Так и сейчас, кто против Михайла царя, какие пакости, мыслит, может, к самозванцу тому и перекинуться…
– Может, – согласился Тимофей, но, решив оставить разговор, от которого все равно никакого толку, спросил о другом: – Что там, в нашем-то Приказе деется?
– Да вот, неверстаные, навроде меня, тебя ругмя ругают. Мол, из-за тебя, выскочки, денег им не дают.
– Это почему же, из-за меня? – удивился Тимофей.
– Ну, а кто же у нас старшой подьячий? – вопросом на вопрос ответил Конюхов, грустно поглядев на пустую скляницу.
Акундинов аж подскочил. А ведь, верно! Он, как старшой, заведовал теперь теми деньгами, что положены были на покупку перьев, чернил да бумаги. Если с умом подойти, то старшой, всегда мог заполучить какую-никакую денежку в свой кошелек. Ну, скажите, пожалуйста, кто разберет, из какого крыла у гуся брали перья? Чем, скажем, перья из левого крыла отличается от правого? А ведь, те, что из левого, ценились выше. Купчины, об этом прекрасно знали и, посему, оценивали такие перышки дороже. А бумага? Ну, кто будет разбирать – купил ты отличную бумагу или, просто хорошую, если брать не одной кипой, а двумя-тремя? А кто проверит расходы на неверстаных приказных, вроде Конюхова? Что, тот же Костка, не напишет расписку на три копейки, если дать ему две? Напишет! Еще как, напишет! Знает, что в следующий раз, его вообще не позовут. А кушать-то хочется…
А отпускалось, на все про все, сто рублей в год! Деньги, бешеные! Половину долга покроешь! Только вот, хранились те деньги у приказного казначея. А он, считай, третье лицо, после боярина да дьяка. А ведь казначей, деньги-то выдает не на год, а на полугодие! Только потом, сволочь, стребует с тебя расписки да купчие на все, до последней денежки! Как, отчитываться-то будешь? Ну, как деньги будут, то можно чего-нить да придумать…
* * *
…Утром Акундинов стоял в каморе, которую занимал казначей на пару с огромным железным сундуком.
– Здрав будь, Прохор Степаныч, – поприветствовал Тимофей, кланяясь старшему по возрасту и положению.
– И ты, будь, здрав… Тимофеюшка, – сощурил подслеповатые глаза казначей, не сразу узнавая гостя. – С чем пожаловал?
– Да вот, – виновато почесал голову Тимоха. – Заболел я вчерась…
– А, знаю-знаю, – добродушно засмеялся Прохор Степанович. – Старшинство свое отметил, да заболел… Бывает!
– Ну, скажешь тоже Прохор Степаныч … – деланно обиделся старший подьячий. – Будто бы я самый пропойца из пропойц…
– Ладно-ладно, – примирительно сказал старик. – Дело-то молодое, сам знаю. Знаю, что пить ты умеешь. Ну, чего пришел-то?
– Да вот, жалобился на меня Конюхов. Говорил, деньги из-за меня неверстанные получить не могут.
– Точно! – хлопнул себя по лбу казначей. – Тебе же теперя, деньги расходные нужно дать. На неверстаных подьячих, что перья гусиные изводят – по полкопейки в день. Ну, да сами перья, песок да бумагу – тоже тебе закупать. Сто рублев на год, по полста на каждое полугодие, – кивнул казначей и принялся открывать сундук тремя имевшимися у него ключами.
Дело это оказалось не таким уж и простым. Прохор Степанович морщился, слегка матерился, проворачивая ключи в каком-то странном порядке: вначале – средний, потом – левый и правый, а потом – опять средний…
– От, ведь, немцы, заразы, – привычно ругался старик, – понаделают же сундуков с секретами, а ты, как дурак, возись с ними.
– Ух, ты! И, как это ты, Прохор Степаныч, один, да с ними справляешься-то? – подивился Тимофей. – А я и не знал, что такие замки есть! Вот, мне бы ни в жисть не удалось. Все бы забыл, да перепутал…
– Да так вот и справляюсь, – ответствовал польщенный старик, но, будучи мужиком справедливым, заметил: – В приказе Большой казны замки еще хитрее. Не немцы делали, а англичане, еще при Иване Васильиче. У нас-то что – если ошибся, то можно все обратно переделать. Так у нас и деньги-то такие, что тьфу… Что же такое, получили за нонешний месяц с Москвы, да с посадов только двадцать тыщ? Курам на смех. (Тимофей, заслышав, что двадцать тыщ – это «курам смех», чуть не упал!) А там – из всей России свозят! Десятки, да сотни тыщ… Так в том сундуке, самом большом, если ошибешься, то пистоль в тебя стрельнет…
– Ну и ну, – покрутил головой Тимофей. – Это же надо, такое удумать?
– Вот те и ну. Англичане, они, на разные премудрые хитрости – самые хитрожопые будут! Ладненько, забирай свои деньги, – вытащил казначей из сундука увесистый мешок. – Тут, пять тысяч копеечек. Считать будешь, али, на слово поверишь?
– Ну что ты, Прохор Степанович, – заотнекивался Тимоха, представив, сколько времени он будет пересчитывать каждую «чешуйку». – Да разве же я не верю? Токмо, – робко попросил он, – А нельзя ли мне не пятьдесят рублев, а сразу, всю сотню выдать?
– А на что тебе, сто-то рублев? – удивился старик. – Ты и эти-то деньги не скоро потратишь. Хорошо, ежели, к Пасхе. Бумаги в приказе – завались. Перья в октябре покупать – невыгодно. Гусь-то, линялый идет, щипаный. И то, мы их в сентябре брали. Ну, чернила, там. Так ить, чернила-то не водка, пить их, что ли? Вот, когда потратишь, да расписки с подьячих предъявишь, так и вторую полусотню возьмешь.
– Ну-у, Прохор Степаныч… – заканючил Тимоха, как ребенок, что просит у мамки сладкого петушка на палочке. – Выдал бы, что ли…
– Где ж ты их держать-то будешь? В твоей-то каморе, только простой сундук стоит. Моя бы власть, так я тебе не по полста, а только бы по десять рублей давал. А ежели, скажем, украдут их у тебя? Если, десять украдут, то ладно, не такая потеря. Да за десять не всякий тать и в камору под замок полезет. А пятьдесят? Кое-кто на такие деньги десять лет прожить сможет.
– Ну, Прохор Степанович, оч-чень надо! – чиркнул Тимофей себя ребром ладони по горлу. – Пятьдесят-то рублев – на подьячих, а еще пятьдесят… Ну, очень! А украдут – так ведь рассчитаюсь, поди. Куда же я денусь-то? Мне что, на правеж охота?
– Это точно, – согласился казначей. – Батогов всыпят, да из жалованья вычтут… Купить чего удумал? – поинтересовался догадливый старик, который, вроде бы, поддался на уговоры.
– Эх, догадливый же ты человек, Прохор Степаныч, – восхитился Тимофей. – Сразу, в самое нутро зришь…
– Ну так, Чего тут непонятного-то? – засмеялся казначей, теперь уж совсем подобревший. – Ну, тогда уж скажи – чего покупать-то надумал?
– Да вот, дом совсем плох, – закручинился Акундинов. – Весь сырой, со стен течет, гниль кругом. Летом три венца перебрал, оказалось – все надо менять. А за новый сруб сейчас двадцать рублев просят. Ну, сруб купить, да – туда-сюда…
– А как возвертать-то будешь? – поинтересовался казначей. – У тебя ж жалованье-тридцать рублев в год.
– Так у Таньки-то у моей, от приданного, кое-что осталось. Домишко есть в Вологде, от ейного деда-епископа завещанный, – продолжал врать Тимоха. – Много-то за него не дадут, но и десять рублев – деньги. Ну, а остальное, как-нибудь. Жили же мы раньше на десять рублев в год.
То, что Тимофей был женат на внучке покойного епископа, уже не в первый раз сослужило добрую службу. Казначей, немного подумав, вытащил из сундука еще один мешок.
– Ну, – пиши расписку, – сказал старик, закрывая сундук и указывая на стоявшую в углу конторку, где желтели листы самой дешевой бумаги в осьмушку. – Так, мол и так, взял старший подьячий, имярек, сто рублев, в чем – расписуюсь. Ну, сам знаешь, что писать.
Акундинов, старательно нажимая на плохо очиненное перышко, вывел расписку. Плохо чиненое перо брызгало и царапало бумагу. Когда закончил, не удержался и спросил:
– Прохор Степаныч, может, тебе кого из писцов прислать, перо-то очинить? Или – давай, я сам…
– Иди себе, – махнул рукой старик, – пером-то этим я уже года два пользуюсь. Вот, как совсем сносится, так я новое-то и очиню. А пока – и старым хорошо.
Акундинов, пожал плечами, но вслух говорить ничего не стал. У каждой зверушки – свои игрушки.
Что же, сто рублев есть. Где бы взять еще сто? Пока ничего мудрого в голову не лезло. Потому, к неудовольствию супруги, вернувшись со службы Тимофей опять пил «горькую» с постояльцем-собутыльником. Что бы избежать попреков, мужики снова ушли в чулан. В запале, даже не взяли никаких закусок-заедок, поэтому пришлось обойтись рукавом, занюхивая им выпитые чарки. После третьей захотелось выговориться.
– Я ведь, Константин, в кости проигрался, – начал Тимофей. – Вот, думаю, что же теперь и делать-то?
– Много? – искренне обеспокоился друг-приятель и, по доброте души предложил. – У меня вроде, копеек пять осталось – у Татьяны прибраны. Только свистни – так хоть сейчас и приволоку. А, нет, – оборвал свой порыв Костка, тяжко вздохнув, – пока, не приволоку…. Пока пьяный – Танька мне денег не даст. Проверено. До завтра придется ждать…
– Пять копеек… – усмехнулся Тимоха, хотя на душе стало слегка теплее. – А двести рублев, не хошь?
От изумления, Конюхов пролил водку мимо чарки, чего с ним никогда не случалось…
– Скока? – открыл он рот, как рыба на солнцепеке.
– Скока, скока – с куриное коко, – передразнил Акундинов приятеля. – Сколько слышал, двести!
– Ну да не хрена себе! – выдохнул Костка, грустно посмотрев на лужу. И, не поймешь – то ли он друга жалел, то ли водку пролитую … – Да за такие деньги, терем боярский поставить можно, да еще, на сундуки, да коня хватит…
– Слушай-ка, – спросил Тимофей, которому вдруг пришла в голову мысль. – А ты, случаем, не знаешь таких – Федота, что за гостя торгового себя выдает, да цыгана, что кости метает?
– Так, как же их не знать? – хмыкнул Конюхов, пытаясь согнать лужу в чарку. – О них, почитай, вся Москва знает. Подбирают мужика, побогаче, да обыгрывают. Кости-то у них, игральные, со свинцом внутри. Цыган, как ни бросит, ему всегда больше очков выпадет. При цыгане целая шайка, из стрельцов, коих из полков за татьбу да за трусость выгнали, да из теребней кабацких. Ежели кто, платить не хочет, так силой заставят.
– А, Разбойный приказ, как же? – подивился Тимофей, подливая водки.
– А что, приказ-то? – усмехнулся Костка, опрокидывая чарку. – Мы же с тобой тоже, в Приказе Новой четверти служим, а водку мимо казны как продавали, так и продают. А подьячие наши, что должны за водкой да табаком следить, разве, денег от целовальников не берут? Стрельцы караульные, ежели, поймают кого в кабаке, кто в карты там, али в зернь – в кости играет, то в Приказ и сволокут, да на дыбу подвесят. И то, кого до Приказа доведут, а кого и отпустят, если копеечку-другую заплатит. А, коли, сотнику рубля два-три в месяц платить, так он своих стрельцов и близко к этому кабаку не подпустит. Вот, так-то. Ну, а даже, если кто в Приказ пойдет, то что? Федот этот, мужик башковитый. Он все хитро обстряпывает. Либо, грамоту заемную подписать заставляют, либо – кабальную грамоту. Поди-ка, поспорь с ими. Был, правда, упрямец один. Он, цыгана-то за руку схватил, когда у того кость подменная была, со свинцом внутри, да в морду тому и дал. Грит – не отдам, мол, раз обыграли нечестно. Так, поймали его, руки-ноги сломали, глаза – выкололи, да и язык отрезали, что бы, не мог не написать, ни рассказать ничего. Люди бают, что милостыню просит теперя, на Сивцевом вражке. Так и то, каждый вечер к нему человечек от цыгана приходит, да милостыню-то и отбирает…
– Да, дела! – протянул Тимоха.
– А еще, люди-то баяли, – продолжал Костка, – что к Федоту, людишки разные ходят, ежели, дело какое нужно решить. Ну, порешить там, кого… Может, знавал ты Муху-великана? Был тут у нас, боец наемный.
– Это, который на Божьем суде у Расторгуева был? – припомнил Тимоха. – Тот, что дворянского сына Семина изувечил? Помню. Из татар крещеных. Здоровый мужик был – поперек себя шире и, кулачищи пудовые. Он тогда Семину всего один разок и врезал, да так, что у того челюсть набок перекосилась…
– А что с ним стало-то, знаешь?
– Вроде, зарезали его, по пьянке… – пожал плечами Акундинов. – В кабаке, будто бы, с пьяными ухарями столкнулся. Не то – с мясниками костромскими, не то – с соледобытчиками камскими.
– Как же, по пьянке! – хмыкнул Конюхов. – Его Гаврила Потапков, стольник царский, на Божий суд, вместо себя нанял. За десять рублев! Он, Потапков-то, с боярином Троекуровым из-за вотчины поспорил. Будто бы, отрезал боярин от его поместья две десятины, что еще пращурам Гаврилиным за службу дадены были. Потапков-то – столбовой дворянин, а какой-то евонный дед, при Федоре Иоанновиче окольничим был. Вот, схлестнулся он с боярином, да челобитную на него и написал. Дело-то долгонько разбирали, года два. Уж сколько на том стряпчих да подьячих озолотилось – не счесть! Ну, тогда и захотел Потапков на Божьем суде биться. Нанял он Муху-великана, а боярин, как узнал про то, то испужался. Самому-то ему супротив холопа, пусть и бывшего, выходить – честь боярская не позволяла, а нанять кого – так сильнее Мухи на Москве никого не сыщется. Мужик – что на кулачках, что на саблях – лучше всех. Все ж, не зря он, в боевых холопах у князя Оболенского служил, а за Смоленскую войну ему вольную дали, потому что боярину жизнь спас. Троекуров-то, людишек послал к Федоту, да двадцать рублев тому заплатил. Так за те деньги, Федот, своим людишкам-то и шепнул, что следует. Пятеро на Муху-великана и напали. Троих-то он насмерть убил, одного искалечил, а последний-то исхитрился, да нож ему в спину и засадил. Ну, пятого-то он, хоть и полумертвый уже, но задавить сумел. Тело-то Мухино в Яузу бросили. Рыбаки, говорят, вытащили через неделю – так весь раками объеден, только по кресту и узнали!
– Да… – обронил Тимофей негромко, – с такими лучше не связываться…Себе дороже…
– Так ты – цыгану с Федотом проиграл? – вдруг понял Костка, побледнев.
– Им, собакам, – повесил Акундинов буйну голову.
– Так, может, боярину рассказать? – предложил вдруг Конюхов, но спохватился. – А, бесполезно. Боярин только осерчает, а помочь-то не может. Как помочь-то? Ежели, только тебя в острог садить, али, в монастырь отправлять, навечно… Стрельцов, конечно, может боярин послать, что бы кабак-то прикрыли, – принялся рассуждать приятель. – Только, не будет же Федот в кабаке сидеть, да у моря погоды ждать. Да и то… Стрельцов посылать, шума будет много, до государя дойдет… А так, все одно – платить заставят. Эх, как же тебя угораздило-то?
– Как, как, головой – об косяк! – злобно огрызнулся Тимоха. – Чего уж теперь скулить-то, поздно… Двести рублев отдать надобно…
– Ой, Тимоша! – по-бабьи всплеснул руками Конюхов. – Где же такие деньжищи-то взять? Может, продадим чего?
– А что продавать-то? – почесал затылок хозяин. – У меня имущества – все на мне, да сабля отцовская где-то под печкой лежит… Самому только, головой к кому заложиться. Так ведь и то, больше ста рублев не дадут. А барахло… Все, что есть – все Танькино. Да и так – время нужно, что бы продать-то его. А времени-то и нету!
– В долг, у кого взять? – неуверенно предложил Конюхов, понимая, что двести рублей никто без залога не даст. А залог, так его тоже еще найти нужно… – Или, украсть, если…
Костка, сказав такое, сам испугался сказанного. Что бы замять неловкость, выцедил из бутылки оставшиеся капли в чарку Тимохи.
– Да, чего там мучаешься-то, – усмехнулся Тимофей, доставая из кисы копеечку. – Сбегай в трактир, пущай бутыль нальют. Только, посуду возьми, – указал он на пустую бутылку, – дешевше выйдет. А я пока – чего-нибудь на закуску найду.
Танька, хоть и поорала, но выдала мужикам миску с капустой да с солеными огурцами и несколько ломтей сала с хлебом. Ну, а пару луковок Тимофей взял сам.
По большому-то счету, супруге было грех жаловаться. Ее муж, по сравнению с другими-прочими мужиками, пил не часто. Так, может раз, а может – два раза в месяц. Да и во хмелю был не особо дурным и, бил не часто. Только, если вспоминал, что досталась ему невеста «порченой». Танька, правда, за словом в карман не лезла. Говорила, что заместо девственности своей, коей – полкопейки цена в базарный день, вытащила его из с…й Вологды, да хорошее приданное принесла, да место в приказе.
Когда запыхавшийся, но довольный Костка притащил бутыль, Тимофей уже успел накрыть на стол. Посему, вторую выпили по-человечески, с закуской. Дальше, хорошо так посидели, душевно. Песен каких-то попели… Правда, на следующий день, когда нужно было идти в приказ, Тимофей едва-едва сумел встать. Хотел, было, опять «заболеть», но пересилил себя.
Весь день был «вареный». Но, к счастью, никаких важных дел не было, боярин с дьяком в приказ вообще не зашли, поэтому можно было тихонько дремать в уголке, время от времени, посылая младших подьячих за квасом. Хотелось, правда, пива попить, но – не рискнул. Вдруг да боярин явится. Одно дело – с похмелья человек, а другое – пьяный на службу. Зато, к вечеру голова уже совсем посвежела, а пока сидел и размышлял, кое-что удумал…
… Василий Шпилькин, подьячий средней руки Разбойного приказа и давний, еще с Вологды, знакомец (да не просто знакомец, а кум!), был дома. Когда Тимофей постучался, он, вместе с женой Людмилой и детьми, ужинал.
– Кого это там принесло? – проворчал Васька и недовольно сказал жене: – Сходи, посмотри…
Когда улыбающаяся Людмила (благоволившая к Тимофею) ввела нежданного гостя, Шпилькин обрадовался:
– О, Тимоша! Сколько лет, сколько зим! Слыхал, про радость твою! А мы уж решили, что загордился, как старшим-то приказным заделался! Эдак, кум-то мой, дьяком скоро станет. Вот уж, точно он тогда от нас нос воротить будет.
– Ну, скажешь тоже, – обнял приятеля Тимофей, выгребая из-за пазухи гостинцы – бутылку с «зеленым» хозяину, «косушку»[4] сладенькой наливки для Людки, большой печатный пряник для нее же и целую охапку петушков на палочках для детей.
– Вот, видишь, – обернулась довольная баба к супругу. – Как люди-то добрые в гости ходят?! Не то, что некоторые, что себе-то выпивки принесут, а про баб-то и не вспомнят! Ну-ка, щи вначале дохлебайте, – прикрикнула она на ребятишек, радостно ухвативших сладости.
Людмилка, ушлая молодая бабенка, была сама не своя до сладких наливок и настоек. Как-то раз, когда Васька изрядно напился и заснул на полатях вместе с детьми, Тимоха, впавший в раж, стал приставать к захмелевшей молодухе. Ну и она, не шибко-то и сопротивлялась, когда кум заваливал ее на сундук. (Ну, что и за кума, коль под кумом не была?) На следующий день, протрезвев, оба решили, что между ними ничего не был. А во второй-то раз, когда Шпилькины заходили в гости, то и Людка так пристала к Тимохе, что пришлось уходить с ней в баньку, а потом, еще и выдумывать, что у бабы случилось долгое расстройство желудка, а сам хозяин, в это время, отлучался на службу. Словом, сочинить такую байку, в которую может поверить только муж. Танька, не очень-то поверила…
– Ну вот, стало быть, чин обмоем, да и поужинаем, заодно! – радостно сказал Василий, доставая стаканы. – Давай-ка, миску куму неси, – велел он жене.
– Да не, выпить – выпью чарочку, а ужинать не буду – отказался Тимофей. – Чего-то, есть неохота да и некогда…
– А чего ж тогда водку-то принес? – удивился Васька.
– Ну, выпьешь и один. Или, сбережешь, да остатки с кем-нибудь допьете, – махнул рукой Акундинов. – Я ведь, по делу. Ну, выпьем, вначале. За встречу, да за чин мой, новый.
Выпили. Василий и Людмила заработали ложками, наворачивая оставшиеся от обеда щи, а Тимоха захрустел огурцом.
– Ну, так вот, такое вот, дело, – принялся объяснять Акундинов. – Ты ведь помнишь, что у батьки-то моего, царство ему небесное, лавчонка суконная была?
– Ну, помню, – кивнул Шпилькин. – Как сейчас помню – была она у церквы деревянной, у Апостола Андрея. Вместе с церковью потом и сгорела. Церкву-то, новую, при мне еще из камня строить стали…
– Вот-вот, – прервал Тимофей воспоминания друга-земляка. – Держал он лавку, пока в стрельцах-то был, а лавка-то, возьми, да и сгори. А батька, после того, как тати его изувечили, при владычном дворе жил. Помнишь ведь, из милости нас взяли?
– Ну, почему же так, из милости-то? – примирительно сказал Василий, понимавший, что для Тимофея, это не очень-то приятные воспоминания. – А может, владыка-то тебя уже сразу, пока ты мальцом еще был, в зятья решил взять? Батьку-то он, как будущего родственника, к себе во двор и взял. Ты же, парень-то грамотный. Не зря же, сам воевода Лыков тебя азбуке учил. Значит, глянулся ты и воеводе и владыке. А уж, архиепископ-то наш, Варлаам, был силен! Может, был бы он жив, так и стал бы сейчас митрополитом, а то и – патриархом!
– Ну, патриархом, положим, Варлаам бы не стал, – уточнил Акундинов, знавший церковные правила и обычаи гораздо лучше друга. – Он ведь, до того, как в монахи-то постричься, женатым был. А тех, кто был женат, их в митрополиты да в патриархи не ставят.
– Ну, архиепископ-то, он тоже! Да и, батька-то, не приживалом был каким-нибудь взят, а старшим дворовым.
– Да, чего уж там, – махнул рукой Тимофей. – Дело-то давнее. Но вот, оказалось, что у батьки-то, какие-то дела были с купцами аглицкими, что из Архангельска в Москву товары везли. И, вроде бы, давал он им деньги, что бы сукно ему в лавку привезли. А англичанин тот, кому батька деньги отдал, то ли заболел, то ли, помер. Сукно он нам не привез, а деньги, стало быть, пропали…
– Может, еще по одной? – предложила зарозовевшая Людмила, ласково поглядывая на мужиков.
– А что, баба, а дело говорит, – крякнул обрадовавшийся Шпилькин, непонимающий – при чем тут Демид Акундинов да аглицкое сукно?
Выпив, Тимофей продолжил рассказ:
– Так вот, передал мне человек один, из гостиной сотни, что у англичанина-то сын остался. Раньше-то совсем малой был. А вырос, да записи отцовы посмотрел и, хочет он со мной рассчитаться. Либо – сукном, либо – ефимками.
– Ишь ты, – поразилась Людка, – как в быличке какой….
– Ну, при чем тут быличка-то? – рассудительно заметил муж. – Просто, в Англии-то народ честный живет, а не то, что наши, воры. Наши-то купчины, за отцовы-то долги, хрен с редькой, рассчитались бы…
– Ну, не скажи, – возмутилась супруга. – Помню, как тятенька мой, за потраву, что его отец помещику Алексееву нанес, пять годов платил.
– Ну, так то помещику. Попробовал бы не платить, так и сам и дети его холопами бы стали! – засмеялся Василий.
– Чего это, холопами? – завелась слегка пьяненькая Людка. – Мы, всю жизнь, посадскими были. У батьки-то моего, своя катавальня была. Да в наших валенках вся Вологда ходила!
Тимофей, терпеливо выждав, пока супруги не закончат спор, вернулся к повествованию:
– Стало быть, англичанин, не сегодня-завтра на Москве будет, да ко мне придет. И, хочу я его попросить, что бы он не долг мне вернул, а в дело взял. Долг-то мне, чего теперь? Я уж, думать-то про то забыл.
– А что, дельно! – одобрил Василий. – Очень даже дельно. Только, сколько сукна-то он батьке задолжал? А вдруг, для дела-то не хватит?
– Скорее всего, не хватит, – согласился Тимофей. – А сколь долг велик – так и не знаю. Хорошо, если рублей двадцать… А, коли рупь-два? У меня тут, такая мысля… Англичанину тому, что бы в Москве-то торговать, амбар какой, али, склад для товаров нужен. А зачем ему у кого-то чужого брать, если у меня и дом большой, да сараи имеются?
– Ну, Тимофей, ну, голова, – восхитился Василий, опять берясь за бутылку и собираясь налить гостю.
– Не, мне хватит, – твердо сказал Акундинов, прикрывая стакан ладошкой. – Вы мне, лучше, вот что скажите… – замялся он. – А не можете ли ожерелье на день-другой одолжить?
При этих словах супруги притихли. Тимоха Акундинов, конечно, лучший друг и земляк, но! Жемчужное ожерелье, доставшееся Шпилькину от дедов-прадедов, стоило больших денег…
– А зачем оно тебе? – удивленно спросила Людмила.
– Хочу, англичанину этому, пыль в глаза напустить, – улыбнулся Тимоха. – Пусть он, чудак заморский думает, что я – человек небедный, а, стало быть, за маленькие-то деньги с ним в долю не пойду. А так, посмотрит он на ожерелье, да подумает – вот, купец-то богатый! А после, глядишь и согласится, в долю-то меня взять. А там, – сделал Акундинов многозначительную паузу, – глядишь, и ваш сарай для дела пригодится…
– Да у меня ведь еще и повить пустая, – задумался Шпилькин, – сена-то там нет, скотину мы не держим. Почитай, еще один готовый склад!
– Ежели, что, так мы и летнюю избу можем освободить, – горячо поддержала Людмила.
– Ну, только это ведь еще все – вилами на воде писано! – слегка осадил Тимофей друзей. – Нужно еще этого иноземца-то уговорить…
– Стало быть, нужно уговорить… – согласился Васька. – Людка, ты, как думаешь?
– А что, – загорелась и Людка. – Лишняя копейка на дороге-то не валяется. Глядишь, и мы в люди выйдем. Не все же на голое жалованье-то жить… Подарки-то, что носят – слезки одни… Детям на портки, да мне – на ленты…
Людмила сорвалась с места и убежала в светелку. Там, порывшись в каких-то тайничках (мало ли, вор какой, от которого и замки не уберегут!) принесла завернутое в шелковый платок ожерелье.
– Так вот, вместе с платком и бери, – подала баба драгоценность. – Токмо, смотри, – полушутя-полусерьезно напутствовала она, – не вздумай потерять! Глаза выцапаю!
– Ну, скажешь тоже, – обиженно отозвался Тимофей, засовывая жемчуга за пазуху и поднимаясь с места.
– На посошок? – предложил слегка охмелевший хозяин.
– Ну, ты чего! – даже возмутился гость. – Куда же я пьяный, да с этаким богатством?
– Это – правильно, – похвалил его Васька, наливая себе и супруге. – Ну, а мы тогда, выпьем тут еще, за почин!
…Найти на Москве покупателя на жемчужное ожерелье большого труда не составляло. Гораздо труднее было уговорить купца дать нужную сумму. Хотя жемчуга стоили все сто рублев, но давать их никто не спешил. Купцы, как сговорившись, предлагали, кто семьдесят пять, а кто восемьдесят талеров. А в залог, так и вообще давали только пятьдесят ефимком. Подумав-подумав, Акундинов решил-таки продать Васькино ожерелье за восемьдесят талеров!
«Один хрен! – махнул рукой Тимоха. – Где я потом найду пятьдесят ефимков, что бы ожерелье-то выкупить?»
Конечно, обманутых земляков, было жаль. Но ведь себя-то еще жальче!
Получив восемьдесят ефимков, Акундинов пошел на Денежный двор. Свернув с широкой Фроловской улицы на Лубянку, а там, в сырой Лучников переулок, подошел к длинной караульной будке, перекрывавшей вход. Двое скучавших стрельцов встретили его спокойно. Чай, уже привыкли, что мимо них туда-сюда несли серебро.
– Чего несешь? – поинтересовался один. – Ефимки, али, лом?
– Ефимки, – сказал Тимофей, показав мешок. – Вот, копеечки надобны.
– Ну, проходи, – зевнул первый стрелец, а второй постучал древком бердыша в низенькую дверцу, ведущую не во двор, а куда-то вбок: – Елферий, открывай…
Дверца открылась и Тимоху впустили в низенькую каморку, где был стол, покрытый сукном, да безмен, висевший на стене. Елферий, низенький мужик, похожий на хорька, кивнул на стол:
– Высыпай. Считать будем, – недовольно сказал он.
– А считать-то зачем? – удивился Тимофей, но спорить не стал, а вывалил все добро на стол.
– Для того, что бы знать, – сказал приказной, вытаскивая из-под стола сундучок, окованный железными полосами. Достав из него лист бумаги, перо и медную чернильницу с крышечкой, добавил: – Лучше бы ты лом серебряный нес. Лом-то серебряный – р-раз и, взвесили. А ефимки-то, считать придется.
Когда пересчитали, подьячий (или, кто он там?) записал общий итог на бумажку и сказал:
– Ступай теперь прямо, до самого колодца. Как дойдешь, то свернешь направо. Там, казенные избы да палаты стоят. И дьяк там с денежного двора сидит, али – подьячий. Найдешь кого да и обскажешь, что к чему, а он и распорядится. А там – либо прямо при тебе все сделают, али – готовыми копеечками дадут.
Войдя в огромный двор, покрытый драночной крышей на столбах, Тимофей с недоумением закрутил головой – а куда тут дальше-то идти? Где тут, прямо-то? Если, прямо идти, то стоят навесы, под которыми сидят и стучат молотками хмурые мужики. Присмотревшись, Акундинов понял: «Мать честная, так они же из проволоки копейки чеканят!» И, никакого уважения ни к серебру, ни к тем маленьким чешуйкам, за которые на большой дороге могут и кишки выпустить! Хотя, как заметил наблюдательный глаз старшего подьячего, копеечки мастера стряхивают ни куда попало, а кожаные мешочки, которые, после их заполнения, забирают чисто одетые мужики и куда-то уносят.
Углядев просвет между навесами, Тимофей понял, что это и есть путь к приказным избам и пошел, едва ли не задевая локтями столбы. Где-то, почти на середине, его остановила чья-то рука.
– Слышь, мужик, – раздался негромкий шёпот. – Постой…
Акундинов невольно сбавил шаг а потом, вовсе остановился. Да и как не остановиться, если тебя ухватили прямо за полу кафтана? Из-за столба, подпиравшего кровлю, вылез тороватый мужичонка, в прожженных штанах и кожаном фартуке на голое тело:
– Сколько несешь-то? – спросил мужик.
На дьяка мужик явно не походил. Поэтому, смерив незнакомца взглядом, Тимоха буркнул:
– Сколько надо, столько и несу.
– Давай, по пять процентов с рубля, но… – поднял многозначительно палец мужик. – Без записи и, мимо боярина…
– Это, как? – заинтересовался Тимофей, который обычно видел копеечки только в готовом виде, когда получал свое жалованье у казначея. Что значили проценты с рубля, он не особо-то понимал.
– Да, просто, – объяснил мужик. – У тебя, сколько талеров-то с собой?
– Восемьдесят штук.
– Ну, вот. Только, давай-ка с дороги-то сойдем, – предложил мужик, увлекая его в сторону, за собой.
Прошли подальше и встали около каких-то барабанов, которые крутили две лошади, а мастеровой продолжил:
– Так, если у тебя восемьдесят талеров, а из каждого, считай, выйдет по шестьдесят четыре копейки. Сколько, всего-то выйдет?
Тимофей, считавший в уме не очень-то хорошо, задумался, но бывалый мастер уже выдал результат:
– Вот, будет, пять тыщ сто двадцать копеек. Пятьдесят один рупь, с двадцатью копейками. Стал быть, в казну тебе положено отдать по десять копеек с рубля, пятьсот двенадцать копеек. Смекаешь?
– Ну?
– Оглоблю, гну, – злым шепотом сказал мастеровой. – Значит, тебе останется, сорок шесть рублев с осьмью копейками.
– Это что, я столько должен в казну отдать? Ну, ни хрена себе! – удивился Тимофей. – Я думал – ну, рубль, ну – два, от силы. Мое ж серебро-то!
– Ты че, парень? – присвистнул «денежник». – Тебе что, за бесплатно деньги-то чеканить будут?
– Ну, вы даете! – удивленно потряс головой Акундинов. – Десять копеек с рубля? Да таких процентов-то даже жиды не берут…
– Дак то – жиды, – рассудительно разъяснил мастер. – А то – приказ Больших денег. Ты че, думаешь, десять-то копеек нам идет? Ха! Держи портки шире! Нам-то идет с одного пуда выделки три рубля на всех. А всех-то нас, ой, как много. Да дьяк наш, скотина, да староста, большую-то часть себе забирают. Нам, мастерам, достанется хорошо, если рупь. Вот, крутиться приходиться.
Акундинов, сочувственно покивал, хотя и не понимал – много это, или, мало? И вообще, сколько пудов в день «разделывают» мастера?
– Ну, согласен? – настойчиво теребил его мужик. – Ежели, мимо казны, то ты отдаешь мне по пять копеек с рубля, а все остальное – тебе. Ну, как, по рукам?
– Значит, сколько мне достанется? – хмурился Тимофей, силясь сосчитать мудреные выкладки.
– Тебе, достанется, – прикинул мастеровой, – не сорок шесть рублев, а сорок восемь, с лишним. Два рубля с копеечками выиграешь. Понял?
– А не обманешь? – подозрительно покосился на него Тимофей.
– Я что, дурак, что ли? – оскалил зубы мастер. – Ты же, хай, тогда поднимешь. А хай, поднимешь, так, кто же со мной потом дело-то будет иметь? Не, у нас все по честному! Да и, сделаем просто – баш на баш. Я тебе – копейки, а ты мне – талеры.
– По рукам, – согласился Тимоха, которого сразил последний довод чеканщика.
Видимо, мастера имели запас копеек, потому что, очень скоро мужик принес мешочек, в котором лежали блестящие, как свежая рыбья чешуя, копеечки с именем государя всадником, колющим дракона. Иначе, пришлось бы сидеть и ждать, пока твои ефимки не расплавят, да не вытянут из них проволоку, пропуская ее через разные отверстия и наматывая на барабан, а уже потом, мастер-чеканщик, орудуя молотком, не «набьет» из проволоки серебряных чешуек. Но, по правде говоря, Акундинов замучился, пока пересчитал четыре тысячи восемьсот с лишним копеек, матерясь и горько жалея о том, что в Русском царстве-государстве не придумали еще такой же монеты, вроде немецких талеров или французских ливров, что бы не возиться со скользкими и мелкими «копейными» денгами[5].
Довольный сделкой, Тимофей возвращался той же дорогой. Потянув на себя дверь, ведущую в караулку и, оказавшись перед выходом, он был остановлен стрельцом.
– Ну, все изладил? – опять зевнул тот. – Предъяви бирку, да и ступай себе с Богом, трать копеечки.
– Какую бирку? – удивился Акундинов.
– Как, какую? – весело переспросил стрелец. – Такую, в которой сказано, что ты подать в казну уплатил. Ну и, печать на ней должна стоять. Ну, так, где бирка-то? Поищи, повнимательнее… – доброжелательно присоветовал он. – Посмотри, может, в мешок положил, вместе с копеечками?
«От ведь, сволочь! – так и обмер Тимоха, поминая «доброго» мастера недобрыми словами. А ведь знал же, сын сучий-ползучий!»
– Так чего, – перестал улыбаться стрелец. – Есть, бирка-то, али нет? Ну, тогда мужик, не обижайся! Елферий, – позвал стрелец. – Высунься. Тута у нас мужик без бирки. Сколько он в казну-то должен уплотить?
Из дверцы высунулась мордочка приказного. Елферий прищурился, разглядывая стоявшего перед ним мужика:
– Было у него восемьдесят талеров. Значит – должен уплатить … пятьсот двенадцать копеек. – Протянув Тимохе кожаный мешочек, наподобие того, что он видел у денежников, сказал: – Вот, сюда и ссыпай. А я – перепроверю…
– Так, что давай, отсчитывай, – уже добродушно сказал стрелец. – Не дрейфь, мужик. Не ты первый, не ты последний, что казну-то пытаются оммануть.
Тимоха, повесив голову, стал отсчитывать непослушными пальцами все пять сотен с двумя на десять копеек…
– Ну, мужик, да не переживай так, – утешал его стрелец. – Нонче-то еще ладно. А вот, в прошлые-то лета за такое, у тебя бы всю казну отобрали. Да и самого – на правеж бы поставили, что бы казну не омманывал! А сейчас – только то, что казне причитается, заберем.
– Да уж, казне причитается – казна и заберет! – в сердцах бросил Акундинов, опять сбившись со счета и принимаясь по-новой…
– Так, а кого ты винить-то должен? – негромко, но с оттенком угрозы в голосе, сказал Елферий, ставший вдруг как-то выше и значимей. – Тебе ведь, как человеку говорено было – ступай к подьячему, а он тебе все обскажет… Было, говорено-то? Было. Ну, а ты, голубчик, что захотел? И – рыбку съесть и, в лодку сесть? Нет, милый, так нельзя! А иначе, мы все царство-государство профукаем…
– Слышь, мужик, а тебя кто омманул-то? – поинтересовался стрелец.
– Да я, вроде бы, не запомнил, – пожал плечами Тимофей, пытаясь вспомнить мастерового. – Штаны, да фартук… Рожа у него хитрая, да наглая.
– Ну, – хохотнул стрелец. – Они все так ходят. Жарко там. А был бы не хитрый, так не стал бы тебя так подводить…
– Такой, говорливый, – напряг Акундинов память. – Считать умеет хорошо. И, в веснушках он…
– А, – протянул вдруг Елферий, догадавшись, – так это, Серега Пономарев. Он ведь, сукин кот, раньше в Разбойном приказе служил. А за то, что взятку от конокрадов брал, сюда и попал, как на каторжные работы. От, ведь, шельма, а?
– А что, тут еще и каторга? – оторопел Тимоха, и, поняв, что опять сбился, выругался…
– Еще – пятнадцать… – сказал Елферий.
– Что, пятнадцать? – не понял Тимофей.
– Еще пятнадцать копеек осталось, – подсказал приказной. – И, осторожнее, одна у тебя выпала, да под стол закатилась. Потеряется, а нас потом виноватить будешь. Не, нам чужого не надо!
– Ты, мужик, не боись, – вмешался стрелец. – Елферий у нас, хоть и плохо видит, да любую копеечку сосчитает, где бы она не была. Деньги – сквозь мешок углядит, да сочтет!
– А насчет каторги, так у нас тут каторга и есть, – добавил Елферий. – Работает народец с утра и до ночи, без выходных дней. Ну, кормят, правда, хорошо, да жалованье идет. А так, со двора никого почти не выпускают…
– Что, так цельными днями и работают? – поразился Тимофей.
– Да нет, по праздникам, например, отдыхать дают. Да и в город сходить – в церкву там, да в лавки – тоже отпускают. Токмо, раздевают догола, да всех и обсматривают. Знают ведь, чертяки, что проверять будут, а все одно – тащат и тащат!
– И утаскивают? – полюбопытствовал Акундинов.
– Ну, не без этого, – покивал Елферей. – Тута у нас, ежели, посчитать, то с десяток мастеров всего и есть, что под судом да на правеже не были. Ну, а остальные…
– Елферий, а как, на этот-то раз Пономарев копейки тащить надумает? Как считаешь? – поинтересовался стрелец, а потом, обернувшись к Тимофею, засмеялся: – Он, в прошлый раз, в мешок сложил, а мешок – через забор выбросил. Ну, не знал, что у нас там кобели ходят…. А кобели-то те, они на запах серебра натасканы. Ну, почти как Елферий, копеечки-то чуют.
– Ты ври, да не завирайся, – беззлобно осадил приказной стрельца. – А Сергунька-то, что-нибудь да придумает.
– Проглотить можно, – грустно предположил Акундинов, смирившийся с утратой «чешуек»..
– Проглотить… – задумался стрелец. – Как, думаешь, Елферий, можно проглотить?
– А, что… – прикинул тот. – Это ж, всего-то с фунт будет. Проглотит! Только, как он их доставать-то оттуда будет?
– Как-как, – хохотнул стрелец. – Известно, как… Каком!
– Ну, так отпустят-то его только на день, – покачал головой Елферий. – За день-то копеечки, ну, никак, выйти не успеют…
– И, что? – догадался служивый. – Никак, Сергунька-то наш, в бега собрался?
– Ну, кто у нас сотник – ты, или – я?
«Вот как! – удивился Акундинов. – Стрелец-то тут не простой – целый сотник! А Елферий, тогда кто?»
Что бы проверить догадку, он бросил последние чешуйки в подставленный мешок и спросил:
– Ну, а что теперь … дьяк приказной?
– Догадливый! – заржали в один голос и сотник и Елферий.
– Так, а чего же не догадаться-то, – скромно потупился Тимофей. – Не иначе, приказ Большой казны татей ловит.
– Ловит, – подтвердил дьяк. – Вишь, за сегодня, окромя твоих копеек, в казну уже сотню рублей возвернули.
– Ну, так может быть, – потупился парень. – Казна-то и без моих пяти рублев проживет? Я ведь, взаправду не знал – вот, те крест!
– Ну, казна-то, положим, проживет. Только – порядок во всем должон быть. Ну, а, с другой-то стороны – ты утаишь, другой – утаит. Так, что же останется-то? Да и ты, впредь умней будешь, – безжалостно прервал его изливания дьяк. – Ну, ступай, парень, ступай себе с Богом. Ну, бирку еще возьми… – протянул ему Елферий кожаный лоскут, на котором было вытиснено каленым железом слово: «УПЛОЧЕНО», а сквозь дырку продета двусторонняя сургучная печать Приказа Большой казны с изображением весов.
– С Сергунькой-то что делать? – напомнил сотник.
– А что делать… – задумался на минуту дьяк Елферий. – В город не выпускать, а напоить его, паразита, постным маслом с простоквашей. Посадить в амбар какой, да пусть там сидит, копеечки выводит…
– Ну, а коли он, копеечки-то не глотал? – заинтересовался Тимофей, уже смирившийся с потратой.
– Ну, так и ничего, – отмахнулся стрелец. – Пронесет его, да и вся недолга… Лекарь-иноземец, что наших работничков пользует говорит, что дюже полезно для здоровья, брюхо-то чистить…
«Самому бы, лекарю-то, брюхо так почистить!» – подумал Тимоха без особой жалости к мастеру-обманщику. Потом, вздохнул тяжко и потихоньку побрел прочь.
…Вечером, тайком от Татьяны и Костки, из-за чего пришлось схорониться в нужнике, Тимофей пересчитал все, что удалось собрать. Получилось, около полутора сотен… Найти бы оставшиеся пятьдесят рублев… О том, как он будет объясняться с четой Шпилькиных, да с казначеем, Акундинов пока не думал. Авось, да чего-нибудь удумается… А сегодня, то ли, показалось, то ли – нет, но вроде бы, прошел мимо дома мужик, очень похожий на цыгана…. Да и срок для выплаты долга подходил к концу.
Уже ложась спать, Акундинов спросил у супруги:
– Ты к крестному-то давно не ездила?
– А чего это ты, про крестного-то вспомнил? – удивленно спросила Татьяна, расчесывающая волосы перед сном.
– Ну, мало ли, – неопределенно сказал супруг.
– Это для чего? – подозрительно посмотрела жена. – Я, из дому уйду, как дура, а ты, кобелина, девок непотребных в дом приведешь?
– Да ну, каких девок? – деланно возмутился супруг, хотя и знал, что рыльце-то у него в пушку…
– А то я не знаю? – фыркнула Танька. – Я, из дому ухожу, а ты, кобель, девок непотребных приводишь. И, как только, харе-то не стыдно? При живой-то жене приводить в дом всяких б, да на супружеской постели их и имаешь…
– Да, ладно тебе, – поморщился Тимоха. – Всего-то один раз и было. Ну, пьяный был, бес попутал…
Тут уж, совсем-то отпираться было глупо, потому что, все соседи помнили, как Танька гоняла однажды девку, застигнутую в постели у мужа. Вроде бы, даже косу у нее выдрала. Хорошо, что напуганная девка не стала жалобиться… Потом, с месяц, наверное, баба не допускала его к себе. И, смилостивилась только тогда, когда поняла, что если, сама не будет давать, то муж опять пойдет кобелиться…
– Один раз! – фыркнула супруга. – Как же. Один-то раз… Я что, подряжалась, простыни после твоих б… отстирывать?
– Ох, а сама-то ты, чем лучше? – вызверился на супругу Акундинов. – Да с тобой до свадьбы половина Вологды трахалась!
– А ты, ровно бы и не знал? – заорала Танька. – Но я, как под венцом-то побывала, мужу законному ни разу не изменяла!
– Да неужели? – ехидно спросил Тимофей, знавший, что от таких разговоров у него начинает просыпаться желание…
– Вот те крест, святой, – лихорадочно перекрестилась жена. – Это вы, кобели, хоть до свадьбы, хоть – после. Вам бы только, червяка своего засунуть. А я, да после свадьбы – ни в жизть бы с чужим мужиком не стала бы…
– Ну, молодец-то, ты у меня какая, – поднялся Тимофей, обнимая при этом жену, а потом, горячо зашептал ей на ухо: – Так, уж и не изменяла? Нет? Ну и дура же ты, Танька, после этого!
Супруга, попытавшись было оттолкнуть мужика, рухнула вместе с ним на постель. Тимоха, оказавшись сверху, стал целовать жене губы, щеки и нос. Танька, чуток посопротивлявшись, не выдержала натиска и, ее губы ответили на поцелуи. И, наконец, все закончилось тем, чем и должно было закончиться…
– Эх, Тимофей, – вздохнула жена, оправляя подол ночной рубахи. – Всем бы ты мужик хороший, только вот, кобель изрядный. Смотри, оторвут тебе хозяйство-то…
– А я себе мышонка пришью, – усмехнулся Тимоха, отстраняя руку супруги и принимаясь ласкать ее с удвоенной силой…
– Да, Тимка же, да подожди, – засмеялась жена, пытаясь сомкнуть ноги. – Дай дух-то перевести…
Но тот, впавший в любовный азарт и неистовство, сделать ей этого не дал и, очень скоро Танька уже сладко постанывала, подстраиваясь под его движения…
– Да ты совсем дикий стал, – едва выговорила довольная супруга, вытирая со лба пот. – Совсем меня заездил. Устала так, что глядишь, сама, скоро, к тебе девок буду водить.
– А, что, – задумчиво изрек Тимофей. – Хорошая мысля…
– Э, как же, шиш, тебе! – полушутя-полусерьезно изрекла Татьяна, пихнув его в бок пухлым кулачком. – Сама управлюсь!
– Эх, сладкая же ты баба, – вздохнул довольный супруг. – Теперь понимаю, почему к тебе вся Вологда ходила…
– Дурак ты, – ткнулась ему в плечо Танька. – Лучше скажи – чего вот в девках этих есть, чего во мне нет? Ну, я, положим, до свадьбы-то – по дурости подол задирала. А тебе-то, какого рожна надо? Дырки-то у нас – у всех одинаковые…
– Ну, Танюшка, чего уж там… – обнял жену Тимофей. – Ты ж у меня, все равно – самая баская… А если, что и где, так это я так, по дурости, да по-пьянке…
Какое то время жена лежала молча. Потом, видимо вспомнив о предыдущих словах супруга, поинтересовалась:
– Так ты чего о крестном-то вспомнил? Ведь чай, в приказе-то ты его кажий божий день видишь. Чего вдруг?
– Да так, к слову пришлось, – пытался объяснить Тимоха. – Вспомнил чего-то, что раньше то ты, с мальчонкой, чуть не каждую неделю к нему хаживала. Вот, думал, сходила бы, да спасибо бы сказала, что муж-то у тебя теперь старшим подьячим назначен. Теперь вот, – похвастался он, – можно и скотину какую-нибудь завести. А можно, работников нанимать, или – работниц.
– Работниц? – возмутилась жена. – Это, каких же тебе работниц? Опять, что ли подол задрать хочешь кому?
– Да ну тебя, к лешему, – обиделся Тимофей. – Возьми, старуху какую, что бы по дому убиралась.
– Тебе, по пьянке-то все едино – хоть старуха, хоть молодуха – все едино… – хмыкнула Танька.
– Да ладно, не бурчи, как коза непродоеная, – примирительно сказал Акундинов, хотя уже и начал злиться на супругу. Но, озлишься, так она никуда и не поедет… – Мужика найми, что бы дворник у нас свой был. Я же, как никак, старшой подьячий теперь. Выше меня – только дьяк, да сам боярин! Сама, понимаешь…
– Ну, не сердись, – пошла на попятную Танька. – Чего ж раньше-то не сказал? Я бы, пирогов напекла пшеничных.
– Да, как-то не вышло, – стал оправдываться Тимофей. – То, да се.
– А, то, да се, – хмыкнула жена. – С Коской водку пить, да по кабакам ходить – время есть! А супружнице своей законной сказать – так, не вышло… Ну, да ладно, – вздохнула она, а потом, добавила: – А к божату-то и впрямь, сходить нужно. Вот, завтра, наверное и пойду. А насчет дворника, так и верно, подумать надобно…
– Во-во, – поддакнул муж. – Что бы, дворник был свой, да что бы все, как во всех домах порядочных…
Утром, Тимоха проснулся и увидел, как Танька уже вытаскивает из печки горшок с кашей.
– Проснулся, старшой подьячий? – ласково спросила она. – Иди, умойся, да Коску свого буди, завтракать будем. Вас покормлю, а потом и мы с Сергунькой поедим. Пусть пока спит мальчонка. К крестному-то уж после обеда сходим. Надо же спасибо сказать, что тебя в старшие возвел. Как, с ночевкой можно, али, как? – вопросительно посмотрела она на мужа.
– Дак ведь, как хочешь, – усмехнулся тот. – Ежели, что, так меня и на эту ночь хватит…
– Ну, тогда я лучше у крестного заночую, – шутливо замахала баба руками. – Ты ж меня так заездил, что впору отмокать идти… А тетка Настя, давно просит придти. Говорит, скучно ей. Крестный-то – то в приказе, то у государя, во дворце, а она – все одна да одна. Старухи-приживалки, что у нее обитают, надоели, грит, хуже горькой редьки. Со мной-то, она хоть лясы поточит… Ну, а ты, на девок-то себя не трать. Завтра приду, дак и… тогось, значит… Иди – Коску подними.
Конюхов, которого Тимофей с большим трудом разбудил, опять был с похмелья. С ненавистью глядя на миску с кашей, Костка сказал:
– Эх, щас бы мне, да водочки чарочку…
– Так опохмелишься, дак и опять – цельный день будешь пелиться, – ответила Танька, но, загремев посудой, поставила перед мужиком кружку с бражкой. – На вот, выпей. Но, больше не проси, не дам.
Костка, не ожидавший такой щедрости, опешил, но жадно ухватился за края кружки. Выпив и, слегка подождав, пока живительная влага не начнет залечивать вчерашние раны, посмотрел на хозяев счастливым взглядом и высказал: «Ух ты, словно боженька босичком прошел!», за что тотчас же получил от Таньки полотенцем по башке.
– Ладно, на службу пошли, – сказал Тимофей, поднимаясь со скамьи.
– Так, а мне-то куды идти? – удивился Костка. – За мной, вроде бы, никто не присылал.
– Найду я тебе работу, найду, – успокоил приятеля Акундинов, вытаскивая того из-за стола…
… «Ночной купец», которого Костка привел вечером, не понравился Тимофею с самого начала. Был он какой-то … склизкий. Несмотря на дождь и осеннюю грязь, одет в затрепанный бараний полушубок и старые валенки, траченные молью. А куцей заячьей шапкой, так стыдно и сапоги-то чистить, а не то, что на голове носить.
Старичок, истово помолившись на образы, откашлялся и сразу же изрек:
– Тут у тебя и барахла-то, э-хе-хе, на два алтына, а гонору – на сто рублев! Ежели все скопом брать, то так и быть, десять рублев плачу. Себе, э-хе-хе, в убыток, между прочем.
Скупщик опять закашлялся и отхаркался прямо на пол, отчего Тимофея покоробило. Затирая плевки валенком, старик прокхекал:
– Я ведь, человек-то, кхе-хе-хе, сердобольный. Вижу, что парень-то ты хороший, а потому – десять рублев и предлагаю.
Тимофей, разумеется, понимал, что скупщик краденого много денег и не даст, все-таки, такого крохоборства не ожидал.
– Слушай, дядя, тут же тебе вещи-то не краденые, а законные!
– Ну, законные! – мерзко ухмыльнулся старик. – Ежеля бы, все законное было, так не ко мне бы пошел, а к купцам, али – к сидельцам в Гостиный ряд. Знаю ведь, что не твое это добро, а жинки твоей. Вдруг да, супружница недовольная будет? Возьмет, да крестному нажалобиться, а? Тогда – и тебе плохо будет, да и мне – неприятность лишняя. А за неприятность, мил человек, нужно чего-нибудь да поиметь… Так, что – хочешь, за двенадцать, так и быть, возьму. А не то, оставайся, с богом, а я, домой пойду…
– Ну, что же, – поднялся Тимофей с места. – Насильно, как говорится, мил не будешь. Извини, стало быть, за беспокойство. Тебе не надо – к другому пойду.
Видимо, такого отворота, старикашка не ожидал. Он попытался «усовестить» парня:
– Э, а куда же ты пойдешь-то? Кто же тебе, окромя меня, да столько деньжиш отвалит?
– Ну, дядя, Москва-то ведь – большой город… Таких как ты, дядька, в каждом кружале сидит…
– Ладно, так и быть, двадцать рублев за все плачу, – не глядя… Может, не стоит оно и денег-то таких. А я вишь, рискну…
– Ишь ты, не глядя, – усмехнулся Тимофей, поднимая крышку одного из сундуков и доставая оттуда кружку: – Вот, гляди. Кружка аглицкая, оловянная. Сам архиепископ Пермский и Вологодский из нее мед пил. У купцов заморских, за пять ефимков куплена. По нынешним-то деньгам, так ей цена пять рублев! Давай – двести рублев!
– Ладно, – махнул рукой старик. – Сто рублев, за все, не глядя! Из уважения к родичам архиепископским беру, да себе в убыток… Но выше – ни полушки! Ну, по рукам?
– По рукам, – кивнул теперь Тимоха, понимая, что больше-то уж ничего и не получить.
Пока Тимофей пересчитывал деньги, полученные от «ночного купца», в избе уже хозяйничали купцовы «племяннички» – звероватого вида мужички, выносившие из избы все, что в ней было. Вынимали иконы из киота, тащили сундуки с приданным, перины да подушки, а потом, оторвали от пола Танькину гордость – кровать с точеными ножками, да резной костяной спинкой, которую дед заказывал аж в Холмогорах! К тому времени, когда Акундинов ссыпал выручку в кожаный мешочек со всеми деньгами, в доме остались только русская печь, лавки да стол…
– Ну, прощевай, теперя, да добра наживай, – попрощался старикашка, а потом вдруг сказал: – Там, под печкой-то у тебя, сабелька еще осталась. Я-то ее брать не стал – к чему она? Продать-то ее не продашь, надпись на ней… А ты, соломки, что ли, принеси пока, – «посоветовал» скупщик, уходя, – все хоть, в избе-то не так пусто будет.
К Тимофею, грустно сидевшему на лавке, подсел пьяный Костка.
– Да ладно, тебе, – попытался утешить он друга. – Что есть деньги? Это так, пыль. Может, за водочкой сбегать? – выжидательно спросил он.
– Сбегать, – согласно кивнул Тимофей.
– Так ты, это, копеечку давай. А лучше – две с половиной. На водку да на закуску. А то ведь, антихристы-то эти, они же ведь все подчистую вынесли. Даже, – вздохнул мужик, – кадки с огурцами уволокли. Теперь у тебя и морковки завалявшейся не найти. Я вот, только, что и успел, как шмат сала спрятать.
«Ладно, – думал Тимофей нелегкую думу, пока Костка бегал за водкой. – Главное сейчас – долг отдать, да грамоту кабальную обратно заполучить! А там, как-нибудь, да перебедую»
… Утром, чуть свет, когда Костка и Тимоха еще спали прямо на голых лавках, укрывшись уцелевшими тулупами, раздался стук в ворота.
Тимофей, злой и сонный пошел открывать двери. За воротами стоял взъерошенный Васька Шпилькин, переминавшийся с ноги на ногу.
– Ты чего это, в такую-то рань? – угрюмо спросил Тимофей.
– Так ведь потом-то, на службу идти, – повинился Васька и пояснил: – Я ведь чего, прибег-то. Людке-то моей, тетка соседская, у которой муж в купцах на Гостином дворе, сказала, что продал, дескать, какой-то мужик, ожерелье. А жемчуга, ну, тютелька в тютельку, как у нее. Вот, мы-то с Людмилой, конечно, не верим, но все-таки…. Ты бы, Тимоша, вернул бы нам ожерелье-то это. Купец аглицкий, коли приедет, так и без жемчугов обойдется. Чего он, ожерелий, что ли не видал? Пока-ка, в землях-то ихних еще и не то есть.
– Таньки дома нет, – хмуро ответил Акундинов. – Жемчуга-то я ей дал, для сохранности. А она их куда-то так успрятала, что без нее и не найти. Подожди, к вечеру вернется от крестного, так я сразу и принесу….
– Ну ладно, – вздохнул слегка успокоившийся Василий. – Так Людмиле и скажу. Мол, Тимофей обещался вечером принести…
Акундинов, прямо с утра, доложившись дьяку, что живот у него прихватило, отпросился домой. Редькин, хоть и поворчал для приличия: «Часто, мол, болеть начал!», но отпустил. Тимофей же, тщательно пересчитав все двадцать тыщ копеечек, уложил их в кожаный мешок. Судя по весу, было тут примерно с полпуда…[6]
Зайдя в кабак на Неглинной, Тимофей поискал глазами цыгана или Федота, но, не нашел. Подойдя к целовальнику, спросил:
– А где, друзья-то мои?
Тот, даже не стал делать вид, что ничего не знает и, никого не помнит, сразу же провел парня в чистую половину, в ту, знакомую каморку…
– О, да кто к нам пришел? – радостно закричал Федот, распахнув объятья. – Да, никак, сам старший подьячий?
Цыган, сидевший тут же, спросил только:
– Долг принес?
Когда Тимофей выставил на стол мешок, уважительно сказал:
– О, ром, молодец! Вижу, долги свои честно отдаешь.
– Купчая, где? – протянул Тимофей руку. – Давай, купчую!
– Будет, будет тебе купчая, – радостно сказал Федот. – Но, нужно же вначале деньги счесть. Правильно?
Тимофей присел, полуприкрыв глаза. Когда копейки уже были выложены на стол, из зала вдруг раздался шум, а в каморку вбежал хозяин, с криком: «Стрельцы идут, прячьтесь».
Акундинов, поднявшийся с места, не понимал – чего это цыган и Федот вдруг вскинулись, но спросить об этом он не успел. Федот, схватив его за руку, вытащил из трактира каким-то другим ходом. Пройдя закоулками и оказавшись среди совсем уж незнакомых развалин, цыган и Федот с облегчением вздохнули.
– Ну, оторвались, слава Богу! – перекрестился Федот.
– Слушай, а чего мы бежали-то? – удивился Тимофей. – Ну, пришли бы стрельцы, да так же бы и ушли. Чего бегать-то было?
– Тебе-то, может, ничего. А нам…
– Мужики, купчая-то моя где? – опять спросил Тимофей.
– В трактире осталась, там же, где серебро твое, – огрызнулся цыган. – Не с собой же нам грамотки-то носить?
– Ну, а я как же?
– Да не беспокойся ты, – принялся ворковать Федот. – Сейчас вернемся, деньги досчитаем, да все тебе и вернем. Мы ж люди-то честные!
Выждав какое-то время, мужики вернулись в трактир. Только, шли теперь не «черным» ходом, а обычным. В трактире никого не было. Один лишь целовальник, завидев вошедших, горестно сказал:
– А серебро-то, тю-тю!
– Как – тю-тю? – схватил его за грудки Федот.
– Да так, – объяснил целовальник. – Стрельцы пришли, да по каморам и разошлись. В вашей-то, прямо на столе серебро-то и узрели. «Чье?» – спрашивают. А я – плечами пожимаю. Ну, а что я должен сказать? Был де, подьячий, что в кости проигрался? Вот, они тогда и говорят – раз ничье, пусть в казну и отходит.
– Вот, так-то вот, – грустно сказал Федот, обращаясь к Тимофею. – Стало быть, плакали твои денежки…
– Почему – мои? – обмирая, спросил Тимофей. – Я же их вам принес.
– Ну, мало ли что, что принес, – вздохнул цыган. – Нес-нес, да не донес. Мы что, виноваты, что стрельцы пришли? Так, что, извиняй парень, а долг-то весь этот на тебе так и остался. У нас – все по-честному…
– Э, мужики, да вы чего? – опешил Акундинов. – Да как же так? Я ведь, почитай, за каждую копейку из шкуры вывернулся.
– Ну, а нам-то какое до этого дело? – равнодушно спросил Федот. – Ты деньги проиграл? Проиграл. Купчую подписал? Подписал. Ну, а деньги-то где? Нету, денег-то…
– Ах ты, сволочь, – бросился Акундинов на Федота, но был сразу же остановлен цыганом и целовальником.
– Ну, какой же ты горячий, – усмехнулся «торговый гость» и ударил Тимоху под дых. – Успокойся, да и послушай. Деньги, что проиграл – нам вернешь. Нашел же двести? Значит, найдешь еще… Ну, а то – сам знаешь, что будет… Я ведь, грамотку-то кабальную на тебя, любому боярину продам, не поморщусь. И что ты думаешь, не купят? Еще как купят… Холопы грамотные, они, кому хошь нужны…
Тимофей, возвращался домой, не разбирая дороги. Дойдя до жилья, упал прямо на пол и зарыдал, как ребенок. Перепуганный Костка бегал вокруг и не мог понять – что же такое случилось! Предлагал для друга и водки и водички, но все было тщетно. Тот же, прорыдав почти всю ночь, к утру успокоился и принялся думать. Думал – передумал и о своем горе и, о своей глупости. Ну, а самое главное, ему не давали покоя те стрельцы, что забрали серебро. Что-то тут было не так. Заснул Тимофей только под утро, забывшись коротким сном. Но, уже на рассвете, он принял решение…
Коске было велено найти пару коней. Где он должен был их искать, Тимоха уточнять не стал. Но все же, памятуя, что батька у друга до сих пор служит то ли конюшенным, то ли стремянным, знал, что тот лошадей найдет. Так оно и вышло. Через полчаса во двор прибыл Костка, ведя на поводу двух превосходных коней.
– Тимоша, а ты что удумал-то? – опасливо спросил друг, глядя на то, как Акундинов верти в руках отцовскую саблю.
– Да, так вот, разминаюсь, – неопределенно ответил Тимофей, рассекая крест-накрест воздух. – Сабля, понимаешь ли, давно лежит. У а чего ж она ледит-то?
Рука, взявшаяся за рукоятку, сразу же вспомнила уроки, которые стрелецкий десятник Демид Акундинов давал своему сыну. Батька-то, Царствие ему небесное, думал, что и сын пойдет по его стопам! Ан нет, не вышло.
От долгого лежания под печкой клинок поржавел, покрывшись бурыми пятнами, а острие было как край гребешка – все в мелких щербинках. Но после чистки и правки, старая сабля, кованная кузнецами из Устюжны, заблестела. Уломское болотное железо – это, конечно, не булат. И, даже не немецкая сталь. Некрасивое оно, да неказистое. Зато – отменно прочное и надежное. Может, волосок на лету или, лозу с оттяга, Тимоха и не сумел бы перерубить, но руку-ногу – запросто!
Спрятав саблю в ножны, а их, подсунул под подпругу так, что бы со стороны не было видно. Иначе, первый же стрелецкий караул прицепится – а с кем это парень, судя по виду, приказной, воевать собирается?
– Поехали, – коротко приказал Тимофей другу, забираясь в седло.
Ехать было недолго, но, на всякий случай, Тимофей сделал вокруг кабака пару кругов. Узрев, что ближайший стрелецкий караул стоит сейчас около бани, да точит лясы с бабами, выбегавшими из парной, развернулся и поехал обратно… Когда показался все тот же кабак, Акундинов, спешившись и, помогая слезть Коске, принялся наставлять друга:
– Зайди вовнутрь, да скажи целовальнику – Федота да цыгана, на улицу просят. Кто просит – ты не знаешь. Мужик, дескать, какой-то… Сказал только, старый, мол, друг, что деньги вчера не донес, вдругоряд долги отдать хочет. В кабак, де, войти ему никак неможно…
– Тимоша, да ты чего, лошадок, что ли отдать собрался? – испугался Конюхов. – Так батька же, коли узнает, меня со свету сживет. Это же кони самого боярина Телепнева, которому царь-батюшка разрешил их в дворцовую конюшню поставить, пока князь в отъезде. Я уж и так боюсь, что увидит, коней-то кто-нибудь…
– Не боись, – подтолкнул Тимофей друга, а сам, взяв коней под уздцы, повел их за угол, где глухая стена кабака смыкалась с задней стеной чьего-то сарая.
Там никого не было, кроме пьяной побродяжки, спавшей на куче мокрой и, слегка заснеженной соломы. Снег нынче пошел раненько, зато прикрыл всю осеннюю грязь. Судя по задранному подолу, бабой недавно кто-то попользовался… Глянув на широко разведенные ноги и мощный «подшерсток» между ними, Акундинов ощутил желание. «Эх, надо было сказать Конюхову, что бы не торопился, – с досадой подумал Тимоха. – А, может, еще и успею?» Э нет, Костка был легок на помине…
– Щас, выйдут, – доложил он, равнодушно глянув на бабу, а потом спросил: – А может, я пока в кабаке, посижу?
– Перебьешься, – отказал было Тимофей, а потом, передумал: – Ты лучше, вот что сделай. Купи у целовальника пару бутылок, только, пусть он их не в скляницах, а в кожаных флягах даст. Но, – пригрозил он, – если, хотя бы чарку примешь – собственноручно убью!
Конюхов, заполучивши копеечки, радостно убежал. Тимофей, выглядывая из-за угла, увидел, как идут к нему цыган да Федот.
– Ну, никак должок принес? – весело спросил цыган. Углядев пьяненькую бабу, засмеялся: – А чо, уже и Катьку успел поиметь? Ну, молодец! Только, ее бы лучше трезвую драть… Пока пьяная, она ж ни хрена не соображает, а вот, как трезвая – то лучше курвы во всей Москве не найдешь…
Федот, отстранив цыгана, деловито спросил:
– Коней, что ли за долг-то отдаешь? Где украл? Думаешь, хватит долг-то покрыть? Ромка, глянь лошадок-то…
– Может, и украл, – согласился Тимофей. – Но за коней я немного – сто рублев прошу. Остальное, вот, – показал он на сумку, привьюченную к седлу.
– Ну, давай, – протянул руку Федот.
– Грамотку покажи, – потребовал Акундинов. – Если с собой нет, то и разговора нет. И, хрен тогда с вами – продавайте меня, кому хотите! Только, я сразу к боярину пойду, да расскажу ему, что тут, на Москве-то творится. Мне ведь, мужики, терять-то уже нечего!
– А что так? – полюбопытствовал цыган, с довольным видом осматривающий лошадей.
– Беглый я теперь, – объяснил Акундинов. – Где же мне деньги-то было взять? Вот, в приказе и украл. Так, что – грамотку давай!
– Да, ладно, – успокоил его Федот, доставая из-за пазухи смятую и засаленную бумажку. – Хочешь, порву?
– Не! – усмехнулся Тимофей. – Ты ее в руки мне дай. А не то, порвешь чего-нить не то, а потом и скажешь: «Вот, грамотка-то на тебя кабальная! Плати».
– Чего же ты нам так не веришь-то? – с деланной обидой спросил Федот, однако же, снова залез за пазуху и вытащил оттуда другую бумажку: – Твоя. Мы – люди честны!
Акундинов посмотрел на купчую. Точно, она самая, с его собственной, корявой по пьянке, подписью и корявыми же подписями-крестами видоков.
– Ну, деньги-то дашь? – требовательно спросил Федот, по-прежнему протягивающий руку.
– Да вон, в сумке-то и бери, – кивнул на седло Косткиного коня, а сам, между тем, вытаскивал из-под подпруги ножны…
Федот принялся развязывать тесемки, а Акундинов, спросил вдруг:
– Слышь, Федот, а атаман-то в шайке ты, али цыган?
– Ну, а тебе-то, что за корысть? – усмехнулся тот, кажется, даже и довольный тем, что в нем признали атамана.
– Да так… – хмыкнул Акундинов, – А стрельцы-то на самом деле были, аль нет?
– Были, да сплыли, – неопределенно ответил атаман, забираясь в сумку и, обнаруживая, что она пустая, изменился в лице: – Ты что, сволочь, позабавиться вздумал? Я те щас позабавлюсь, гаденыш. Кровью ссать будеш! Деньги где?
– Да тута они, – улыбнулся Акундинов, обнажив саблю и делая первый взмах…
Цыган умер первым. На него, жулика и прощелыгу, особой злости не было. Ну, с него-то что взять? Тимоха, взмахнул клинком и чиркнул кончиком сабли под черной кудрявой бородкой… Ром-Роман осел и захрипел, пытаясь закрыть руками широкую рану, из которой полилась кровь, заливая дорогую шелковую рубаху…
Атаман, кажется, не сразу и понял, что его будут убивать. Он, отступил чуток, улыбнулся и заискивающе спросил:
– Ты че, парень? Тимоша… Да мы же с тобой пошутковали малость, вот и все… Ну, не вернул бы ты деньги, никто бы тебя в холопы не стал продавать. Это ж мы так, для отстрастки… Ну, не принес бы ты деньги, так мы бы все обговорили, да миром бы порешили… Ну, нечто мы не люди крещеные?
Глазенки Федота, между тем, бегали и, опасаясь, что бы тот не ударился в бега, Тимофей рубанул его саблей по выставленной коленке. Атаман, завопив дурным голосом, упал на свежий снег, пачкая его кровью…
– А ну, замолчи, сука! – приказал ему Тимофей, рубанув по второй ноге… – Никшни, сволочь…
Атаман послушно замолчал, потом, поскуливая и, оставляя за собой колею в мокрой от дождей и снега земле, пополз. Тимофей, нагнав его, ударил каблуком в спину, заставив остановиться, а потом, двумя сильными пинками в бок, перевернул на спину.
– Больно? – спросил Тимоха, заглядывая в глаза раненому. – Ну, а как ты-то меня бил, вспомни… Мне-то, не больно было?
– А-а, – закивал тот, глядя глазами, полными слез. – Прости ты меня, Христа ради! Ну, крест целовать буду, холопом твоим стану!
– Вишь, до чего же вы меня довели-то, паскуды! Был ведь, добрый человек. Приказной. В почете, да в уважении. А теперь? Тать и убийца…
– Тимоша, отпустил бы ты меня, Христом Богом прошу, – преданно заскулил раненый. – Я тебе весь проигрыш возверну. Вот те, истинный крест!
Федот, вскинув было руку, попытался сделать крестное знамение, но Акундинов, рубанул теперь по обоим пальцам …
– У-у-у, – протяжно застонал тот, не смея кричать, видимо, еще на что-то надеясь…
– Стало быть, возвернешь? – улыбнулся Тимоха нехорошо. – Ну, возворачивай…
– Так ведь, деньги-то на дуване сейчас, – обрадовано заголосил Федот, пересиливая боль. – Ты бы, людей позвал… Перевязать бы меня, а не то ведь, на кровь изойду…
– Сейчас позову, – хмуро пообещал Акундинов и, слегка развернувшись, воткнул клинок в живот мужика. Тот, вытаращив глаза, захлопал ртом…
– Ну, ладно бы вы меня обыграли, – глядя в глаза умирающего, проговорил Тимоха. – Хрен с ним, кости воровские подсунули… Ладно, сам виноват, раз играть с жуликами сел. Ладно, обыграли дурака так, что он последнюю рубаху вам отдал… Так зачем же было во второй-то раз обманывать? Ну, откуда ж такая сволочь-то берется?
– Попа… – едва простонал Федот, изо рта которого уже потекла кровь, – попа приведи, покаяться хочу, перед смертью… Приведи, а я – никому не скажу, что это ты меня…
– Не попа тебе, а по́пу! Задницу! Как собака худая, без покаяния умрешь, – зло улыбнулся Акундинов.
«Каяться он будет, как же! – злобно подумал Тимофей. – Так вот, нагрешат, да покаются, да все грехи спишут! Нет уж, без покаяния, да без причастия обойдется!»
– Ну, хоть сам, что ли, исповедь-то прими, – настаивал раненый, пытаясь схватить Тимофея за ногу. – Виноват я перед тобой, обмануть хотел…
– Так значит, не было стрельцов-то? – усмехнулся Акундинов, одной рукой придерживая саблю, а второй – обшаривая одежду у мужика.
– Прости…
– Прощу, – пообещал Тимофей, вытаскивая из живота саблю и вытирая лезвие о нижнюю рубаху раненого. – Если скажешь, где деньги схоронил…
– Деньги… – начал раненый, но завершить фразу не успел… Кровь, шедшая тоненькой струйкой изо рта вздулась вдруг пузырем, а потом – пузырь опал и, кровь перестала течь. Зрачки Федота, расширились и превратились в мутное стекло, в котором отразились первые вечерние звезды…
– От, ведь, сволочь, какая! – выругался Тимофей, пнув безжизненное тело ногой. – И, помереть-то, как следует не сумел!
– Ой, Тимоша, да что же ты наделал-то? – послышался голос Коски, появившегося из-за угла с двумя кожаными флягами в руках. – Ох, ты, господи, да что же теперь будет-то?
– Заткни хлебало да не причитай, – оборвал его Акундинов, обшаривая тело цыгана и снимая с того широкий кожаный пояс, в котором что-то позвякивало. Потом, снял с атамана кожаную кису.
– Тимоша, да как же ты так? – продолжал скулить Костка, прижав к себе фляги, будто младенцев.
– А так… – хмуро обронил тот, ссыпая в собственный кошель добычу, которой, было, негусто – штуки три ефимка, да рубля на два чешуек. Потом, немного подумав, развязал свой кафтан и повязал вокруг рубахи пояс цыгана – очень уж удобный и, незаметный!
– Скажи-ка, целовальник-то там один, али – нет? – спросил Акундинов. – Много народу-то в кабаке?
– Порядочно, – ответил приятель. – А, на кой тебе?
– Да теперь уж и незачем. Хотел, было, с кабатчиком-подлецом еще поквитаться, но – не судьба. Пусть живет, паскуда! – выдохнул Тимофей, подходя к побродяжке, которая, так и продолжала спать. – Костка, бабу хочешь?
– Да ты, что Тимоша, какая баба? – остолбенел тот. – Бежать нам нужно! А, если зайдет кто?
– Эт-то, точно, – с сожалением согласился Тимофей, отворачиваясь от женщины. Но та, на свою беду, решила проснуться.
– Парни, а чё тут деется-то? – приподняла пьянчужка голову и обвела двор мутным взглядом. Увидев тела, заорала хриплым с перепоя голосом: – Ой, лихоньки!
– Ах ты, курва, старая, – мгновенно повернулся Акундинов к бабе, хватая ее за горло. – Молчи, дура!
Насмерть перепуганная баба утробно пискнула и вытаращила глаза.
– Так вот, молча и лежи… – буркнул Тимоха, отпуская бабу. – Смотри у меня… – показал ей кулак, – язык выдеру!
Та продолжала таращиться, напустивши от испуга лужу…
– Да ладно, – примирительно сказал Костка, подходя поближе. – Никому она не скажет.
– Ну, живи, тогда, – разрешил Тимофей, отходя от бабы. Подобрав саблю, стал чистить ее о кафтан убитого Федота.
Побирушка успокоилась, решив, что убивать ее не собираются:
– Не боись, парни. Никому ни словечка не скажу, – пообещала она. – Я, как рыба об лед… Ничего не видела, ничего не слышала и, знать ничего не знаю… Только, – умоляюще попросила она, – поднес бы ты винца зелененького. А то, что-то мне совсем тошно.
– Поднесу уж, – согласно кивнул Акундинов и велел Конюхову: – Дай ей хлебнуть…
Костка, откупорив фляжку, подал ее бабе. Та, с довольным видом присосалась к горлышку и сделала один длиннющий глоток, потом, второй, третий…
– Хватит, хватит, – забеспокоился Конюхов, отбирая баклагу. – Ишь, присосалась-то, как пиявка к голой жопе.
– Хлебнула? – спросил у бабы Тимофей. – Куда же в тебя и влезает?
– Ух, красота! – довольно заулыбалась пьянчужка, показывая редкие зубы. – Теперь, можно бы и мужичка… Как, парни? Может, еще глоточек дадите, дык я бы вам обоим и дала…
У Акундинова, от одного вида ее щербатой пасти с гнилыми зубами, всякое желание улетучилось.
– Да, пошла бы ты… полем, да через ясный пень… – буркнул он.
– Ты, Тимошенька, мной-то не гнушайся, – захихикала баба, – а то, гляди, потом-то, может и такой у тебя бабы не будет. Вспомнишь меня, Катюху-то, сла-а-день-кую!
– Вспомню-вспомню, – кивнул, было, Акундинов, уходя, но спохватился. – Имя-то мое, откуда знаешь?
– Дык, когда пил ты давеча, с Федотом, дык и услышала, – преданно посмотрела пьяная шлюха. – А потом, что было, не помнишь, разве? Я же тебя, хи-хи, когда ты в кости-то продулся, вместе с Федотом да цыганом и удоволивала. Ты, не сумлевайся, я молчать буду, особливо, если ты мне еще глотнуть-то дашь. Хошь, на кресте поклянусь?
– Ну, поклянись, – согласился Тимофей, напрочь, не помнивший – когда это они успели «удоволиться»? – А крест-то у тебя есть? Али, пропила?
– Да как можно-то? – возмутилась женщина. – Вот, гляди, – вытащила она из-под ворота крест на кожаном ремешке… Вот, мол, крест святой, что никакого убивцу Тимошку-приказного я не видела! Поклястся, а?
Кажется, бабу, «догнало» с пары-то глотков и, теперь она уже не соображает, что говорит. Да такая клятва – хуже любого оговора!
– Дай-ка, крест я твой гляну, – наклонился к ней Акундинов и, взяв ремешок обеими руками, потянул на себя, затягивая его на прыщавой, давно не мытой шее…
Душить Тимофею еще не приходилось. Потому, баба захрипела, задергалась и вцепилась зубами в его руку. А тут еще и придурок, Костка, – подскочил и стал оттаскивать друга от бабы, отчего прелый ремешок натянулся, как струна, а потом лопнул…
Недодушенная баба упала на спину, откашливаясь и отплевываясь. Конюхов, не удержавшись на ногах, повалился на спину, увлекая за собой Акундинова. Разъярившийся Тимоха, вырвавшись из захвата приятеля, обернулся и ударил того кулаком в зубы. Потом, озлившись, выхватил саблю и, полоснул клинком по бабе один раз, потом другой, третий…
– Тимоша, Тимоша! – испуганно кричал Костка, хватая его сзади поперек туловища. – Опомнись, да что же ты творишь-то? Ты же ее насмерть, уделаешь!
Акундинов, попытался стряхнуть с себя друга, но тот держался, как клещ. А не удержался бы, так еще и неизвестно – а не полоснул бы и его, в горячке?
– Ладно, ладно, – забормотал Тимофей, успокоившись и уронив саблю. – Все!
Костка помедлил, но руки разжал. Потом, не замечая разбитого рта, проворно пробежал по дворику и выглянув за угол, стал подбирать фляги:
– Утекать надо! И, побыстрее, пока кто-нибудь не нагрянул! Стрельцы зайдут, да увидят такое, так они и спрашивать не будут, а просто возьмут, да и пальнут в нас обоих! – Дай-ка, сюда, – взял Акундинов одну из баклажек и, основательно приложился.
– Тимоша, ну, давай же быстрее. Увидит кто! – в нетерпении перебирал ногами Костка, торопя друга до тех пор, пока тот не прыгнул в седло…
Оставив лошадей во дворе, приятели вошли в избу и уныло расселись по разным лавкам. Осенью вечер наступает быстро и, очень скоро, за слюдяным окошечком стало темно.
– Зябко, чего-то, – поежился Конюхов. – Может, печь истопить?
С утра, ни тот, ни другой не соизволили это сделать.
– Топи, – равнодушно отозвался Тимофей.
Константин сбегал во двор, притащил охапку поленьев и быстро разжег печку. Сразу же стало веселее. То ли – от тепла, то ли от – света пламени, то ли – от гудения в трубе…
Костка, присевши около устья, стал любоваться пламенем, подкидывая, время от времени поленья. Друзья молчали…
– Тимоша, а у тебя весь кафтан в крови, – прервал молчание Конюхов. – Теперь ведь, и не отстирать…
Акундинов, молча снял с себя кафтан и, особо не раздумывая, бросил его в огонь. В избе сразу же запахло паленой шерстью.
– Ты чего это? – удивился Костка. – Крепкая одежа-то…
– А, на хрен, – отмахнулся Тимоха. – Кафтан-то старый, отцовский. В сенях висел, на гвозде. Уж не знаю, как хмырь-то его не углядел. Мой-то, тут, под лавкой лежит. Этот-то я нарочно надел, что бы выбросить, если, что…
Акундинов вытащил собственный кафтан, встряхнул его и надел на себя.
– Ух ты, а хитер-бобер! – восхитился Костка. – Я бы до такого не додумался…
– Ладно, – вздохнул Тимофей. – Тащи фляжку, что ли. Выпьем – за упокой душ, убиенных.
Когда сели за скудный стол, налив водку в уцелевшие щербатые кружки и молча, не чокаясь, выпили. Конюхов, захрустев луковицей, обнаруженной в углу, спросил:
– А бабу-то? Может, не стоило убивать-то? Жила бы себе, пьянчужка, да жила… Чего ты ее сразу, душить-то кинулся? Да еще и мне, вроде бы, зуб вышиб, – вспомнил вдруг Конюхов и, сунул палец в рот. Внимательно перетрогав все зубы, радостно сообщил: – Не, не вышиб! Так, расшатал только, так ничего, врастет!
– Думаешь, не разболтала бы баба? – хмыкнул Тимоха.
– Ну, а коли, и разболтала бы, – попытался поспорить Костка. – Кто бы ей, пьяной-то б… поверил? Да с ней бы и разговаривать-то никто бы не стал… Хотя, – задумался он. – Ежели бы, ее на дыбу вздернули, да вдругоряд по три кнута, то и поверили бы… Так это, – укоризненно мотнул он давно не чесаной башкой, – ежели, сама бы она в Разбойный приказ пошла.
– Дурак ты, Константин Евдокимыч, – беззлобно выругал Тимофей друга.
– А чего, сразу дурак-то? – обиделся Костка, уязвленный непривычным обращением с «вичем».
– Ты что, о шайке-то Федотовой забыл? Они же, на мертвяков-то на своих наткнуться, да искать будут – кто же атаманов-то порешил? Не токмо бабе пьяной, а лешему в шерсти поверят.
– Это точно. Нас бы с тобой и в Разбойный приказ бы никто не повел, – пригорюнился Конюхов. – Так бы зарезали бы, да под забором бы где-нить и схоронили… Да ладно, если бы только зарезали. А то, изувечили бы, а уж потом и прибили, а ошметки бы на помойку выкинули, псам на радость…
– А ты-то тут при чем? – удивился Тимофей. – Ты, что ли, атамана-то рубил?
– А вот теперь – ты, дурак, Тимофей Демидыч, – фыркнул Костка. – Они, что, разбираться бы стали? Кто, цыгана-то с Федотом из кабака вызывал? Ась? Или, не узнали бы они, что я у тебя в доме живу? А где ты – там и я.
Крыть было нечем. И впрямь, никто бы разбираться не стал…
– Давай-ка, еще по одной, да на боковую, – скомандовал Тимофей, не слушая просительного вопля Конюхова. Пить ему сегодня больше уже и не хотелось. Да и вообще, ежели, разобраться, то все беды у него шли как раз от той злополучной чарочки, которую он выпил в кабаке. Ну, ладно, пусть не одну… Как же бы вообще, бросить-то это дело? Ну да, зарекалась ворона, навоз клевать, но до сих пор клюет…
Утром, хмурый Константин стал клянчить чарочку на опохмелку. Тимофей, взяв в руку флягу, стоявшую на столе, побулькал. Пусто! А помнилось, что когда укладывались спать, то оставалась еще половина…
– Вот этой бы баклажкой, да по сусалам тебя! – оскалился Тимоха на друга. – На хрен, все выжрал-то?
– Ну, так уж вышло, – заюлил Костка. – Ты, спать ушел, а мне, не заспалось чего-то.
– Вот, спать и надо было, а не водку пить…
– Да тут, собака зашла. Я ночью-то во двор вышел, до ветру, значит, а она сидит, смотрит. Черная такая, страшная…
– Подумаешь, – с недоумением глянул на друга Тимофей. – Зашла себе и зашла. Мало ли, собак бездомных на Москве, шастает? Зима скоро начнется, так поменьше будет.
– Ну, Тимоша, а откуда она взялась? – пристально посмотрел на друга Костка. – Если, во дворе у нас – ни дырки, ни щелки. Весной еще Танька новый забор велела поставить. Так там, ни то, что собака, а кошка не пролезет. А ворота я, самолично, на ночь запирал…
– Ну, значит, щель осталась. Или – ворота неплотно запер, с пьяных-то глаз.
– Да нет, – покачал головой Конюхов. Потом, помедлив слегка, процедил: – Я ведь эту собаку, видел. Ты, когда бабу-то собрался рубить, она из-за угла вышла. Я-то испужался – думал, псина пришла, а следом – хозяин идет. Ну, думаю, залает сейчас. А она, падла, только зубы оскалила, словно бы ухмыляется!
– Ты че, Костка? – нахмурился Акундинов. – Совсем, что ли допился? Где ты там собаку-то видел? Может, скажешь еще, что по двору нашему черти с вилами бегают?
Сказать-то сказал, но от Коскиных слов и самому стало как-то не по себе. Для очистки совести Тимофей вышел во двор. За ночь он покрылся свежим снежком, который к обеду должен стаять, но пока еще был ровным и, почти что нетронутым.
Акундинов осмотрел снег, но, углядев только следочки от птичьих лап, успокоился и вернулся в избу. «Сам виноват, – решил Тимофей. – Надо было флягу подальше прятать…»
Конюхов, сидел перед столом и раскачивался на скамейке, ровно юродивый. «Как бы он, неопохмеленный-то, не помер», – пожалел дурака Тимоха и, вытащив вторую, непочатую баклажку, налил другу полную кружку.
– Тяни, как хошь, – строго сказал он другу. – Но больше не дам!
– Ага, – радостно отозвался Костка, цедя водочку сквозь зубы, с каждым глоточком забывая о страшной собаке…
«Вот ведь, не было печали», – подумал Тимофей, озабоченно глядя на Коску. Сам он пить не стал и, как оказалось, правильно. Со двора вдруг раздался требовательный стук в ворота.
– Эй, Тимофей, сын Акундинов, открывай! – зычно крикнули с улицы.
– А че случилось-то? – спросил Тимофей, подходя к воротам.
– Ты, открывай, давай! А не то – ворота высадим!
Акундинов, трясущимися руками открыл калитку и во двор прошли двое стрельцов.
– Так что случилось-то? – робко спросил он.
То, что стрельцов было двое и то, что они на него не набросились и не стали вязать, обнадеживало. Ну, а кроме того, Тимофей знал, что ежели стрельцы пошли бы забирать тата, али, душегуба какого, то хотя бы у одного из них пищаль была бы в руках. А тут – ни пищалей, ни бердышей, а только сабли.
– Ну, это не наше дело, – хмыкнул один из стрельцов. – Ты, собирайся, давай. Нам тебя велено в Разбойный приказ доставить, а не разговоры водить.
– Слышь, мужики, а может, по чарочке пропустите? – робко предложил Тимоха. – У бати, у моего, царство ему Небесное, день поминовения сегодня. Батя-то мой, в стрельцах служил, пока ногу не искалечили.
– А где батька-то служил? – с интересом спросил тот из стрельцов, что был постарше.
– Вначале, с князем Пожарским ляхов гонял, а потом – в Вологде, в Таможенной избе десятником был. Тати на них напали, хотели казну отбить, где сборы таможенные, от купцов взятые, лежали. Отбиться-то отбились, да один из татей батьке по коленке топором засадил. А вот, как батьку-то искалечили, так никому он и не нужен стал, – чуть не пустил Тимофей слезу, горюя о батьке. – Вы, может, хоть в дом войдете?
Стрельцы переглянулись и кивнули. Потопав в сенях ногами, что бы сбить снег, вошли. Повернувшись к красному углу, с удивлением обнаружили, что в иконостасе только одна икона, хотя пустых полочек много… Перекрестившись, излишних вопросов задавать не стали. Может, съезжать собрались?
– Ну, да за такого-то мужика, да не грех и выпить, – кивнули оба стрельца, принимая из рук отрезвевшего Конюхова кружки.
Выпив, стрельцы сразу же подобрели. А старший, отказавшись от добавки, сказал:
– Тут, Васька Шпилькин на тебя челобитную написал в Разбойный приказ.
– «Фух ты», – с облегчением перевел дух Тимофей и спросил:
– А челобитная-то из-за чего?
– Да, грит, ожерелье ты у него взял, да и не вернул.
– Ну, Васька, ну прохвост, – покрутил головой Тимофей, – а еще – друг называется. А врать, дак как корова жрать! Сам же меня и попросил, что бы я евонное ожерелье продал! Да у меня и видок на это есть. Да, Костка?
– Угу, – согласился Конюхов, даже не понимая – в чем тут дело.
– Ну, ты тогда и видока своего бери. Он у тебя заместо ябедника[7] будет! – присоветовал старшой. – А не то ведь, Васька-то, он, как-никак, сам в Разбойном приказе служит. Ну, да ничо, кляуза-то у Никифора. Он, хотя и молодой еще, но мужик справедливый.
… В Разбойном приказе, который москвичи, да и все прочие русские люди не очень-то любили, но уважали, народу было немного. День-то еще только начался. Стрелецкие караулы бродили по Москве, собирая порезанных, задушенных и прочих, умерших не своей смертью, а жалобщики и кляузники еще только-только шли на прием к дьяку, или к самому боярину. Посему, Тимофея и Костку стрельцы привели к старшему подьячему Никифору Кузьмичу.
Подьячий, годами, чуть старше Тимофея, сидел на лавке, в конце длинной, как гроб, комнаты. В углу, неподалеку от него, зевал писец, разложивший на столе бумагу и перья. Васька Шпилькин, как истец, отирался возле своего старшого.
– Кто из вас Тимоха Акундинов? – спросил подьячий, грозно сверкнув очами.
– Я, – скромно ответствовал Тимофей. – Тимофей Демидов, сын Акундинов.
– Челобитная на тебя. Василий Григорьев, сын Шпилькин, говорит, что ожерелье ты у него украл. Что рассказать можешь?
– Украл? – удивился Тимофей. – Это как же так я у него украл, ежели, он сам мне его в руки подал?
– А, стало быть, отпираться не будешь! – радостно вскинулся Никифор, подмигивая Ваське. – А ты боялся – отопрется, мол, да отопрется!
– А чего отпираться-то? – пожал плечами Тимофей. – Василий собственноручно мне это ожерелье дал. Вот, так вот, из рук в руки, глаза в глаза. Все по добру да по согласию было…
– По добру да по согласию Васька и дал… – захихикал писец, а остальные мужики, поняв двусмыслицу сказанного, захохотали.
– А ну, молчать всем! – рыкнул старшой, которому и самому было смешно, но, служебное положение обязывало быть серьезным и грозным!
– Ну, а чего ты ожерелье-то обратно не отдал? – встрянул и Васька, уязвленный хохотом. – Ты, уж прости меня, Тимофей, но сам же пообещал, что к вечеру – отдашь. Я, весь вечер тебя прождал, не дождался. Так что, не обессудь.
– Ну, так чего скажешь? – насупился и подьячий. – Чего не отдал-то? Или, к боярину тебя отправить, что бы тот батогов приказал дать?
– А как я его отдать-то могу, ежели, я его продал? – с удивление спросил Тимофей.
– Как это, продал? – удивился подьячий Никифор Кузьмич. – Взял чужое ожерелье, да просто так, да и продал?
– Ну, не за так, просто, продал, за деньги, – пояснил Акундинов. – Продал я Васькино ожерелье купцу, что в Гостином дворе стоит. Знаю, что прозвище у него Тетеря, а как зовут – не ведаю. Я с купцом этим водку не пил, детей не крестил.
– Ну, а продал-то зачем? Ожерелье-то, чай, не твое, – не унимался подьячий.
– Пришел я, стало быть, к Василию. Водки ему принес, да детям евонным гостинцев захватил. Ну, рассказал, что англичанина в гости жду, что моему отцу деньги за сукно должен был. Так ведь, Василий?
– Так-так, – с нетерпением перебил его подьячий, потрясая челобитной. – У Васьки-то тут все расписано, подробно.
– Ну, а что еще-то сказать? – оттопырил губу Тимоха. – Сказал я еще Ваське, что в долю хочу войти с англичанином тем, только – денег у меня мало. Ну, а Васька и дал мне ожерелье, да попросил его продать. Что бы, мол, деньги, что за него отдадут, я бы в его, Васькину бы долю и пустил. Что бы, мы с англичанином-то этим, вместе со Шпилькиным, да на паях бы и торговали. Мы бы, у нас тут, холсты покупали, да англичанину бы тому и отдавали. А он, сукно английское нам бы привозить стал. Вот, видок у меня есть, кто за меня и поручиться может, – показал Тимофей на Коску. – Он при нашем разговоре был.
– Да ты чего городишь-то? – оторопел от такого вранья Шпилькин. – Ты же это ожерелье для бабы своей брал, что бы англичанину пыль в глаза пустить! Сам ведь о том говорил!
– Вася, да для чего мне пыль-то в глаза пускать? – округлил глаза Тимофей. – У Таньки-то у моей, мониста разные, да бусы, да цацки прочие есть, что дедушка покойный, архиепископ, ей завещал. Ей, коли надобно будет, есть чего навешать – хоть на грудь, хоть на шею. На хрен, мне жемчуга-то лишние?
Сказав об украшениях жены, Тимофей вдруг чуть не задохнулся от запоздалой мысли: – «От ведь, дурак! Можно же было только Танькины цацки продать, да и все…» Но мысль исчезла, как и пришла, потому, что Васька, с криком: – «Да я же тебе, сволочь, морду разобью!», кинулся на Тимоху, пытаясь ударить в зубы, но попал в грудь. Акундинов в долгу не остался, а съездил другу (теперь уже, положим, бывшему!) в ухо. Драку разнимали все, кто был в палате. Наконец, растащив драчунов, старший подьячий перевел дух и спросил:
– Ну, а коли ты, ожерелье-то продал, то деньги-то где?
– Так деньги-то я уже в дело вложил, – преспокойно ответил Акундинов. – Мы ведь с Васькой насчет склада говорили. Ну, на двадцать рублев я полсклада и купил. А на остальное, холстов разных, какие в Англии на парусину идут. Нельзя же перед гостем заморским, да с голой задницей. А сукна, что англичанин привез, уже на том складе лежат. Думал – сегодня-завтра расторговывать буду! А холсты, что я купил, так их уже на подводы погрузили, да увезли. А чего теперь драться-то? Я вот, сам из дома все продал, что бы денег выручить, да сукон прикупить. Вон, стрельцы соврать не дадут, что дома у меня – хоть шаром покати!
Оба стрельца, с усмешкой наблюдавшие за перебранкой, кивнули. Тот, что постарше, сказал:
– Это правда! В доме, у Тимохи, только стол да скамейки.
– Ну, вот, – с обидой сказал Акундинов. – А ты бы как хотел? В дело войти, да не потратиться? Сукна, вон, на складе купеческом остались. Так сегодня как раз и хотел привезти. Задаток-то я за них уже уплатил, а теперь еще пятьдесят рублев внести, – пошелестел Тимоха увесистым кошельком, где оставались деньги… – Только, извини, Васятка, но эти деньги я за товар отдать должен! Негоже, купца-то обманывать.
– Тимофей, да хватит врать-то! Христом Богом прошу! – не выдержав, заплакал Василий, схватившись за голову.
– Ну, Вася, ну ты уж прости меня, дурака, – с толикой раскаяния в голосе произнес Тимоха. – Ну, не углядел я, что ты, выпивши был, когда ожерелье-то предлагал. Я ведь, ежели бы знал, что пьяный ты, так не в жизть бы его у тебя бы не взял! Так что, Никифор Кузьмич, – обратился Акундинов к приказному. – Не знаю я – чего же еще-то сказать? Все, как на духу обсказал. Все – по правде. Потому как, хотел бы соврать, то так и сказал бы – видеть мол, эти жемчуга не видел… А коли Васька не врет – так пусть бумагу покажет, за моей подписью. А я, по-честному хочу, не отпираюсь. Да, взял я у него ожерелье…
– В общем, так, – подвел итоги старший подьячий. – Тут у вас, сам черт ногу сломит. Кто прав, кто виноват…
– Никифор Кузьмич, – заверещал белугой Васька. – Вели к боярину идти! Пусть, князь-боярин решит, кто прав, кто виноват.
– Эх, Вася, Вася, – укоризненно произнес старший подьячий. – А чего к нему идти-то? Он ведь тоже, выслушает, да и скажет – дурак, ты, Васька. Надо было бумагу составлять.
– Да на дыбу его, да кнутом! – орал Василий. – Или – пусть хотя бы оставшиеся деньги отдаст, что на поясе у него висят. К боярину!
– Васенька-то, соколик ты мой бестолковый, до середнего подьячего дослужился, а делов-то не ведаешь, что ли? – ласково сказал Никифор Кузьмич, – Тебя ведь, как жалобщика, первого на дыбу-то и подвешают. Доносчику-то, да жалобщику – первый кнут… Не посмотрят, что в Разбойном приказе служишь. Он же, не тать с большой дороги, что бы я его своей-то властью на дыбу-то отправлял. Он, чай, такой же старшой, как и я. А что, если земляк твой, после третьей крови, да на своем будет стоять? Тогда, что же, тебя в Сибирь, за оговор? Али, на плаху? Да и мне, от боярина-то попадет.
– Никифор Кузьмич, – вмешался Тимофей. – Да не извольте беспокоиться. Ведь, продадим мы сукно да холсты, будут у нас деньги. Васька, на эти деньги, десять таких ожерелий для бабы купит. Ну, а ежели, – посмотрел Акундинов на Шпилькина чуть брезгливо, – так уж все плохо, то выкуплю я это ожерелье клятое, да ему и верну. Денег, где-нить перейму. Вели – пусть бумагу принесут, а уж я и расписку в том напишу.
Василий, услышав обещание, воспрял было духом и, резво подскочил, помчавшись к столу, за которым скучал писец. Схватив бумагу, сунул ее под нос Акундинова, но был остановлен своим старшим:
– Давай-ка, Василий, занимайся делом, – устало сказал вдруг Никифор, – сам кашу заварил, сам и расхлебывай. В Разбойном приказе татей ловят, а не счеты сводят между собой. А я уж думал, что впрямь, обманул тебя кто. Получается, сам дурак, а мужика виноватишь… Радуйся, что князь-боярин не слышал, а не то посадил бы он тебя на хлеб и воду, да батогов бы приказал всыпать. Ладно, Тимофей Демидыч, – повернулся он к Акундинову, – не серчай. Сам, понимаешь, мы ведь, ушки-то на макушке должны держать…
– Спасибо тебе, Никифор Кузьмич, – поклонился Тимофей в пояс, как старшему. – Вижу, по справедливости да прозорливости твоей – быть тебе дьяком! – Потом, обернувшись к Василию, вздохнул. – Ну, чего же причитать-то? Я ж понимаю, супруга ругается. Ну да ничего, простит. А мне-то каково? Теперь вот, и в дом-то к тебе прийти будет нельзя. Людка-то, небось, мне уж больше не то, что жемчугов, так ничего и другого не даст …
Васька, глухо зарычал и, хотел опять кинуться на Акундинова, но был остановлен смеющимися стрельцами…
Уже на улице, Костка, вытанцовывая мелкой рысью, восторженно сказал:
– Сам поверил, что ты сукном да холстами торговать собрался! Подумал даже – может, сиделец тебе в лавке понадобиться? Или – толмач нужен будет. Я, конечно, аглицкий-то плоховато знаю, но, выучил бы… Как это у тебя ловко-то получилось? А я, со страху-то, чуть в штаны не наделал. Ну, куда теперь? В приказ?
– Чего я там забыл, в приказе-то?
– А куда же, тогда?
– Сейчас, домой пойду, а потом – куда-нибудь из Москвы, подале. Только, в дорогу нужно провианта прикупить. Сухариков там, сала. Ну да епанчу еще новую, шапку да рукавицы. Ну, может, по мелочи чего. Ты-то со мной, али, как?
Какое-то время Костка шагал молча, не отвечая. Потом, вздохнул:
– Да ну, куда же мне ехать-то? Да и зачем? Тебе-то, годочков-то сколько? Двадцать седьмой пошел? Ну, а мне уж на Николу, сорок третий пойдет… Батька у меня, старый да хворый. Не сегодня-завтра, помирать будет. Перед смертью, глядишь, простит меня, да хозяйство-то свое и оставит…
– Во-на! – с пониманием протянул Тимоха. – Хозяйство батькино держит… Понятно. А не боишься, что прихвостни Федотовы тебя разыскивать будут?
– Ну, чему быть, тому не миновать, – философски ответил Конюхов. – Да и, с меня то взятки гладки. Ну, вызвал я их и что? Все же видели, как я в кабак, за водкой заходил. Так ить, за водкой-то ходить не возбраняется. Так что – знать я ничего не знаю, ведать не ведаю.
– На худой конец, – досказал за него Тимоха. – Скажешь им правду. Убил мол, атамана, да есаула евонного Тимка Акундинов, с него и спрашивайте, а я только их на улицу вызвал.
– Ну, может и так, – не стал отпираться Костка. – Ну, а коли зарежут меня шарлыганы-то энти, то, стало быть, судьба такая! Один хрен – когда-нибудь да помру. Только, если я с тобой вместе пойду, так скорее помру!
– Точно, – поддакнул Акундинов и, заметив около своих ворот возок, принадлежавший боярину Патрикееву, ускорил шаг.
* * *
…Татьяна, как вкопанная, стояла посередине разоренной избы, даже не сняв с плеч дорогого шушуна из заморского сукна (аглицкого!). На лавке сидел Сергунька, деловито ковыряя в носу и болтая ногами. Мальчонка не понимал – что тут случилось, поэтому, не мог решить – начинать реветь или, погодить?
Завидя вошедшего мужа, Танька сделала к нему шаг и, глядя прямо в глаза, спросила:
– Тимофей, а что тут такое? Что с избой-то сталось?
– А что, такое? – обвел взглядом пустую избу Акундинов. – Стены, лавки да стол – на месте. Вон, – кивнул на угол – даже соломы чуток. Спать да есть – есть на чем. Ну, а че тебе еще-то надо?
– А где же, добро-то все? – скривила рот Танька, собираясь зарыдать.
– Так сама же видишь, нету здесь ничего. Чего, дура, зазря и спрашиваешь? – недоуменно ответствовал Тимофей, подсаживаясь к сыну: – Ну-ка, Сергунька, скажи, чем тебя в гостях-то кормили?
– Пирогами с яблоками, – ответил сын, прильнув к руке отца. – Да кашей с изюмом, да орешками калеными. А лучше всего – петушки сахарные, что бабушка Настя дала!
– Во, видишь, как здорово-то! – восхитился Тимоха. – И пирогов наелись и каши налопались, а робятенок еще и петушков поел. Так чего жалуешься-то? Чего тебе еще-то надо? Жива, здорова.
– Где добро-то все? Где – постели, сундуки где? – в голос зарыдала Танька. – Кровать, где? Куда, добро подевал, сволочь?!
– Константин! – позвал Тимофей друга, который, от греха подальше, стоял в сенях. – Отведи Сергуньку к Ваньке Пескову…
– Не хочу! – закапризничал было сын, но Костка, умевший управляться с детишками, сунул ему в руку невесть откуда взявшийся орех и мальчишка умолк.
– На хрена ему к Ваньке-то идти?! – заорала жена, багровея на глазах, хватая мальчишку за плечи и прижимая его к себе. – Никуда он не пойдет!
Тимофей, ни слова не говоря, оторвал парнишку от жены и повторил:
– Отведи мальчонку к дядьке Ване Пескову, пущай пока, с детишками евонными поиграет. Нечего ему тут делать…
– Пусть дома сидит! – заорала жена, отпихивая мужа от мальчишки. – Неча, по чужим-то дворам бродить. Пущай сидит, да знает, каков батька-то у него…
Тимофей, не говоря ни слова, ударил жену в живот, отчего та согнулась и села на пол. Сережка заверещал и, рванулся, было, к матери, но был остановлен отцом.
– Костка, я кому сказал? – повторил Тимофей негромко, но так, что испуганный Конюхов, схватил ребенка в охапку и выскочил во двор как птичка.
Татьяна, сидевшая на полу, рыдала навзрыд. Тимоха, подойдя к жене, вдруг сказал:
– Не создавай, супруга моя строгая, кумира златого,
Бо, будешь ты – убогая…
Все злато – тлен, а жемчуга – песок,
В гроб не возьмешь ты дорогой платок.
Лишь саваном ты перси обернешь,
В чем ты родилась – в том туда пойдешь!
– Гнида ты, – с ненавистью в голосе сказала жена. – Такая гнида, что гнидистей нет!
– Точно, – не стал спорить Тимофей. – Ты в гнидах-то, лучше меня разбираешься…
– А я ведь, как дура, домой бегу. Думаю – как там мой муженек, драгоценный! У, скотина…
– И, на хрена же ты дура, домой-то бежала? Да еще и в возке боярском… Сидела бы себе у крестного, да пироги трескала.
– А то, что к крестному моему, Людка Шпилькиха пришла. Хорошо еще, что я ее во дворе перехватила, а то – совсем бы уж стыд и позор. Шпилькина-то и говорит: – «Взял мол, Тимошка-то, ожерелье жемчужное, что от прабабки осталось, да и не отдал его. Васька, мол, челобитную написал, что бы Тимошку на правеж привести». Она и грит: – «Отдавай мол, ожерелье-то, у тебя оно!». А я – и делов-то не знаю! Говорю: – «Ты что, баба, спятила, что ли. А она: – «Сказал Тимоха, что ты ожерелье-то убрала, но люди-то видели, как он ожерелье продал. С утра с самого, стрельцы твоего мужика в приказ Разбойный и повели. Отдай жемчуга, так ему ничего и не будет. А не отдадите, дак будет Тимохе каторга, да вырывание ноздрей, как татю!».
– А ты чего? – с интересом спросил супруг.
– А что я? Сказала, что никакого ожерелья не видела и, знать ничего не знаю! Ну, я, Сергуньку в охапку, да возок у крестного взяла. Вот, прибежала, а тут – одни стены остались… Куда добро-то девал?
– Зря бежала, – спокойно сказал Тимофей. – Спешить-то уже некуда. А добро… Может, тати ночные вынесли?
– Тати… – хмыкнула жена. – Дождешься, тебя самого, в Разбойный приказ поволокут, аки татя.
– Ходил я уже в Приказ Разбойный, да объяснил все.
– Так что, все? – с нажимом переспросила жена. – Что ты объяснил-то, ирод? Тимофей, да ты же изоврался весь! Мне – одно соврал, Людке – другое…
– А в Приказе Разбойном, четвертое, – хохотнул Тимофей. – Ну, а зачем тебе правду-то знать, дура? Ну, продал я все. И ожерелье это сра*е продал и барахло все продал. А дальше-то что? Добро, так его завсегда купить можно!
– Ну, а деньги-то где? – встала жена с пола. – Мне, приданное-то, дедушка покойный для чего дал? Что бы ты, босяк, его разбазаривал? Это же, сколько же денег-то? Да куда и потратил-то столько? На девок, что ли? Так за эти деньги, всех девок на Москве скупить можно…
– Да не, не на девок, – опять хохотнул Тимоха. – Чего на девок-то тратиться, коли жена за бесплатно даст? Ну, жена не даст, так другая дура. Та же, Людмилка Шпилькина, например.
– Сволочь, ты, – стала рыдать жена. – Значит, ты не только с девками, но и с мужними бабами якшаешься, кобель…
– Хочешь услышать, куда добро-то твое делось? – прошелся по пустой комнате Тимофей. – В кости я проигрался. Вот, пришлось все добро продавать…
– Да сколько ж ты проиграл-то?! – обалдела жена.
– Двести рублев, – как можно небрежно ответил Тимофей.
– Да ты, кобель драный, знаешь, что одна кровать пятьдесят рублей стоит? А перины пуховые? А жуковинья мои, да бусы коралловые? Да за кику мою, с жемчугами тыщу ефимков плочено!
– Ну, чего уж теперь… – хохотнул он, сдерживая накатывающую злость – на себя, Федота с Цыганом, на «ночного купца», что взял добро за бесценок.
Хохоток супруга и его спокойный голосок взбесил Татьяну. Уж, лучше бы Тимофей на нее наорал или, стукнул бы снова… Поэтому, она взорвалась:
– Доб-р-ро мое где? – зашипела она сквозь зубы страшным, змеиным шепотом, хватая мужа за грудки.
Тимофей, с удовольствием ударил жену в лицо. Знал, что это, не так больно, как в живот, зато обиднее. Да и красота пострадает… Татьяна опять упала на пол, но не угомонилась. Сплюнув кровь из разбитого рта, она со злобой уставилась на Тимоху:
– Ты, как был подзаборником, так и остался. Никто ведь другой, окромя тебя, на такую б… как я и не польстился бы. А тебе, лишь бы приданное, да дом. Приживал!
– Это точно, – согласился Тимофей, наклоняясь к жене. – А знаешь, сучка, каково это, приживалом то быть? Когда в нос постоянно тычут, что батька твой, калека, что в дом владыки из милости взят. А я, между, прочим, поумней других-прочих дворян, коих ты в Вологде-то ублажала.
– Ишь ты, какой боярин выискался… – нехорошо ухмыльнулась Танька.
– А может, даже и не боярин, а кто-то повыше, – сказал вдруг Тимоха. А чего он ей это сказал, даже и сам не понял…
– Князь – мордой в грязь, – захохотала супруга, а потом, противным голоском загундела. – Тебя, князюшка, (выделила она) скоро в колодки закуют, да в Тулу отправят, на государевы заводы. Я, самолично, к крестному пойду, да все ему и обскажу. Как ты ожерелье Васькино продал, да добро все из дому продуванил. Все, все расскажу! А, надо будет, так я для этого и подол задеру перед кем надо и ноги раздвину. Уж, я передком-то расстараюсь…
– Подол, говоришь, задерешь? – с интересом переспросил Тимофей, подходя к жене. – А ну-ка, сучка, задери-ка его прямо сейчас, для меня…
– Да пошел ты на х…, кобель, – плюнула жена ему прямо в лицо.
Акундинов, улыбнулся, вытер лицо и коротко, без размаха, ударил жену кулаком в лоб. Потом, навалился на нее и стал задирать подол, раздвигая ноги. Танька, неистово сопротивлялась – хватала за руки, плевалась и кусалась, чем еще больше раззадоривала насильника-мужа. Правда, пришлось съездить ей еще пару раз, что бы угомонилась и, лежала спокойно…
– Ну вот, – слез с жены Тимоха, удовлетворенно отдуваясь и затягивая пояс на штанах. – Теперя, курва, можешь и к крестному своему идти, жаловаться.
– Сволочь ты, – с ненавистью глядя на мужа, сказала Танька. – Вот теперь-то, точно пойду…
«А ведь и пойдет, – мелькнуло в голове у Тимофея. – Пойдет, да и обскажет! Тогда особо-то и не набегаешь!»
– Пойдешь, значит? – поинтересовался он. – А сын, как же? Мальчишка-то без отца вырастет…
– А на хрен ему такой отец? – злобно усмехнулась Танька. – Таких отцов в нужнике топить надо. А лучше, им сразу тряхомудию отрезать, что бы ублюдков не плодили! Проживем, как-нибудь и без тебя. Крестный пропасть не даст. А ты, гадюка, будешь на каторге, в железе, камни таскать. А после, как выйдешь-то с нее, никуда будешь не годен, а только на паперти сидеть, да милостыню просить! Как батька твой, – добавила она мстительно….
– Не ври, – стал злиться Тимоха. – Батька мой, милостыни никогда не просил. Он, скорее бы с голоду сдох, но на паперть бы не сел…
– А мне – похрен! Хоть ты, хоть батька твой, калека безногий. Все вы нищеброды, да приживалы, – не унималась Танька, поняв, что ударила по самому больному…
– Ну ладно, – сказал Акундинов, внезапно успокоившись. – Молиться-то будешь?
– Молиться? – не поняла жена, от удивления перестав ругаться. – Чего я молиться-то должна? До обедни-то, чай, далеко…
– Ну, как хочешь, – вздохнул Тимофей, подходя к ней ближе. – Мое дело – предложить… А то – помолилась бы, душу облегчила…
– Ты чё, это? – усмехнулась жена разбитыми губами. – Думаешь, коли помолюсь, так и прощу? Как же… Кукиш тебе!
– Да нет, – спокойно и, как-то буднично сказал Тимофей. – Убивать я тебя буду…
– Да ты, чё удумал-то? – испугалась Татьяна. – Ты чего, делаешь-то? Тимофей, ты что, сполоумел, что ли?
Жена, попыталась вскочить, но Тимофей, ударом ноги опрокинул ее на спину, а потом, схватив за горло, принялся душить. Танька сопротивлялась с невероятной силой. Ей удалось подтянуть к себе ноги и сильным толчком отпихнуть незадачливого душителя в сторону. Вырвавшись, баба метнулась к двери. И, может быть, ей бы удалось убежать, но в дверях она столкнулась с Коской, входившим в избу. Тимоха же, вскочив на ноги, ухватил жену за волосы, намотал их на руку и ударил Таньку головой об печку…
– Тимоша, да ты что? – опешил Костка. – Ты что делаешь-то?
– Заткнись… – рыкнул Тимофей на друга и приложил бабу еще несколько раз… Потом, бросив валявшуюся без чувств жену, устало упал на лавку…
– Тимоша, ты че делаешь-то? – повторил перепуганный Конюхов.
Тимофей, отдышавшись и дождавшись, пока утихнет дрожь в руках, выговорил:
– Да вот, удавить ее хотел, стерву, да не вышло, – ухмыльнулся он страшной улыбочкой…. – Не судьба мне душителем-то быть. Опять, вишь, не получилось…
Поднявшись, внимательно осмотрел свой кафтан (нет ли, крови?), накинул епанчу и вытащил из-под лавки заранее приготовленную дорожную сумку и саблю.
– Лошади где?
– Во дворе стоят, овес жуют. Где ж им быть-то? – едва сумел выговорить Костка. – Только, мне их еще вчера надо было возвертать… Батька мне башку оторвет…
– Ну, а теперь-то уж и вовсе не возвернешь, – сказал Тимофей к несказанному ужасу друга. – Одну-то кобылку, я уж точно возьму. Ну, а вторую-то – надо ли возвертать? Ты как? Со мной поедешь? Тут – останешься? Токмо, если останешься, то прямая тебе дорога – в застенок да на дыбу. Сам знаешь, что все будут думать, что ты, соучастник мой…
– Может, живая еще? – робко спросил Костка, косясь на тело Татьяны, распростертое на полу. Подошел, было, к бабе, протянул руку, но испугался и отскочил к двери.
– Ну, коли живая, то щас добью, – хмуро пообещал Тимоха, выгребая из печки горящие угли и рассыпая их на соломе. – Ну, так чего надумал-то? Едешь, али – нет? Не боись, тебя убивать не буду.
Конюхов, постоял немножко, а потом резко снял с себя шапку и стукнул ею об пол:
– Эх, все одно погибать! Без тебя – на дубу, с тобой – на плаху! Вместе поедем…
* * *
– Тимоша, силов моих больше нет, – причитал Костка, мотаясь в седле из стороны в сторону. – Осьмой день без горячего. Не май ведь, месяц, во дворе. Холодно, на одних-то сухарях да на воде. В бане уж, почитай, две седмицы не были. Того и гляди – бельишко сопреет, да вши заведутся. Задницу до костей протер. Давай, хоть на каком нить постоялом дворе денек-другой побудем. А, Тимоша?
Тимофей, никак не откликнулся на мольбу приятеля, а молча ехал вперед. Конюхов, почитай, голосит уже вторую неделю… Но все-таки, отдохнуть бы не помешало. Если, не ради самих, то хоть ради лошадей. Скотина, она, чай, не человек. Ей отдых нужен. А за последние дни они питались кое-как, в придорожных трактирах да грязных харчевнях, спали урывками, прямо на скамейках. А чего, спрашивается, было так спешить?
– Ладно, – смилостивился Акундинов. – Еще немножко проедем, да избенку какую-нибудь поищем. За денежку-то любой смерд нас и в бане выпарит, а за копеечку-то – накормит и напоит.
Тут, словно бы по заказу, чуть в стороне от дороги появилась и деревушка. Так себе – на два двора, не больше. Дым шел только из одной избы, а второй двор был нежилой. «Оно и к лучшему, – подумал Тимофей, направляя коня к жилью. – Меньше увидят, меньше услышат!»
– Слушай, а чего они, на ночь, глядя печь, топят? – удивленно спросил Костка, привыкший к тому, что в Москве печи топили только по утрам.
– А хрен его знает, – пожал плечами Тимоха. – Может, выстыло уже, а может, – погреться хотят. А может, хлеб решили напечь с вечера…
– Им что, дров не жалко? – недоумевал Конюхов.
– А чего их жалеть-то? – удивился Тимофей. – Лес-то, вон он, рядом. Деньги за дрова платить не надо.
– У, лес… – сообразил Коса. – Тогда понятно. А я, как вспомню, как батька матку ругал, что дрова зазря жжет, то все и кажется, что сажень дров полкопейки стоит. Хорошо деревенским… Сбегал в лесок, дровец нарубил, да сиди себе, грейся на печке. Им-то, в Приказы ходить не надо…
Оба дома были окружены изгородью. Не из жердей, сбитых в пролеты и не из кольев. Ограда была плетеная, как корзинка.
– О, изгородь-то, как в Малороссии, – определил бывалый Конюхов. – Значит, точно, в Польшу едем!
Тимофей, спрыгнув на землю, подошел к крыльцу. Хотя изгородь вокруг дома и была сделана по южному образцу, но сам дом был русским, бревенчатым, а не из глины, замешанной пополам с навозом или кукурузной соломой. Изба – пятистенок, в котором «зимняя» половина отделена от «летней» светелки. Вон – большой сарай для скота. А там, слева, конюшня. Не похоже, что бедняки …
– Хозяева! – громко позвал он, колотя в дверь рукояткой нагайки. – Пустите на постой!
За дверью раздалось скрежетание и чей-то низкий голос – не понять, мужской или бабий, ответил:
– Пшел ты, к медведю на ухо! Ходят тут всякие, нищеброды. В монастырь валяй, там изба есть, для бродяг. А тут вам, дармоедам, не подают…
– Мы заплатим! – не смущаясь неласкового приема, крикнул Тимоха.
За дверью установилась тишина, а потом все тот же непонятный голос спросил:
– А чё надо-то?
– Да ты не бойся, – покровительственно сказал Акундинов и принялся перечислять: – Баня и еда для нас, конюшня с овсом для коней. Ну, хорошо бы еще щец с мясом, пироги с капустой да постели. Ну, дак чего забоялся-то?
Дверь медленно отворилась. На пороге стоял мужик, хоть и невысокого роста, но поперек себя шире. За плечом угадывалась ладно скроенная бабенка.
– Да я и не боюсь, – бабьим голосом сказал мужик, поигрывая охотничьим рожном… – Так, говоришь, денежки заплатишь?
Тимоха, оценив фигуру хозяина, наглеть не стал:
– Сколько возьмешь за три дня?
– Три копейки с денгой, – назвал цену своего гостеприимства хозяин.
– Одна, – принялся торговаться Тимоха.
– Три, – слегка уступил мужик.
– Две, – повысил Акундинов, хотя торговался из чистого озорства.
– Три, – еще немного уступил хозяин и пригрозил. – Больше не уступлю! На три дня, да на двоих… Да кони еще… Одного овса на них полкопейки уйдет… А сена еще…
– Ладно, – согласился Тимоха. – Но баба нам исподнее постирает.
– Добро, – согласился хозяин, протягивая широкую, как лопата, ладонь.
Тимофей, отзываясь на рукопожатие, чуть не завыл – хватка у мужика была железной! И хватка, и фигура никак не вязались с низким визгливым голосом и безволосым, одутловатым и, опять-таки, каким-то … бабьим лицом.
– Маланья, баню топи, – приказал хозяин жене, а сам обернулся к гостям: – Пойдем, коней поставим, а потом – перекусим, что бы в баньку-то на голодное брюхо не ходить. Воды там довольно, каменка – теплая еще. Только дровец подкинуть, так мигом дойдет.
Скоро все трое уже сидели за столом и уминали черствые пироги с грибами, запивая их квасом. Хозяин, которого звали Прокопом, позевывая, говорил гостям:
– Ничо, щас банька приспеет, напаритесь. Пока паритесь – баба ужин сготовит. Щец, правда, нет, выхлебали, но гречка с мясом есть. Ну, грибочки-огурчики всякие.
– Водку будешь пить? – неожиданно спросил Тимофей, вытаскивая из сумки флягу, чем поверг в изумление Коску, который уже несколько дней клянчил хотя бы чарочку.
– А чего бы не выпить? – отозвался хозяин, пытаясь говорить степенно. Но голос-предатель, то и дело срывался на визг, поэтому получалось смешно. То ли – баба переодетая, то ли, подросток, пытающийся говорить «под мужика»: – Ежели мало будет, так я свою достану. Дешевле некуда – две копейки ведро.
– С табаком, небось? – деловито поинтересовался Костка.
– Ну, еще чего, – слегка обиделся хозяин. – У меня ведь, не как в кабаке государевом. Для себя выкуриваю. Ну, так, соседям да путникам иногда продаю…
– Ну ладно, – примирительно сказал Тимофей. – Чарки доставай. Выпьем по немножко, да в баню пойдем. Вначале – нашего, казенного отведаем, а потом посмотрим.
Хозяин вытащил не деревянные кубки или, грубые глиняные кружки, а медные чарки, украшенные чеканкой. Из таких и пить, не в пример приятней. Выпив, Тимофей стал подниматься:
– Перед баней много пить не след, – сказал он, не обращая внимания на умоляющие Коскины глазенки…
По дороге мужики разминулись с Маланьей, которая, зыркнула на них из-под платка, ничего не сказала, а только уступила дорогу. Тимофей углядел, что хозяйка, несмотря на платок, закрывающий почти все лицо, была диво, как хороша.
Напарившись, да отпившись квасом, который им вместе с чистым бельем принес хозяин, друзья пошли ужинать. Гречка, сваренная с мелкими кусочками мяса, лучком и, щедро сдобренная маслом, была чистое диво! Были еще и печеные в золе яйца, пареная репа и речная рыбешка. Для соленых грибов не пожалели сметаны. Хозяин, хоть и брал недешево, но кормил хорошо!
Мужики и не заметила, как «уговорили» под кашицу всю гостевую баклагу, а хозяин вытащил полуведерную корчагу, не забыв, однако, загодя взять положенную денежку.
– Эх, благодать, – благодушно заявил Тимоха, развязывая пояс. – Хорошо тут у тебя. Теперь бы, да до полного счастья – бабу бы где-нить завалить. Только, – вздохнул он, выбирая огурчик. – Где же ее взять-то?
– Мою возьми, – сказал хозяин, кивая на возившуюся у печки жену: – Ежели, на раз поиметь – денгу плати. Ну, а на всю ночь – копейку.
Тимоха чуть огурцом не подавился. Костка, в отличие от друга, успевший повидать и не такое, воспользовавшись замешательством, налил всем по чарочке, выпил, не дожидаясь остальных, а потом налил себе вновь… Акундинов, хлопая глазами, даже и забыл, что Коску-то поить не следует, схватил свою чарку и опрокинул ее содержимое в глотку, не прикасаясь к губам…
– Ну, так чего? – поинтересовался хозяин, забрасывая в рот горсть квашеной капусты. – Бабу берешь, али, нет?
– Подожди, дай подумать, – закашлялся Акундинов.
– А чё тут думать-то? – удивился хозяин. – Баба справная. Давай, решай быстрее, а не то ей еще скотину кормить…
… Утро Акундинов встретил с жуткой головной болью. Попытавшись приподнять башку, он тут же со стоном ее уронил. С трудом, повернувшись на бок, уткнулся носом в незнакомую спросонок женщину…
Мелания, спала тихонечко, посапывая, словно младенец и положив под щеку обе ладошки. Почувствовав, что мужчина проснулся, она улыбнулась и открыла глаза. Протянула руку и погладила его по щеке.
– Хороший ты мой, – прошептала она на ухо, прижимаясь покрепче.
«Хороший? – тяжело заворочал мозгами Тимоха. – Это, чем же» То, что было вчера, не помнил напрочь. Было ли у него чего с бабой, не было ли? Немного поерзав и, ощупав себя, понял, что лежит на постели прямо в штанах и рубахе. Да уж, в таком состоянии, что был вчера, он не то, что бабу не мог бы «поиметь», а его самого бы «поимели»… А женщина, между тем, мечтательно проговорила:
– А какие ты мне вирши вчера читал складные! Век бы слушала. Сказал, что специально для меня сочинил.
«Вирши? – с трудом стал припоминать Тимофей. – Вирши, кажется, были. Только, какие?»
– Как ты вчера сказал: – «Приголубь меня, баба-кошка, ты меня чуть-чуть приголубь, мне бы ласки, совсем немножко, мне бы счастья, какого-нибудь», – с чувством прочитала баба. – А я бы тебя вчера и рада приголубить, дак уж и голубить-то нечего было… – со смехом добавила она.
– Ну, так уж вышло… – буркнул Тимофей, мечтая умереть от стыда и головной боли. – Бывает…
– Тяжко? – с состраданием посмотрела Маланья ему в глаза.
– Угу…
– Я, щас, – соскочила баба с постели и метнулась куда-то в угол. Вернувшись, поднесла к губам парня кринку. – Ну-ко, испей.
Акундинов жадно приник к кринке, где оказалась слабенькая бражка. Самое то, что бы «поправить» голову! С помощью Маланьи, придерживающей емкость за донышко, а самого его за голову, выпил «лекарство» и облегченно отвалился на постель. Вроде бы, все осколки, на которые развалилась голова, сошлись воедино…
– Ты, поспи пока, – посоветовала сердобольная баба. – А я – стряпать пойду, да корову доить. Потом приду.
Акундинов провалился в сон, а когда проснулся, то снова узрел перед собой Маланью.
– Ух, здоров же ты, спать, – засмеялась женщина, – Мой-то, с самого с ранья проснулся, коней напоил. Ему-то, хошь чарку выпить, хошь – ведро, все едино. Ты же вчера два ведра купил.
– И, что? – с испугом пробормотал Тимоха. – Неужели, оба ведра?
– Ну, одно-то, почти все вылакали. Куда и влезло-то столько? Прокоп-то, он, хоть сам зелено вино выкуривает, но пить не пьет. Это, грит, денежки стоит. Вот, ежели кто, угостит…
– А, где… – начал, было, Тимофей, вспоминая, как зовут напарника.
– Да все там же, – успокоила женщина. – Он как проснулся, то вместе с мужиком моим опять пить засел. А за меня ты вчера целых два алтына дал. Сказал – мне, мол, на три дня подруга нужна. И за постой на три дня вперед заплатил, да светелку у Прокопа вытребовал. Вот еще, кисет с деньгами обронил, возьми. А сумка твоя, да сабля – все тут лежит. Шуба, правда, в избе осталась.
Акундинов с тоской потрогал изрядно «похудевший» кошель. «Если так пойдет, то скоро коней продавать придется» – грустно подумал он. Конечно, была у него еще в седле «схоронка» с ефимками, но все-таки, жалко… Потом, твердо решив, что будет теперь, до самой границы перебиваться с хлеба на квас, а Коску – пьяницу, ради сбережения копеечек, оставит где-нибудь на постоялом дворе, повеселел.
– Ты, есть-то, будешь, али нет? – поинтересовалась баба. – Я тут тебе щечек принесла свежих, да винца штоф, да кваску.
Подставив к изголовью табурет, хозяйка ловко выставила на него горшочек, ломоть хлеба и поставила глиняный штоф и чарку. Ложку же протянула его собственную, не забыв обтереть передником.
Тимофей с трудом проглотил первую ложку, потом – вторую. А когда Маланья поднесла ему чарочку, то выпив, он уже ел и ел без остановки, пока не выхлебал весь горшочек.
– Ух, хорошо-то как! – искренне сказал Тимофей, почувствовав себя родившимся вновь. – А щи у тебя такие, что язык проглотишь! Умелица ты…
Зардевшаяся хозяйка стушевалась и торопливо налила ему новую чарочку.
– А сама-то? – спросил Акундинов. Когда же хозяйка испуганно замотала головой, почти насильно вложил ей в руку чарку и скомандовал: – А ну-ко, залпом!
– Не-не, что ты, – отпихивала хозяйка чарку. – Я же, как выпью, то совсем дурной становлюсь.
– Давай, давай, – настаивал Тимоха, поднося чарку к самым губам.
Не устояв перед натиском, Маланья попыталась выпить. Выпила, но поперхнулась и закашлялась. Торопливо схватив корчажку с квасом, отхлебнула глоток.
– Редко, пить-то приходится, – будто оправдываясь, сказала баба, утирая проступившие слезы.
– Это правильно, – похвалил Тимофей женщину, допивая из чарки остатки. Переведя дух, мудро изрек. – От водки-то этой, одна неприятность.
По всем его жилочкам растеклось приятное тепло. Захотелось чего-то еще… Он искоса поглядел на бабу, привстал на постели и потянул ее к себе. Осторожно и, даже нежно, помог ей скинуть тулупчик. Потом, взяв ее руки в свои, крепко поцеловал в губы. Почувствовав, как баба глубоко и часто задышала, усадил ее на постель, покрывая все лицо поцелуями. Потом, не выдержав больше, повалил Маланью на спину и стал судорожно задирать ей подол. Она не противилась, а напротив, помогала избавляться от лишней одежды. Все-таки, чуть-чуть терпения у Тимофея оставалось, поэтому, он успел еще погладить руками то, что до сей поры, укрывали юбка и подол тяжелой зимней рубахи…
– Ой, Тимошенька, – стонала баба, – Хорошо-то как!
Когда удоволенный и счастливый Тимофей отвалился от Маланьи, та еще находилась в сладостном оцепенении…
Акундинов, которому вдруг понадобилось отлучиться, выбежал из светелки и, через сени выскочил во двор. Поискав нужник, плюнул, и побрызгал прямо на угол. Потом, немного постояв во дворе, сообразил, что впопыхах забыл не то, что одеться, но и обуться. И, хотя еще не было настоящей зимы, но снег в ноябре уже выпал, поэтому мужик замерз и пошел отогреваться в избу.
Тимофей, заглянул в «зимник», посмотреть – как там, Конюхов-то? Войдя внутрь, невольно затаил дыхание, а потом, стоял какое-то время, дыша ртом и, привыкая к тяжелому запаху….
Под столом, на куче соломы тяжелым пьяным сном спал Конюхов. Хозяин возлежал на лавке мордой вверх, скрестив руки на груди, словно покойник. Однако, заслышав шум, Прокоп тотчас же открыл глаза и глянул на вошедшего. Увидев, что перед ним знакомец, закрыл один глаз, внимательно посматривая вторым на Тимофея.
– Как вы тут? – спросил Акундинов, хотя и так было все ясно…
– Пьем, – просипел хозяин. – Кинстантина твого, я на пол положил. Ежели на печку, али на лавку, то упасть может. Шею свернет, так с кем же я пить-то буду? Пусть на соломе дрыхнет. Не боись, я его харей вниз повернул. А то был тут у нас один хмырь, сблевнул во сне, да захлебнулся и помер…
Тимоха, хмуро посмотрел на пьяного в «зюзю» друга, прикидывая, что ежели бы тот бы, да помер бы от вина, так и мороки-то меньше. Вот только, хоронить придется…
– Ладно, – повернулся хозяин на бок, отворачиваясь к стене. – Скажи там, бабе, чтобы скотину не забыла накормить, да корову подоить…
Тимофей, только головой покачал и пошел обратно в светелку, прихватив свою шубу. Все теплее, чем под одним одеялом.
– Замерз? – спросила Маланья, высовываясь из-под одеяла и протягивая к нему руки. – Иди ко мне…
Тимофей, выпив для сугрева еще чарку, забрался под теплый женский бок.
– У, холодный-то весь, – шептала баба, оглаживая его спину и грудь, спускаясь все ниже и ниже… – Ой, да, какой маленький да замерзший, – зашептала она еще жарче, запуская руку в прореху подштанников. – Ничо, щас согрею!
Почувствовав новый прилив сил и бодрости в чреслах, Тимофей принялся ласкать женщину, доводя ее и себя до новой волны жаркого безумия…
После того, как приступ взаимной страсти иссяк, а Маланья, закрыв глаза, отдыхала, опять пришли вирши:
Я бы звездочку отнял у неба, что б тебе ее подарить,
Я не стану есть, даже хлеба, коль меня ты не будешь любить.
Я, как нищий странник, скитался, по лесам и между дорог,
Или – в скит бы, какой, подался, что б не чуять сердцем тревог!
Я бы отдал все деньги мира, что б тебя своею назвать!
И, на сердце, сыграл, как на лире, что бы только любимым стать!
– Тимошенька, солнышко мое, – заплакала женщина, прижавшись к нему. – Как же ты говоришь-то красиво! Ровно, как ангел божий…
Наплакавшись, Маланья притихла, вспоминая чего-то свое. Потом, с усилием оторвавшись от мужика, вздохнула:
– Надо ужин готовить. А потом – скотину обряжать. Тимоша, тебе чего приготовить-то?
– Пирогов охота, горяченьких. Или – блинов. Очень уж я блины люблю! Особенно – с пылу с жару.
– Будут блины, будут! – радостно закивала баба. – А пирогов я завтра, с утра напеку. Тебе к блинам-то что подать – сметану или мед?
– А можно – и меда и сметаны? – попросил Тимоха, решив, что можно и покапризничать.
– Можно! – кивнула Маланья. – А к водочке что принести? Огурчиков, капустки? Есть рыбка соленая. Осталась, водочка-то?
Проверив, сколько «зелена» вина осталось в штофе и, вылив остатки в чарку, Маланья захватила грязную посуду и ушла. Но уже скоро вернулась, неся с собой полный штоф и миску с огурцами и куском вареной говядины.
– Муж-то ругаться не будет? – обеспокоено спросил Тимофей.
– Так ты же за все это денежки заплатил, – объяснила баба. – Ему, почитай, прямая выгода. Припасов у нас много, а продавать их некому. Прокоп-то мой, выгоды никогда не упустит, но и дрянь не продаст. Такой уж он у меня!
– Это точно, – поддакнул Тимофей, который еще до сих пор не мог понять – как же такое возможно, что бы мужик, да свою, законную перед Богом и людьми, супругу, кому-то на ночь за деньги отдавал? Такое даже у дворовых людишек не принято. Пока в девках – валяй да имай, помещик-боярин свою холопку хоть вдоль, хоть поперек… Хоть стоя – хоть лежа! Хоть в бане, хоть в постели! А замужнюю бабу – ни-ни… В голове такое не укладывалось. Ладно, в душу бабе он лезть не хотел. Надо – сама расскажет!
– Ты, Тимошенька, водочки попей, покушай, да поспи немножко. Я когда скотину-то обряжу, да блины испеку, все и принесу.
…У Тимофея смешались и день и ночь. Вроде, только и делал, что ел, спал, пил водку да баловался с хозяйской женой. Баба же, кажется, вообще не спала. Иначе, как она умудрялась кормить скотину, доить коров да еще и стряпать-готовить на трех мужиков? Ну, Костка, тот питался, в основном, водкой, но остальные двое, лопали в три горла.
День на десятый, пытаясь надеть штаны, Тимоха обнаружил, что пояс пришлось затянуть туже. Ну, то, что сам отощал – дело наживное. Хуже всего то, что с каждым днем тощала и киса, потому что хозяин-варнак требовал свои копеечки вперед… Но Маланья, своих денежек стоила…
Как-то раз, приткнувшись к плечу, женщина со вздохом сказала:
– Мне, никогда в жизни никто хороших слов и не говорил… Только попреки и слышала. Один вот только, тятенька, царствие ему небесное, перед тем, как юбку задрать, да ноги раздвинуть, по заднице шлепал, да говорил: – «Гладкая ты, девка!»
1
«Неверстанными» назывались писцы, которым, в отличие от «верстанных» подьячих, жалованье было не положено. «Неверстанные», собственно говоря и занимались составлением и перепиской бумаг и жили на «перьевые» деньги. Подьячие, в нашем понимании – это уже чиновники различных уровней. Если перевести на современный язык приказные должности, то начальника приказа, которыми были, как правило, бояре (это, кстати, тоже должность!) можно назвать министром, приказного дьяка – заместителем министра. В некоторых приказах, таких как Посольский, Тайный начальствующим человеком был сам царь.
2
2 шкалика =чарке = 122, 99 мл
3
Штоф = 1,229 л
4
Винная (водочная) бутылка равнялась 0, 7687 литра; «косушка» – около 0,307 литра.
5
Царь Алексей Михайлович попытается сделать нечто подобное, выпустив первые крупные монеты – «рублевики» и медные копейки. Однако, из-за технического несовершенства дело закончится инфляцией, «медными» бунтами по всей стране и возвращением к старым серебряным «чешуйкам».
6
Видимо, было даже больше. Если средний вес копейки был равен 4,3 грамма, то вес мешка, где лежит двадцать тысяч копеек равняется 8,6 кг.
7
Ябедниками в XVII столетии называли ходатаев, защищавших чьи-то интересы в суде. Говоря современным языком, ябедник – это адвокат. Видок – свидетель.