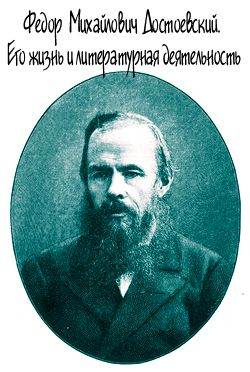Читать книгу Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность - Евгений Соловьев - Страница 1
Глава I
ОглавлениеДостоевский и беллетристы 40-х годов. – Особенности. – Литературный пролетарий. – Вечное безденежье и вечная кабала. – Влияние города. – Городские темы и городские лица. – Психопатология и психопатия
Имя Федора Михайловича Достоевского упоминается обыкновенно наряду с именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станет отрицать за ним права быть поставленным в первых рядах «стаи славной» беллетристов сороковых годов. Но если и возможно сближать Достоевского с его сверстниками с точки зрения места, времени, силы, таланта и общности «литературного происхождения» (от Гоголя), то подобное сближение очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский уже обязан преимущественно себе и странным обстоятельствам своей личной жизни. Это – его неотъемлемая собственность, в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе. Положительно трудно не согласиться со словами H. H. Страхова из его письма к Достоевскому: «очевидно, по содержанию, по обилию и разнообразию идей вы у нас первый человек, и сам Толстой, сравнительно с вами, однообразен. Этому не противоречит то, что на всем вашем лежит особенный и резкий колорит». В чем же эта всеми замеченная, но никем вполне ясно не сформулированная особенность всей жизни и всей деятельности Достоевского? Кое-какие параллели дадут нам ответ на этот вопрос.
В произведениях Гончарова и в особенности Тургенева вам прежде всего бросается в глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылощено, отлакировано, отполировано; каждое слово на своем месте, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, в которой было бы заметно утомление или неровность таланта. Каждое произведение так и просится в переплет с золотым обрезом. Каждая фигура, каждая даже мимолетно появляющаяся на сцену личность (у Тургенева) точно из мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки раз обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потом уже давалось публике на прочтение с полной уверенностью в успехе, без всякой торопливости, без всяких заискиваний. Хорошо так работать, и счастлив тот художник, который может так работать. Но для этого нужны прежде всего средства и выдержка (внутренняя дисциплина). Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только две вещи он написал не наспех и не к сроку. Это «Бедные люди», первый его роман, и «Братья Карамазовы» – последний. Все остальное писалось столько же из потребности, сколько и из-за заработка, когда, бывало, и есть нечего, и сам Достоевский по уши в долгах сидит в Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключениями, у Достоевского нет ничего выдержанного, обработанного. Иногда целая сотня страниц производит впечатление какой-то papier mache[1] и только вдруг, в конце, гений, преодолев усталость, проявляется во всю мощь, точно молния прорезывает тучи и освещает всю картину фантастическим, дивным блеском. Обыкновенно же это тысячи ненужных подробностей, десятки отдельных интриг, нагромождения новых героев и героинь. Все это наспех, наскоро, с натугами и порывами, кризисами творчества, молниеносными проблесками гения и удручающим вымучиванием. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевский не умел и зачастую запродавал вместо романа белый лист бумаги, причем «мошенники» издатели огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевского; ведь это один и тот же мотив: «денег, денег, денег!», и мало-мальски чувствующий и мыслящий человек поймет, какая трагедия разыгрывалась в душе великого писателя, которому к такому-то сроку непременно надо приготовить такое-то количество листов. Раз попав в лапы господ Краевских и Стелловских, Достоевский только под конец жизни вырвался из них. Какой же силы должен был быть талант, успевший проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и резкие признаки если не помрачения, то, во всяком случае, психопатизма, по нашему – истеричности?…
Тургенев, Толстой, Гончаров писали и пишут, потому что у них была потребность писать, такая же неодолимая, «органическая», как у других есть, пить, спать. Литература и для них главное дело жизни, но не будь у них таланта, они преспокойно прожили бы и без нее. Пишу, потому что пишется, потому что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевского литературная деятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Он сам себя не раз называл литературным пролетарием и называл совершенно справедливо, хотя успех и удача приобретались им сравнительно легко. Как ни велик был его гений, спешка портила дело, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то со злобой, то с отчаянием повторять: «Эх, кабы хоть один роман написать так, как пишут Тургеневы да Толстые»… А сколько унижений, сколько невидимых самолюбивых мук, сколько зависти и ревности к другим, более счастливым, которым от рождения дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудом целой жизни, т. е. материального обеспечения! Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы – сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказов, писать, несмотря на припадки, и пр.! Жизнь Достоевского – это полная трагизма борьба гения с рынком…
Но вместе с этим Достоевский до страсти любил литературу и вне ее не искал ни заработков, ни занятий. Он с гордостью называл себя литератором, хотя и нищим литератором, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность или что-нибудь в этом роде. Только по временам срывались у него невольные проклятия, когда нужда слишком уж начинала давить, но и тут он твердо оставался на посту. Вот любопытный отрывок из одного письма, достаточно характеризующий эту душевную трагедию литературного пролетария. Дело в том, что Кашпирев (редактор «Зари»), не выслал ему к сроку 75 рублей. Достоевский разражается следующими строками: «Неужели он думает, что я писал ему о своей нужде только для красоты слога! Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она (жена) кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою шерстяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне стыдно объяснять ему все это! Да неужели уже он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я писал ему о нуждах жены. Оскорбил, оскорбил!.. – Он скажет, может быть: „а черт с ним и с его нуждой! Он должен просить, а не требовать“ и т. д. И такую вещь приходится писать автору „Бедных людей“, „Записок из Мертвого дома“, „Преступления и наказания“!.. Фразы же вроде: „я до того заработался, что отупел, и голова как забитая“ – повторяются постоянно.
И все же Достоевский не только не оставлял, но даже и не думал оставить своей литературной лямки.
Оставим, однако, борьбу с рынком в стороне и перейдем к другой стороне вопроса. «Ловкий француз или немец, – писал H. H. Страхов к Достоевскому, – имей он десятую долю вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы. И весь секрет, мне кажется, в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен».
Этот совершенно верно указанный недостаток (так как сущность литературного таланта в том и состоит, чтобы с наименьшими затратами выражения, в широком смысле слова, произвести наибольшее впечатление на читателей) происходит отчасти от спешки в работе, отчасти и от других причин. Дело в том, что талант Достоевского – талант совсем особенный, исключительный. Владеть им он так и не научился до конца жизни. Это талант неровный, вспыльчивый, раздражительный, до последней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновение, иначе у него и двух строк не выходило. Свои темы он брал сразу, приступом, одним размахом рисовал самые сложные свои типы (например, Иван Карамазов, Раскольников, Свидригайлов), а не подбирался к ним исподтишка, понемногу. Великий мастер психологического анализа, Достоевский совсем не был мастером в детальной живописи. Он не мог так возиться, так разглядывать, так разрезать по частям своих героев, как Толстой; не умел так вырисовывать их, как Тургенев; но он, как никто, умел жить с ними, страдать с ними, мучиться и волноваться. Созерцательности в нем не было ни на йоту, оттого-то творчество так истощало его. В то время как Гончаров смотрит на жизнь удивительно умным, понимающим и в то же время удивительно сытым взглядом, Достоевский – весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоит перед вами, вперив свой испытующий гениальный взгляд в самую глубину души человеческой, творя суд над правым и неправым с медлительностью все испытавшего и все постигшего гения, Достоевский или проклинает, или благословляет, с любовью или с ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность, неровность таланта, это вечное клокотание в груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.
По-видимому, виноват в этом личный, по наследству полученный Достоевским характер, его, как сейчас увидим, истеричность, а потом и еще одно обстоятельство, особенно хорошо и метко указанное А. М. Скабичевским в его «Истории новейшей русской литературы». «В то время как большинство беллетристов 40-х годов, будучи выходцами из деревень, принадлежали к рыхлому помещичьему типу, Достоевский является представителем разночинного, служилого класса общества, холерическим нервным сыном города; а во-вторых, в то время, как большинство их были люди обеспеченные, Достоевский один среди них принадлежал к вновь возникшему классу интеллигентного пролетариата». Этому сыну города, интеллигентному пролетарию, всегда раздраженному, всегда расстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу с жизнью и рынком, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своих героев. Его беспокоит жизнь, ее материальная сторона, ее нравственные проблемы. Он как бы сторонится красоты, изящества, наслаждения. Он терпеть не может никаких художественных аксессуаров. Жизнь – это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Где тут целоваться да миловаться или описывать поцелуи да милованья. Жизнь – задача, долг, обязанность, борьба наконец, после которой руки и ноги будут в крови. Поэтому в произведениях Достоевского вы не найдете ни очаровательных описаний природы, ни захватывающих сцен любви, свиданий, поцелуев, ни обворожительных женских типов. Все это Достоевский отрицал в принципе. В «Бесах», в лице писателя Кармазинова, он потешался над Тургеневым, за его «страсть изображать, например, поцелуи не так, как они происходят у всего человечества, а чтобы кругом рос дрок или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться в ботанике, причем и на нем должен быть непременно какой-нибудь фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не видал, а дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета». Этот пуризм очевидно происходил от слишком серьезного, слишком вдумчивого отношения к жизни, которая представлялась Достоевскому как религиозная проблема прежде всего. Равно как каждого его героя жизнь прежде всего мучает, так она мучила и его самого. Где тут описывать поцелуи интересных пар!.. Это-то уж, несомненно, взгляд на жизнь тяжкодума, городского пролетария.
Сын города виден также и в выборе сюжетов. Баре Тургенев, Толстой, Гончаров бар прежде всего и рисовали и как дополнение к ним – мужика. Третьего сословия, горожан, мещан, разночинцев они почти не затрагивали, иногда разве преимущественно ради «опровержения». Изящного общества Достоевский не знал и не выводил на сцену в своих произведениях. Мир чиновничества, интеллигенции, городского пролетариата – вот его сфера. «Он любит вводить читателя в городские вертепы, трущобы, где царят нищета и разврат. Он даже, как Диккенс, проникнут их мрачной поэзией. Не вдаваясь в описание красот природы, он очень часто разворачивает перед читателем иного рода ужасающие картины, от которых мурашки ползут по спине. Это в особенности Петербургу свойственная картина городских улиц ночью, в осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда все, у кого есть теплый кров, прислушиваются к завываниям бури в своих тепленьких уголках, и лишь бесприютные, обиженные, сбившиеся со всякого пути, полуодетые в жалкие рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемые мокрым снегом, пронизываемые ветром и погруженные в какие-нибудь полубезумные грезы».
К довершению всего, т. е. своей особенности, Достоевский был несомненным психопатом, не помешанным, говорю я, а психопатом, что не то же самое. В детстве он страдал галлюцинациями, потом падучей. Но и, кроме этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знает всякий: это мучительное недоверие к себе, своим силам, жизни, это подозрительность в отношении ко всякому, опять-таки начиная с себя, это боязнь, испуганность перед жизнью вообще. Что же такое «истеричность», с которой нам придется встретиться не раз на протяжении биографии, об этом лучше всего скажет нам сам Достоевский – величайший из психопатологов. Отсылая за подробностями к «Братьям Карамазовым», я беру характеристику истерической натуры в изложении доктора Чижа: это «неустойчивое равновесие психических отправлений, чрезмерно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере такого рода больных бросается в глаза пестрая смесь построений и аффектов, симпатий и антипатий, представлений то веселых, то грозных, то серьезных, то низменных, то с философским пошибом; стремлений полных энергии, но скоро пропадающих… У этих же больных есть и другая замечательная черта – самолюбие! Они самые наивные эгоисты, говорят только о себе и постоянно, с самым живым интересом, стараются обратить на себя общее внимание, возбудить участие, заинтересовать всех своею личностью, своею болезнью, даже пороками». В этом портрете трудно не узнать Федора Михайловича Достоевского, его неуравновешенную, неровную натуру, полное отсутствие внутренней дисциплины, капризность, быструю, беспричинную смену восторгов и отчаяния, симпатий и антипатий, крайнего увлечения и холодного равнодушия. Страшно за человека, которому приходится жизнь прожить с таким характером, а к тому же, если этот человек талантлив, беден, наивен, как ребенок… Но все это выяснится нам после.
Пока же два слова о миросозерцании. Совершенно естественно, что особенности личной жизни, исключительный, болезненный темперамент придали ему очень резкую индивидуальную окраску. Но было бы, кажется, совершенно напрасной работой представить это миросозерцание в целом: нет просто никакой возможности разобраться в противоречивых подробностях, во взаимно исключающих парадоксах. На мысль Достоевского личное – Даже минутное настроение – оказывало могущественное влияние, и сегодняшнее белое могло очень легко завтра показаться черным. Если в «Записках из Мертвого дома» он утверждает, что характерная черта русского народа – стремление к справедливости, то это нисколько не мешает ему говорить в «Дневнике»: «наш народ любит страдание». Если однажды Белинский представляется ему «благородным», то через какое-то время благородный человек оказывается поганым явлением русской жизни и т. д. Ни в жизни своей, ни в мысли Достоевский не знал дисциплины и противоречил себе не только в подробностях, но и в основном. Попробуйте изложить его взгляды на страдание: то он является перед нами чистым гуманистом, то признает необходимость страдания как наказания за грех, то просто преклоняется перед ним как перед таковым. Неправда жизни, опять-таки, то губит людей, то воспитывает в них внутреннюю силу. Многие же изречения Достоевского прямо зависят от минутной злобы, внезапно нахлынувшего раздражения, от личных симпатий и антипатий. Несомненно, что, вращайся он в другом обществе, он зачастую бы говорил другое и не делал бы таких ужасных скачков от христианского смирения к самому забубенному шовинизму или чему-нибудь в этом роде. Повторяю, мечта о том, чтобы представить миросозерцание Достоевского во всей его целости и стройности совершенно неосуществима. Недисциплинированная мысль великого художника сама подчас не знает, куда она идет, и требует, например, каторги для сумасшедшего! (Раскольников).[2] Но все же общие идеи этого миросозерцания ухватить можно. В последней главе нашей книги мы говорим о Достоевском как о народнике, теперь же попытаемся охарактеризовать это господствующее ныне настроение.
Понятно, что Достоевский, как страстный и нетерпеливый характер, зачастую чувствовал какую-то истеричную и вместе с тем непримиримую злобу и к жизни, и к людям. В эти мрачные минуты его душевные раны открывались; дикой и мучительной, полной ненужной, но неукротимой жестокости, представлялась ему жизнь. Со страстным любопытством художника погружался он тогда в человеческую душу и находил в ней столько грязи и мерзости, что требовались костры ада, чтобы очистить ее. Под влиянием такого настроения человеческий характер представлялся ему исполненным злобы и мучительных инстинктов. Он говорил: «человек – деспот от природы и любит быть мучителем». Он посягал на саму любовь, он и ей придавал характер инквизиционной пытки: «я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». В столь же мрачном свете представлялась ему и дружба. «Странная вещь эта дружба! – восклицает он… – Положительно могу сказать, что я на девять десятых стал дружен с ним из-за злобы!» Подобные взгляды Достоевского обобщены под эпитетом жестокости таланта. Жестокость ли это таланта или результат вынесенной муки – не знаю, но прямо становлюсь на сторону последнего мнения. В отрицании любви и дружбы, в этом представлении жизни как ненужно жестокой, в этом инквизиторски-мучительском выискивании зла в своей собственной душе, в этом взгляде на деятельность человека прежде всего как на покаяние – я вижу отражение тяжелой многострадальной жизни, выпавшей на долю великого писателя. Постоянно доходил он до отчаяния; обстановка, характер так давили и терзали его, что он ощущал в душе холодный ужас и неподавимый страх перед жизнью. Нежный и любящий, он становился способным различать вокруг себя одну злобу; страстно привязанный к жизни, он нетерпеливо отталкивал ее от себя и уходил в «подполье», чтобы оттуда проклинать бытие. Холодный ужас и холодное отчаяние то и дело овладевали им. Он хотел жить как человек радостный, сильный, здоровый, с любовью в сердце, но такая жизнь не давалась ему, и он оттолкнул от себя наслаждение, он проклял счастье.
И кроме того, по самому существу своей натуры, личного опыта, темперамента, Достоевский отрицал всякий эпикуреизм в жизни и даже с ненавистью изгонял его оттуда. Точка зрения эпикурейцев, поиск наслаждения, мысль, что наслаждение – господствующий мотив в деятельности человека, были просто противны ему. В юности он увлекается аскетическими идеалами, потом казнит интеллигенцию за то, что та стремится к личному счастью или старается устроить чужую жизнь по идеалу всеобщего земного счастья. Он решительно отказывается признать наслаждение за главный господствующий мотив деятельности и, увлекаясь полемикой с этим принципом, уже из духа противоречия утверждает, что человек ищет страдания, любит
1
папье-маше (фр.) – измельченная волокнистая бумажная масса
2
см. гл. V