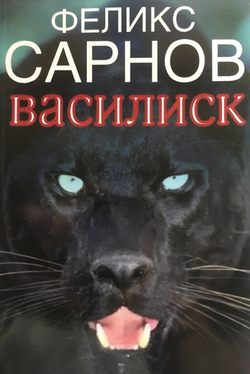Читать книгу Василиск - Феликс Бенедиктович Сарнов - Страница 1
Оглавление– Так ты тоже знаешь эту сказку? Да?
Почему же я никогда ее не слыхал?
– Потому что Джунгли полны таких
сказок. Стоит только начать, им и
конца не будет…
Р. Киплинг. Книга Джунглей.
П р о л о г
Тварь снова нашла путь в другой мир.
Это вышло случайно, как и в первый раз, когда она ощутила зов. Тогда она даже не успела понять, что с ней произошло – просто очутилась в каком-то замкнутом пространстве и инстинктивно рванулась из него наружу.
И вырвалась.
Наружу.
Вырвалась из каким-то образом притянувшего её существа, беспомощно раскинувшегося на песке, и… С наслаждением убила нескольких других существ. Она убила бы и ту… Ту самую ,с помощью которой оказалась здесь – вырвалась за пределы своего к р у г а, за ч е р т у, во всяком случае, попыталась бы сделать это, но…
Ей помешал Страх.
Страх, от которого не было спасения. Страх, который умел появляться бесшумно и неожиданно. Страх, для которого охота на таких, как она, была всего лишь забавной игрой, и это было самое страшное в Страхе: Он мог убить сразу, а мог и притвориться, что промахнулся, и продлить свое развлечение.
В тот раз Страх даже не показался весь, а лишь отбросил в этот мир т е н ь своей страшной лапы – обозначил свое присутствие. Тварь, как на пружине, отбросило в свой мир – мир красного песка, где Страх почему-то не стал преследовать её, оставил до следующего раза, играя в свою жуткую игру по своим жутким правилам.
Но она запомнила т о т мир, а главное, запомнила тот слабенький з о в другого существа, благодаря которому сумела проникнуть туда. И все время ждала этот зов, страстно желая услышать его снова и опять очутиться там, где можно легко и просто убивать слабых двуногих существ, не способных не то, что драться с такими, как она, а вообще хоть как-то сопротивляться. Там можно было бы делать то, ради чего она существовала – плодить себе подобных и убивать всех других, а еще… Еще в ней теплилась надежда, что, быть может, там можно будет остаться навсегда, оборвать связывающую её с этим миром пружину и… Быть может, Страх не станет больше преследовать её т а м, оставит в покое, потому что у Него и в Его мире хватает с кем и г р а т ь. И вот, момент настал…
Тварь снова услышала тот слабенький зов и снова нашла путь в другой мир.
На этот раз все вышло как-то иначе. Тварь, услышав зов, рванулась на него всем своим нутром и… Ей словно засосала какая-то воронка, красный песок закрутился вокруг неё жутким вихрем, вздел её куда-то вверх, стал швырять из стороны в сторону, а потом выплюнул вниз, в… Другой мир.
Очутившись на земле, она огляделась и… С ужасом увидела, кто позвал её, чей зов она приняла – это была…
Это был… Страх. Только маленький – даже меньше, чем она сама, словно на нее смотрела Его маленькая копия, или… частичка. Смотрела каким-то сонными, погруженными в транс глазами, и тварь поняла, что звереныш не видит её и вообще не знает о её присутствии. Первым страстным желанием твари было разорвать, убить этот маленький Страх, но…
Она сразу поняла, почуяла, что это невозможно. Она не понимала, почему, но чувствовала… з н а л а. От ощущения своего бессилия её охватила жуткая злоба, и увидев неподалеку бегущее и нелепо размахивающее конечностями какое-то другое существо (из тех, что она уже убивала однажды), она рванулась к нему быстро и бесшумно, догнала в одно мгновенье и…
Перекусила пополам.
Кровь существа – то, в чем она нуждалась, чтобы жить, – хлынула ей в глотку…
Часть 1
1.
Х Р Р Р Я С Т Ь!…
Маленькая пластмассовая фигурка ни в чем не повинного пингвинчика разлетелась на мелкие кусочки по всему кабинету, а по коридору районного отделения УВД разлетелось эхо от мощной матерной тирады старшего оперуполномоченного данного отделения, майора, Ивана Васильевича Хрусталева, больше известного среди сослуживцев и местной братвы под дружеским (и не очень дружеским) псевдонимом (по-простому сказать, кликухой) – Хруст.
Расхерачив здоровенным кулаком пластмассового пингивна на своем столе и соответствующим образом высказавшись,
("…сех-бу-нах-рот-дюки-мать-мать-мать…" Ну, и так далее…)
Хруст вздохнул и… издал вполне добродушный смешок. Несмотря на, как бы это сказать, внушительную внешность, Хруст был человеком незлым, а главное, вполне отходчивым. И с чувством юмора у него было все нормально. Правда, когда твои сослуживцы две недели долбят тебя сраными пингвинами, любое чувство юмора может дать слабину, но… В конце концов, что с них взять, пускай тешатся, если других забав нету. А вот у него, у Хруста, то бишь у старшего оперуполномоченного майора Хрусталева, "забав" сейчас полный рот. И дело даже не восьми жмуриках, которые висят на их "земле", а стало быть, на нем, майоре Хрусталеве, а в пятом из этих восьми, который он… Вернее, которую… Которую он, майор Хрусталев, выгнал ночью из своей "однушки"
(пьяная стерва, вздумавшая у него в ванной распечатать пакетик с порошком и подзарядиться – ты ж мент, чего ссышь…)
а потом, кроя ёбом свою… ну, ответственность, что ли, выбежал вслед за ней, чтобы усадить уродку в тачку, заглянул на огороженную стройплощадку и увидел… То, что увидел. Или кого…
И как об этом рассказать? Какой рапорт подать? И кому? Нач. отделения, полковнику, Рубцову? Такому на вид недалекому увальню, немного смахивающему на "Колобка" из сериала про ментов? Только ведь этот "недалекий увалень" видит всех не то, что как рентген, а куда круче, и если рассказать – даже не подать рапорт, а просто рассказать
(… в конце концов, можно поговорить с Рубцовым не как с нач. отделением, а просто как с Васькой Рубцом, с которым когда-то…)
ему, что ты видел, то он… Психовоз, ребята, с санитарами. Рубец, конечно, мужик что надо, и уж кто-кто, а Хруст знает, кто такой Рубец, но…
Не поймет.
Не поймет Рубец такие фокусы и конечно, поможет чем может, а чем не может, не поможет, так что же делать, ебить вашу…
А тут еще эти пингвины, мать их…
И опять по коридору отделения УВД прокатилось зхо тяжелых раздумий старшего оперуполномоченного Хруста.
* * *
С пингвинами, если по-честному, Хруст сам дал маху, вернее…
Словом, две недельки назад, выйдя из положенного отпуска, Хруст был вызван вместе с остальными ребятами на планерку к Рубцу и в пол уха слушал обычный рубцовский распиздон по поводу четырех непонятных жмурах на их земле. В пол уха – потому что жмуров все равно повесят на Хруста, а стало быть, после планерки он ознакомится со всеми материалами чисто конкретно, а еще потому что с утра голова была мутная, в горле – сухость, и… Ну, в общем, после вчерашнего.
Вот он и сидел, рисуя на листе бумаги какие-то загогулины и мало вникая в раздраженный бубнеж Рубца по поводу общего разгильдяйства, неумения и нежелания работать на благо общества и высшего руководства, рассчитывая, что к нему, сегодня вышедшему из отпуска и соответствующего… ну, не запоя, но и не без этого, никто приколебываться не будет.
Зря рассчитывал.
Не, услышав от своих подчиненных ничего вразумительного в ответ на свои претензии, Рубцов хмыкнул, обвел всех присутствующих тоскливым взглядом, явно ища козла отпущения, и… Зацепился этим взглядом на слегка опухшей физиономии Хруста. Он, конечно, понимал, что приставать к Хрусту с этими четырьмя висяками сейчас глупо и бессмысленно, но похмельно-раслабленная физиономия майора вызвала у него глухое раздражение.
– Может, майор Хрусталев нам что-нибудь присоветует? – осведомился он. – Вы все воды в рот набрали, а Хрусталев, похоже, не водичкой вчера баловался, верно, майор? Так, может, у вас есть какие-то соображения?
Хруст пожал плечами и вдруг неожиданно для самого себя пробормотал:
– Интересные они твари, таищ полковник…
– Кто? – не понял Рубцов.
Хруст был готов откусить себе язык. Он сам не понимал, как ухитрился вслух произнести то, что лениво вертелось у него в голове. И может, и следовало бы если не откусить, то хотя бы прикусить свой похмельный язык, но он этого не сделал, и к его ужасу язык продолжал болтать как бы сам по себе:
– Да, пингвины, таищ полковник, вчера передачка была по телеку, так там пингвинов показывали – ходят, разговаривают, ну прямо как… – тут Хруст неимоверным усилием воли закрыл рот.
Все присутствующие тоже как по команде закрыли рты ладонями, чтобы удержать рвущийся наружу хохот, а физиономия полковника Рубцова медленно налилась клюквенно-красным соком.
– Замечательно! – каким-то каркающим голосом проговорил он. – Тут, понимаешь, четыре трупа, разодранные черти кем… или чем… Мне наверху всю плешь проели! А у нас в отделении, этот… как его, мать… поручик Ржевский объявился! Ну, который спрашивал, как ежи ебутся. А майор Хрусталев, значит, пингвинами интересуется! За-ме-ча-тель-но, вашу мать!!.
– Я… это… – пробормотал Хруст и замолк, решительно не представляя, что говорить дальше.
– Пингвинами! – рявкнул Рубцов, и ударил кулаком по столу так, что тяжелый стол загудел. – Я вам покажу пингвинов! Вы у меня все к пингвинам, мать их, отправитесь, и я вместе с вами… Не-ет, – он погрозил всем пальцем, – я сам уйду к ебене матери на пенсию, а вам такого пингвина сюда поставят, что мало не покажется. Он вам объяснит, как надо работать, а не водку жрать и на планерках издеваться! Я вас всегда свой задницей прикрываю, а тебя, Хрусталев – это вообще отдельный разговор, а ты мне тут… – полковник горестно махнул рукой и смолк.
– Василь Иваныч, я, это… ну, словом… – начал было бубнить готовый сквозь землю провалиться Хруст, но полковник еще раз махнул рукой и буркнул:
– Всё, надоели… Идите все нах…, у меня дел по горло.
(В отличие от "Колобка" из известного сериала, Рубцов все планерки заканчивал именно таким образом – не "идите, работайте", а "идите на…", не взирая ни на присутствующих дам, ни на погоду, ни на состояние текущих дел, ни… Словом, ни на что. И никто не возражал и не обижался – его любили.)
Все выкатились в коридор, там убрали от ртов ладони, и… В коридоре раздался такой хохот, какого еще не слышали стены отделения. Смеялись все – мужики, подвизгивая и хлопая себя по ляжкам, смазливая молоденькая лейтенантша и пожилая некрасивая капитанша, утирая платочком выступившие слезы, – все, кроме Хруста. Хруст чувствовал, что ему это не скоро забудут.
И был прав.
Вот уже две недели он каждый день находил на своем столе изображения проклятых пингвинов – иногда выполненные карандашом, иногда шариковыми ручками, а один раз даже акварельными красками, взятыми, видимо из набора своих спиногрызов. Сегодня же кто-то перешел на новый рубеж и достал пластиковую фигурку… Ну, прямо, мимо тещиного дома я без шуток не хожу…
* * *
Самое смешное, Хрусту действительно понравилась та передачка по телеку, понравились эти забавные существа, так похожие на людей, передвигающиеся на задних лапах и явно что-то говорящие друг дружке.
Хрусту вообще нравились животные.
Не то, чтобы он любил с ними сюсюкать, или даже вообще любил, просто он всегда относился к ним с каким-то… доброжелательным интересом. Причем с самого детства, с тех пор, как… Да, пожалуй, с того случая, когда пятилетним карапузом в деревне, с любопытством наблюдал за квохчущими во дворе курицами, а потом подошел к здоровенной дедовской овчарке, к которой даже его бабка, хозяйка, подходила с опаской, и попытался вытащить у нее из пасти большую кость.
Двенадцать швов, которые ему наложили на руку, все считали чудом. И вполне оправданно – по всем прикидкам его детская рука должна была остаться в пасти овчарки, но…
Не осталась.
По каким-то неведомым, может быть, понятным только ей причинам злобная сторожевая собака не только не перекусила детские косточки, но даже не тронула клыками – лишь располосовала руку передними зубами, не будучи в силах преодолеть мощный инстинкт охраны своей еды. Дед пытался ему объяснить это, боясь, что у мальчонки останется навсегда страх, что он будет теперь бояться собак, но…
Мог бы не объяснять. На следующий же день, со свежезабинтованной рукой Ваня (в ту пору его домашние называли его ласково Ивушкой) вышел во дворик, подождал, пока овчарка доела свою похлебку и досуха вылизала миску, подошел к ней и стал гладить здоровенную голову и почесывать её за ушами той самой рукой, которой вчера взялся за кость. Стоявшая во дворике бабка оцепенела от ужаса, но потом, видя, что овчарка стоит спокойно, не рычит, а просто стоит и ждет, когда мальчик натешится и оставит её в покое, перевела дыхание и торопливо перекрестилась.
Овчарка действительно относилась к нему после этого вполне дружелюбно… Нет, скорее равнодушно, примерно как к кошке, которая порой приходила и ложилась возле её брюха, потягивалась, теребила лапками её огромные лапища, вообще вела себя свободно и нагло, явно ощущая себя главной и неприкосновенной. Впрочем, кошка и была главной – она была старше собаки, играла с ней, когда та была еще крохотным щенком, и поэтому… Тут все было понятно. Что же касается Ивана, то даже он не совсем понимал, ни тогда, ни потом, когда вырос и вспоминал этот эпизод, почему собака приняла, как данность, отсутствие у него и тени страха и стала позволять ему делать с собой то, что позволяла лишь одному деду – хозяину.
Трудно сказать, полюбили ли они с собакой друг друга. Вряд ли. Между ними никогда не было никаких сюсюканий, облизываний и прочих нежностей. Но когда двое соседских мальчишек постарше, играя с ним во дворике, начали по-мальчишески заводиться и толкать его уже всерьез, от будки послышалось глухое предостерегающее ворчание. А когда один мальчишка в конце концов сильно толкнул Ивана и тот полетел на землю и здорово саданулся коленкой о валявшийся там кирпич, у будки раздался короткий страшный рык, громко лязгнула цепь и…
Будь цепь чуть подлиннее, толкнувшему его пареньку вряд ли было бы суждено стать взрослым.
На следующее лето мать опять привезла Ивана к родителям в деревню, но дедовскую овчарку он уже не застал. На все расспросы дед с бабкой бормотали что-то маловразумительное (увезли… убежала погулять…потерялась), но тот самый мальчишка, который толкнул его во дворе прошлым летом, радостно сообщил Ивану, что собаку, случайно сорвавшуюся с цепи и убежавшую в поле, зарубил топором пьяный тракторист. Увидев, что у Ивана (тогда еще Ивушки) на глаза навернулись слезы, мальчишка стал радостно кривляться, приплясывая перед Иваном, и выкрикивать:
– Пойди поищи своего защитничка, Ванька-встанька-пидорас щас у нас получит в глаз!…
В глаз Ванька действительно получил, и не раз, и очень больно (мальчишка был старше и сильнее), но… Домой он вернулся после "разборки" молча и на своих двоих, а вот тот мальчишка – ползком и подвывая.
Всю ночь Ваня тихо плакал, но не оттого, что болели разбитые губы, подбитый глаз и ребра. Плакал и утром, когда к нему пришел дед и стал неумело утешать его. Плакал за завтраком, когда бабка подкладывала ему лучшие куски и бормотала, что надерет уши здоровым пацанам, которые "справились с малышом". И перестал плакать лишь днем, когда из случайно оброненных дедом слов понял, что тому трактористу после той разборки так же, как и его, Ваниному, "врагу", не удалось уйти на своих двоих. Более того, трактористу, как оказалось, уже никогда не суждено было ходить на своих двоих: его вообще еле довезли до больницы, и одну ногу пришлось отнять, а вторую спасли, правда… уже почти не гнувшуюся. ("Пускай спасибо скажет, что жив остался, – буркнул дед, – на медведя я с ней не ходил, врать не буду, а пару волков порвала, как утят, люди знают…") Тракторист, оклемавшись, грозился судом, требовал денег, но были свидетели тому, как он сам лез на пса с топором, как сам нарывался, кроме того, деда в деревне уважали и любили, и дело заглохло.
Услыхав и поняв это, Ваня плакать перестал. Навсегда. На всю свою, пока что тридцати шестилетнюю жизнь – сколько себя помнил с тех пор, ни одной слезинки у него больше никогда из глаз не выкатилось. Даже когда случалось выть от горя и тоски, даже по пьяне, даже когда хотелось зареветь (когда погиб от пьяной пальбы местной партийной сволочи дед, а меньше, чем через год, угасла бабка), но… не получалось. С того самого дня – как-то не выходило. Вернее, не вытекало. И еще, с того дня больше не было никакого Ивушки. Бабка окликнула его, когда он стоял и уже сухими глазами смотрел на пустую собачью будку:
– Ивушка, пошли обедать, я уже на стол собрала.
Он подошел к ней, поднял голову, глянул на нее исподлобья своими голубыми, отливающими в синь глазами (бабкина гордость – в материнскую породу пошел) и раздельно выговаривая каждое слово, сказал:
– Меня зовут Иван. Если хочешь – Ваня.
– Ладно, Ив… Ваня, ладненько, – растеряно закивала бабка. А вечером, говорила деду:
– Как глазенками полоснул… Прям, как ножом провел… Ох, батькина порода, ох до добра не доведет… Ох, Хрусталевы, как бы беды не накли…
– Ох-ох, – передразнил дед. – Разохалась. Повзрослел парень, вот и все дела.
– Повзросле-ел, – всплеснула бабка руками. – Шесть лет мальчонке и – повзросле-ел… Совсем ты, старый, из ума выжил! Какое там…
– Повзрослел, – твердо оборвал её дед. – И хватит болтать. А шесть – не шесть, это уж как кому на роду написано, когда мужиком стать. Годков десять ему стукнет, на охоту возьму. Вот так.
Насчет охоты дед ошибся – не лежала у Вани душа к охоте, ни в десять, ни потом, когда стал уже Иваном, даже Иваном Васильевичем, – а насчет мужика…
Пожалуй, был прав.
* * *
Дверь в кабинет приоткрылась и в образовавшемся проеме появилась круглая добродушная физиономия дежурного, толстячка-капитана Ивлева. Она – физиономия, – обвела глазами стены и потолок, опасливо глянула на майора, увидела, что тот вроде как уже перебесился, и только тогда в комнату осторожно вошел весь капитан. Вошел и неуверенно затоптался у двери.
– Ну? Чего тебе? – вполне добродушно спросил Хрусталев. – Подмести хочешь, – он кивнул на разлетевшиеся по полу мелкие осколки пластмассового пингвинчика, – тогда веник неси.
– Ты это… – смущенно ухмыляясь, пробормотал толстяк, – к Рубцу зайди. Он как пришел, тебя спрашивал.
– Ладно, зайду, – кивнул Иван. – Всё?
– Ты… это… – потоптавшись еще немного, – сказал капитан. – Про Копчика с охранником слыхал?
– Нет, – вздохнул Иван, – я это…не слыхал. Я их, в смысле, это… вчера в морге видал.
– Ну и… это… Как? – в глазенках толстяка зажегся неподдельный интерес.
– Никак, – пожал плечами Хруст. – Хреновое это, скажу тебе, Ивлев, зрелище. Можно даже сказать, очень хреновое.
– Ага… – кивнул капитан. – Говорят, опять, как и тех… Ну, это… Мол, псы какие-то, или… Странно как-то, – он озабоченно поцокал языком, – ну, бабы, там, или просто лохи какие, но Копчик… Да еще с охранником – у них же стволы и вообще…
– Что – вообще? – поинтересовался Хруст.
– Ну, это… Копчику, что пса пристрелить, что отморозка какого, как плюнуть. Да и кто ж на него так прыгнуть мог? Он же в авторитете… Ну, конечно, под Солёным ходит… то есть, ходил… Они все под ним, но… Он же на своей земле-то, можно сказать, у себя дома и чтобы так…
– Я вижу, Ивлев, ты у нас полностью в теме, все под контролем держишь, – прищурился Хруст, – так я, пожалуй, скажу Рубцу, чтоб он на тебя эту восьмерку перевел, а? Ты быстренько всё и размотаешь – вот Рубец обрадуется. Ему уже сверху по макушке стучат, а Копчик помощничком какого-то депутатика был, так что еще и оттуда будут мозги полоскать. В общем, готовься, – заключил Иван. – Говоришь, спрашивал он меня? Вот как раз сейчас зайду и скажу.
– Ты это… – забеспокоился капитан. – Ты брось, слышишь… Ты у нас старший, вот и… Ты так не шути! Я вообще на трупы смотреть не могу, я… – Ивлев понизил голос и словно по секрету, доверительно сообщил. – Я их боюсь.
– А-а, – понимающе протянул Хруст, – ну тогда другое дело. Тогда, конечно, мы тебя беспокоить не будем. Тогда мы тебя побережем. Мы Серегу Ивлева напрягать по пустякам не станем. Так что иди, Серега, к себе в дежурку и служи Отечеству дальше.
– Ага, – облегченно засопел капитан, но не вышел, а продолжал топтаться у порога.
– Ну, что еще скажешь? – зевнув и потянувшись всем своим неслабым торсом, осведомился Хруст.
Ну и здоров же, зверюга, с каким-то опасливым восхищением подумал Серега Ивлев, потоптался еще пару секунд и пробормотал:
– Тут это… Тачка у отделения какая-то торчит. Уже почти час. Бэ-эм-вуха новенькая. Я так думаю, из братвы кто-то пожаловал. Чего им тут надо, как думаешь?
– Так ты бы пошел и спросил, – пожал плечами Хруст.
– Ну, я это… – замялся Ивлев. – Я с ними как-то…
– А-а, – кивнул Иван, – понятно. Стало быть, ты не только жмуриков боишься. У тебя, значит, и с живыми проблемы. Ну, тогда не знаю, что с тобой делать, Ивлев. Тогда может тебе на курсы кройки и шитья записаться, а?
– Да иди ты, – обиженно насупился капитан. – Я просто предупредить тебя хотел. Они ведь не по мою душу заявились, а скорее всего, к тебе, это… пожаловали. И сдается мне, это как-то со жмурами этими связано, ну, с Копчиком, в смысле. Он ведь все-таки авторитетный пацан… был. Вот они, наверное, и… это, ну, дергаются, чего-нибудь разузнать хотят, разнюхать, там… Как думаешь?
– Думаю, тебе, Ивлев, на повышение пора, – задумчиво протянул Хруст. – Очень ты грамотно фишку сечешь. Зришь, как говорится, прямо в корень.
Капитан несколько секунд переваривал услышанное (с толку сбивал серьезный и благожелательный тон Хруста, впрочем, он сбивал порой с толку и людей покруче Ивлева), потом обиженно шмыгнул носом, махнул рукой и убрался из кабинета.
Иван встал и подошел к окну. За хилыми деревцами на улице стояла черная Бэ-эм-вуха. Номеров отсюда не было видно, но Хрусту и не надо было их видеть – действительно пожаловали эти. И скорее всего, Ивлев был прав – пожаловали действительно "по его душу". Ну что ж… Может, это и кстати. Может, хоть какую-то зацепку они и подкинут. На определенном этапе их интересы могут сходиться с… Ладно, сначала Рубцов – все-таки начальство.
– Ну, что скажешь, Ваня? – спросил Василий Иванович Рубцов, тоскливо глядя в тяжелую стеклянную пепельницу и прекрасно зная, каков будет ответ.
– Ничего, Вася – пожал плечами Хруст. – Ничего пока не скажу.
– Так может, тебе Иван Василич, профессию поменять, как в том фильме?
– А раскрываемость тебе Ивлев давать будет? – равнодушно протянул Хруст. – Ну и дуб же ты тогда, Василий Иванович, как в том анекдоте.
– Раскрываемость? – Рубец картинно поднял брови. – Ах, раскрыва-а-емость, – он хлопнул ладонью себя по лбу. – Как же это я упустил. Какой же я и впрямь дуб, честное слово. Хрусталев же раскрыва-а-емость дает. А что восемь жмуров на земле за три недели, так это – тьфу, семечки. Это у Хрусталева – ничего, верно?
– Верно, – кивнул Хруст. – Ты закончил?
Рубцов вздохнул, посмотрел на Ивана и… Усмехнулся.
– Закончил.
– Тогда говори, зачем звал?
Рубцов опять вздохнул, помолчал и спросил:
– Копчика видел?
– Видел.
– С экспертами говорил?
– Говорил. Все та же муть.
– Укусы-собаки-маньяки?
– Что-то вроде.
– Копчика – собаки? Ты сам-то в это веришь?
– Нет, – подумав, сказал Хруст.
– Так что же? Или – кто? Ты сам-то хоть что-нибудь думаешь? Ну, хоть какие-то… А? – Рубцов почти заискивающе, почти робко заглянул Ивану в глаза.
– Ничего, – холодно и твердо сказал Хруст, не отводя глаз от взгляда полковника и не позволяя себе мигнуть. Он хорошо знал Рубцова, знал какой жесткий и въедливый мозг скрывается за этим робким взглядом и другими подобными приемами. И не мог позволить себе расслабиться, потому что стоило хоть чуть-чуть дать слабину, хоть на секунду… Он не ошибался.
Робкий взгляд Рубца мгновенно сменился очень жестким и холодным прищуром
(словно с добродушно забавной мордочки хомяка вдруг глянули глаза другого зверя… с о в с е м другого…)
и уже совсем другим тоном, другим голосом
(вилка о нож… или нож по стеклу…)
полковник спросил:
– Ты правда ничего мне не хочешь сказать? Или может быть… не можешь? Тогда хотя бы это скажи – я пойму.
(не только мозг, у него интуиция, как у… но все равно, будь ты хоть кем угодно, а… Не поймешь! Я с а м не понимаю…)
– Нечего говорить, Вася, – слегка разве руками Хруст. – Я бы рад, но… Нечего.
– Дятлов своих шерстил? – помолчав спросил полковник.
– Угу. Ноль.
– Не хотят, – оживился было Рубцов, – или?..
– У меня не захочешь, – усмехнулся Хруст. – Или. Не знают. Хотя мандражик имеет место, и не показушный, но… Просто не в теме.
– Значит, глухо – со всех сторон?
– Пока да.
– Что ж… Радует слово пока.
– А меня – не очень, – пробормотал Хруст. – Это я больше… из вежливости.
– Вот как? – задумчиво протянул Рубцов. – Странный ты какой-то стал, Ваня… Ну, ладно, даже если и есть что-то… ты все равно не скажешь. Пока – не скажешь, – он подмигнул Хрусту, полез в ящик стола и достал оттуда какой-то исписанный листок бумаги. – Вот тебе адресок одной конторы… НИИ какой-то сраный, в общем, не важно. Подъедешь, встретишься с одним человечком – он тебя к двум будет ждать. Мне этот адресок и человечка дали по очень большому… Ну, скажем, знакомству. Или, скажем, из большущей любезности. Понял?
– Нет, – честно сказал Хруст. – А что за человечек-то? И кто его тебе дал?
– Кто дал – это тебя не касается. Это не твоего ума дело, – с каким-то непонятным раздражением отмахнулся полковник. – А вот человечек… Это, Ваня, не простой человечек. Это…Если брать экспертов, так это – все экспертам эксперт. Так мне сказал тот… кто дал. И я ему верю. Понял меня?
– Понял. Так что мне ему сказать?
– А ты ему ничего не говори. Ты его послушай. Он без чинов особых, там, ихних, без званий, но… Если он не сможет ничего путного сказать, тогда пэ-пэ. Тогда можем всех академиков в жопу себе засунуть.
– Вот так? – с едва приметной усмешкой спросил Хруст.
– Вот так, – без тени усмешки, твердо сказал Рубцов. – Человечка этого зовут, – глянул в листок, – Шнеерзон Израиль Моисеевич. Мужик он, говорят, ершистый, с характером, так что ты уж поаккуратнее, – он подвинул листок к Ивану.
– Что ему можно говорить? – спросил Хруст, взяв листок со стола и сунув, не глядя, в нагрудный карман пиджака.
– Всё, – не раздумывая, сказал полковник, и заметив легкое удивление Хруста, твердо повторил, – всё. Даже то, что ты, может, мне сейчас не говоришь. Он уже в теме, на вскрытиях в морге не был, но все снимки у него, так что… Если уж согласился встретиться с опером, то может, хоть какая-то зацепка и появится.
– А что, он нас не любит? – полюбопытствовал Хруст. – Сидел?
– Да нет, – отмахнулся Рубцов, – просто он пустобрехством заниматься не станет, и раз уж согласился на встречу, то может, что-то там и углядел. Во всяком случае, – заключил он, – кроме этого у нас с тобой ничего по сути дела-то и нет. Так что, давай.
– Даю, – кивнул Хруст, встал и двинулся на выход.
– Постой, – окликнул его полковник.
Хруст остановился, развернулся, а полковник тоже встал, вышел из-за стола и подошел к нему почти вплотную.
– Вот еще что, Ваня, – негромко сказал он. – Мне тут намекнули… Словом, дали знать, что с тобой хочет встретиться кто-то от Соленого. Или сам Соленый. Так ты… – он замялся.
Хруст поднял бровь и восхищенно вытаращил глаза на Рубцова.
– Ну, и связи у вас, таищ полковник. Сам Соленый…
– Ты дурака-то не валяй, – строго, но все так же негромко оборвал его Рубцов. – Ты… Я тебе этого, кончено, не говорил, но ты, если подкатят они, не ершись, а… Встреться. Поболтай. Он знает, что ты никогда под него не ляжешь, так что…
– Ему тоже все фишки раскрыть? – осведомился Хруст.
– Ему ничего не надо раскрывать, тем более, что… Раскрывать-то нечего, – вздохнул полковник. – Зашевелился он, конечно из-за Копчика. Непонятки на его земле ему не нужны. Все, что знаешь ты, знает и он, так что ничего из тебя тянуть не будет, да и… Нечего тянуть. Но может статься, он знает что-то, чего ты не знаешь. Поэтому просто послушай. Тут ведь их интересы могут в чем-то и с нашими, того… Пересечься. Понял?
– Понял, – кивнул Хруст, и хотя Рубцов почти слово в слово озвучил его собственные недавние мысли, не смог подавить глухое раздражение. – На его, значит земле?
– Брось, – поморщился Рубцов, – ты не у начальства на ковре. И я тебе ничего не приказывал, я даже ничего тебе не говорил. Но… Ты все-таки поговори с ним, Иван. Может, что и…
– Ладно, – пожал плечами Хруст. – Только ты уж, Вася, скажи попросту: не поговори, а побазарь, или перетри – так оно правильней будет, верно? По понятиям… Разрешите идти, таищ полковник?
– Иди, Ваня, – махнул рукой Рубцов, – у меня без тебя заморочек – во, – он провел ребром ладони себе по шее, – Иди нах…
– Уже ушел, Вася, – кивнул Хруст.
И ушел.
2.
Вернувшись в свой кабинет, Хруст достал из ящика стола пачку сигарет и дешевую пластиковую зажигалку, закурил, подошел к окну и посмотрел на улицу. Бэ=эм-вуха стояла там же, где стояла, не подавая никаких признаков жизни. Но не пустая – Хруст это знал.
Он всегда чувствовал такие вещи – стоило кинуть беглый взгляд на любую, хоть сплошь затонированную тачку, или на любое окошко в любом доме (только недалеко, на нижних этажах), как он тут же чувствовал присутствие людей в данном закрытом пространстве. Или отсутствие.
(…И не только людей, вообще живых существ… и не только присутствие, но и то, к а к и е это существа…)
Пару раз это спасло ему если не жизнь, то… Ну, скажем, состояние здоровья. Хорошая способность – для опера. Полезное свойство, или умение, или… Хрен его знает, как это назвать – Хруст не особо задумывался над этим, просто относил к тому, что называют профессиональными навыками, только…
В глубине души он знал, что способность эта – отнюдь не результат его, так сказать, профессиональной деятельности, вообще не приобретенная, не выработанная, а жившая в нем всегда. Во всяком случае, столько, сколько он себя помнил. В детстве он вообще наивно полагал, что это есть у всех, но столкнувшись пару раз с удивленной реакцией сверстников, решил до поры до времени не показывать эту способность. Он подумал тогда, что это – взрослая способность, проявившаяся у него просто чуть раньше положенного, то есть, что он раньше повзрослел. Эта мысль была приятной, но… Пару раз он небрежно продемонстрировал свое умение
(… так он тогда это называл… так об этом думал…)
взрослым и… Опять столкнулся с удивлением. Даже с настороженным удивлением. И тогда он спрятал это куда-то поглубже в себя, решив доставать лишь по мере надобности и только для себя, пока…что-нибудь не подскажет ему, для чего это вообще нужно.
И "что-нибудь" – подсказало.
"Что-нибудь" оказалось его работой, которую он себе выбрал (а может, которая выбрала себе – его), которую, порой кроя на чем свет стоял, он любил, умел делать, и что важнее всего, уважал. Уважал, несмотря на все блядство, которое творилось вокруг – и вне, и внутри той системы, частью которой он стал. С этим блядством – на разных отрезках времени называемом по разному: то кумовством, то взяточничеством, то коррупцией, то беспределом, – усиленно и громко боролись. Боролись как раз те, кто это блядство организовывал и осуществлял, и это наверное было самым большим блядством, но… Это была "фишка", сданная в этой игре, и если ты хотел играть, то играть приходилось тем, что сдано. Как говорится, хочешь – играй, не хочешь – брось. Играть порой бывало муторно, противно до бешенства, но бросить… Сдаться без игры… Такого варианта для Хруста просто не существовало.
Если бы он когда-нибудь попробовал задуматься и сформулировать для себя, как он все это понимает и видит, получилось бы примерно следующее: весь людской род, весь этот вид состоит из разных особей. Есть существа большие, сильные и…хищные, а есть – поменьше, послабее и…не хищные. Но и те, и другие принадлежат одному виду. Это не очень согласуется с Природой по Дарвину (вернее с тем изложением дарвинской теории, с которым Хруста ознакомили в средней школе), где хищники и травоядные – это прежде всего, разные виды, но… Так есть, стало быть, такие правила игры. И по этим правилам, большие и хищные не должны обижать и рвать маленьких и слабых своего вида. Не должны, но… делают это. И еще как делают, а значит… Нарушают правила, и тогда… Тогда другие большие и хищные должны эти правила защищать. Должны защищать маленьких и слабых, пускай и относясь к ним порой с неприязнью и презрением, но – защищать, пугая, давя, а иногда и рвя на куски их обидчиков. И хотя "обидчики" – тоже часть этого вида, но это – по правилам. Это – по праву. А то, к чему иногда (и довольно часто) приводит это право, то как его порой используют,
(… прямо в противоположную сторону… с точностью, как говорится, до наоборот…)
это уже относится к "фишке". К тому, как и кому она сдана, и кто и как ей играет. Потому что, кто бы и как ей ни играл, но играет он… и отвечает – лишь за себя.
Такие вот дела. Впрочем…
Впрочем, Хруст никогда об этом не думал в такой форме, никогда вообще ничего такого о себе не…
(… разве что в детстве… после той истории с овчаркой…)
Он просто был тем, кем был, может быть, тем, чем был, и делал то, что должен был делать. То, зачем вообще жил. И коль скоро способность, не видя, чувствовать присутствие поблизости
(… в стоящей неподалеку тачке… за дверью закрытого помещения… за темными, зашторенными окнами нижних этажей домов….)
каких-то существ, чувствовать, сколько их, и главное, знать, мгновенно распознавать их породу – хищную или не хищную… Если эта способность помогала ему делать то, что он должен был делать, значит…
Так надо.
Докурив сигарету, Хруст вышел в коридор, запер кабинет, спустился на первый этаж, миновал пустой "обезьянник", подошел к дежурке и сунул в окошко свой табельный ПМ.
– Ты это… Зачем? – недоуменно вскинул на него в окошке свои заплывшие жиром глазки капитан Ивлев.
– За надом, Ивлев. Подержи у себя, только смотри не перестреляй начальство, а то руководить будет некому, – буркнул Хруст.
– А-а, не хочешь брать на… это… ну, стрелку с этими, – осторожно беря пистолет двумя пальцами, как противное насекомое, и кладя на свой стол, кивнул Ивлев. – А зря. Я бы… это… взял.
– Ты бы, Ивлев, взял, – вздохнул Хруст. – Ты бы на себя еще и два Калаша повесил, и в камуфляж бы упаковался, и щеки бы мазилкой разрисовал, глянул бы на себя в зеркало и… Опоздал бы на стрелку.
– Это… Почему еще? – обиженно засопел капитан, покупаясь не столько на давно всем известную и навязшую в зубах шутку, сколько опять-таки на невозмутимую серьезность Хруста.
– Обосрался бы, – пожал плечами Хруст, отвернулся, и даже не улыбнувшись, пошел к выходу, не слушая несущийся вслед обиженный мат Ивлева.
* * *
Выйдя во дворик, Хруст полез было в карман за сигаретами, но вспомнил, что только что выкурил одну в кабинете, не стал доставать пачку, и не торопясь двинулся к воротам. Кивнув дежурному в будке, он вышел на улицу, беглым взглядом мазнул по черной Бэ-эм-вухе и подошел к своему старенькому Опелю. Следя боковым зрением за черной тачкой, он достал ключи от машины и открыл дверцу. Сигнализации на его Опеле отродясь не стояло – ни к чему.
Годика два назад, выйдя с утра из подъезда своего дома, Хруст увидел вместо своей тачки пустой кусок асфальта с небольшим масляным пятном,
(… все равно подтекает, сука… а слесарь вчера божился, что все сделал…Ну, я ему…)
и чертыхнувшись, пошел на работу пешком, благо до отделения было всего две автобусных остановки. По дороге он набрал на мобильнике номерок одного своего "дятла", и вежливо поинтересовавшись, как дела, сообщил, что идет на службу пешком по причине угона своего личного транспорта. В трубке помолчали, а потом хрипловатый голос пробормотал:
– Ван Силич, это… Вы шутите так? Это ж… бред какой-то. Вы…
– Я так рано утром шучу только с женским полом, да и то.. редко. Ты, вроде как, удивлен, или мне показалось? – беспечным тоном осведомился Хруст.
– Да я… – "дятел" хорошо знал, что может повлечь за собой этот беспечный тон, поэтому говорил с придыханием. – Я, Ван Силич, просто ушам своим не верю! Я…
– Так вот, ты скажи другим ушам, что я – тоже удивлен. И постарайся, чтобы они тебя услыхали.
На этом Хруст разговор закончил и до конца рабочего дня занимался другими проблемами, выкинув из головы мысли о тачке и лишь иногда с раздражением вспоминая о подтекающем масле и раздолбае-слесаре.
В конце дня, выйдя из ворот отделения, он увидел свой свежевымытый Опелек, стоявший на своем обычном месте. Отрыв дверцу, он обнаружил на водительском сиденье листок бумаги с лаконичной надписью: "Извини! Больше не повторится." Больше, действительно, не повторялось. Вот, собственно, и все. Кроме, разве того, что масло больше не текло, а потому раздолбаю слесарю, можно сказать, повезло…
Задняя дверца Бэ-Эм-Вухи распахнулась. Хруст ожидал, что из нее вылезет обычный коротко стриженный "качок", ему даже хотелось, чтобы вылез и подгреб к нему именно качок, на котором можно было бы сорвать паршивое настроение, но… Из машины вышел молодой парень, совсем не похожий на "качка" – стройный, в строгом костюме, при галстуке и, как говорилось в детстве Хруста, с "модельной стрижкой"
(… очень похожей на ту, которую Хруст с легким удивлением увидел пару лет назад у молодого священника, отпевавшего в морге городской больницы приятеля и сослуживца… не по нынешней службе, а по прежней – по спецназу… По очень…спецназу…)
и даже с небольшим и явно дорогим кейсом. Неторопливой походкой делового человека парень подошел к Хрусту, и вежливо наклонив свою модельную стрижку, негромко произнес почти без вопросительной интонации:
– Простите… Хрусталев? Иван Васильевич?
Хруст кивнул.
– Простите, что не представляюсь. С вами хотел бы встретиться и поговорить Виталий Сергеевич.
– А кто это – Виталий, м-мм, Сергеевич? – изобразив легкое недоумение и даже приподняв брови спросил Хруст.
– Виталий Сергеевич, – бесцветным голосом повторил парень, держась все так же спокойно, но явно напрягшись где-то внутри. – Если вы сейчас не заняты, то он ждет в кафе – в двух кварталах отсюда, называется…
– Я знаю как оно называется, – перебил его Хруст. – И пожалуй, сейчас не особо занят, так что…
– Очень хорошо, – быстро и с заметным облегчением, произнес парень… нет, молодой человек – слово "парень" к нему как-то не очень шло.
(… Кого-то он отдаленно напоминал Хрусту… что-то давнее…)
– На своей поедете, или может, мы подвезем?
Хруст выдержал паузу, потом задрал голову, прищурился на мартовское солнце и захлопнул дверцу своего Опеля. Молодой человек уже совсем расслабился и сделал любезно приглашающий жест рукой в сторону черного Бэ-Эм-Вэ, но Хруст отрицательно качнул головой.
– Пешком пройдусь, – сказал он, отвернулся и неторопливо двинулся по тротуару в сторону хорошо известной ему кафешки.
Через минуту за его спиной раздалось мягкое ворчание мощного двигателя и черный Бэ-Эм-Вэ рванулся за ним, мимо него, и… очень ловко и плавно затерялся в потоке транспорта.
Минут через десять Хруст толкнул тяжелую стеклянную дверь кафе с висящей за стеклом табличкой "ЗАКРЫТО", зашел внутрь и цепким взглядом охватил весь небольшой зальчик. Два "быка" стояли у самого входа и настороженно смотрели на Хруста, еще четверо – сидели за столиком, ближе к стойке бара, еще один небрежно облокотился на стойку и двое вполне приличного вида (один из них – уже знакомый молодой человек в дорогом костюмчике) – за столиком в центре зала. Все они, казалось, не имели никакого отношения к пожилому гражданину, сидевшему совершенно отдельно и ковырявшему вилкой в салате. Все они как-то подчеркнуто и напряженно не смотрели на него, словно старались скрыть какие-то невидимые ниточки, связывающие их с ним, но "ниточки" эти были так же невидимы, как нитки, соединяющие пальцы актера-кукольника с его, так сказать, подопечными – с куклами. Все они были явно напряжены (Хруст чувствовал это), включая и парня, стоявшего в лениво-расслабленной позе у стойки (он – сильнее всех) – все, кроме… "кукловода". Пожилой гражданин действительно не обращал никакого внимания на остальных, ел свой салат и запивал его мелкими глотками прозрачной жидкости из фужера на тонкой ножке.
Один из стоявших у входа быков подошел к Хрусту, потоптался, оглядывая его фигуру и спросил:
– Оружие есть?
– А ты обыщи, – не двигаясь, негромко предложил Хруст.
Бычок замешкался, неуверенно оглянулся на своего напарника, словно спрашивая, что ему делать, но делать ничего не пришлось. Молодой человек, быстро и бесшумно оказавшийся у него за спиной, тронул его за локоть и так же негромко, как Хруст, сказал:
– Не нужно, – а потому с легкой улыбкой, обращаясь к Хрусту: – Вы же чистый, Иван Васильевич?
Хруст молча пожал плечами.
– Проходите, пожалуйста, – он сделал любезно приглашающий жест и махнул в сторону столика, за которым сидел пожилой "кукловод", – вас ждут.
Хруст двинулся в указанном направлении, слегка задев плечом еще топтавшегося на месте бычка, подошел к столику пожилого гражданина, и не дожидаясь приглашения, уселся на стул. Пожилой гражданин оторвался от салата, посмотрел на Ивана и отложил вилку в сторону.
– Ну здравствуй, Иван Васильевич Хрусталев, – сказал он, изобразив на лице что-то, похожее на приветливую улыбку. Он действительно попытался изобразить на своем лице это, но получилось плохо, и не потому, что лицо было каким-то злым, там, или не приветливым, а просто… Просто данное лицо было не предназначено для такой мимики. Получилось так, как если бы попыталось улыбнуться какое-нибудь существо… ну, скажем, типа ящерицы.
– Здравствуй, Соленый, – кивнул Хруст.
– Так, значит, сразу быка за рога, – усмехнулся Соленый и укоризненно покачал головой, – а я, между прочим, тебя по имени отчеству. К тому же я – старше, так что ты мог бы и повежливее.
– Мог бы, – подумав секунду, – сказал Хруст. – Здравствуй… Виталий Сергеевич.
– Что ж, – помолчав, пожал плечами Соленый, буравя Ивана своими выцветшими, глубоко запавшими глазками, – будем считать, есть контакт. Спасибо, что уважил старика и пришел… Хруст.
– Это моя работа… Соленый, – не отводя взгляд от уставившихся на него глаз и не мигая, – ровным голосом проговорил Иван.
– Ага, – кивнул тот, – стало быть, ты сейчас как бы на оперативном задании… Ну что ж, ладно, если тебе так удобнее… Ты, Хруст, в районе личность известная, можно сказать, легендарная, и порядок здесь блюдешь, как надо. Я – тоже за порядком присматриваю, хотя и… так сказать, с другой стороны. Но порядок-то, он – один, можно сказать, общий, а потому в каких-то случаях нам с тобой делить нечего и даже стоит… ну, как это…
– Сотрудничать, – вежливо подсказал Хруст.
На ящероподобном лице на мгновение возникло выражение… уже больше подходящее ящерице, чем приветливая улыбка.
– Не лови меня на слове, – буркнул Соленый. – Ты прекрасно знаешь, что сотрудничать ни я с тобой не могу, ни ты – со мной. – За такое… меня положения лишат, а могут и на ножи поставить, да и тебя твое начальство… Так что ты все-таки за базаром-то следи, тем более, я ведь тебя позвал не базарить, а просто… побалакать. В смысле, поговорить.
– Что ж, давай, говори, – пожал плечами Хруст.
– Вот я и говорю. Значит так… На земле, за которую и я отвечаю, и ты отвечаешь, происходит… Хрен знает, что. Восемь жмуров, а концов – никаких. Ни – как, ни – почему. Ну, насчет "почему", это еще пол беды – мало что ли отмороженных по нашим степям бродит? Рано или поздно что-то проклюнулось бы, а вот – как… Это уже плохо. Насчет собачек бродячих мы вообще балакать не будем. Сам понимаешь, собачки против Копчика с волыной, да еще не одного, а с шестеркой – это херня. Это просто бред сивой кобылы, верно?
– Верно, – кивнул Иван. – И верно то, что не будь Копчика среди восьмерки жмуров, ты бы не задергался. И уж конечно…
– Нет! – негромко, но сильно перебил его Соленый, и Хруст почувствовал, почти увидел, как в тускло светящемся золотыми коронками рту Соленого влажно блеснули звериные клыки.
(… хищное существо, прятавшееся за неброским костюмчиком и изношенной оболочкой человеческого тела, таившееся в этой, жалкой на вид, оболочке, заворчало и… обозначило свое присутствие… намеренно обозначило…)
– Мне из-за Копчика дергаться не по чину. Я таких, как Копчик, на хую вертел. Нет, – Соленый нахмурился и предостерегающе поднял узловатый указательный палец правой руки, – он, конечно, правильный был пацан, и разобраться здесь надо, но… Разобраться, а не, как ты выразился, дергаться. Дергаться из-за него по-хорошему тебе бы следовало, – он усмехнулся, – как никак твой крестник. Ты ведь и кликуху– то через него получил, так ведь? А он – свою, не забыл?
Иван тоже усмехнулся. Он не забыл. Он помнил тот случай, но не столько из-за Копчика и своей "кликухи", сколько…
* * *
С двумя дежурными ментами Иван тогда поехал в местный пивной бар с ласковым названием "Ивушка" – не пиво пить, а брать, или если угодно, хомутать, не в меру расшалившегося местного хулигана, Ваську-обормота (так его звала собственная мамаша, часто рыдавшая у Хруста в кабинете, то в смысле "отпустите сыночку, без папаши рос", то – "заберите стервеца, житья от него никому нету"). Обормот Васька, здоровенный двадцати двухлетний амбал, давно уже тянулся на зону, а сейчас вообще был в розыске за две угнанные тачки и развороченный хлебальник владельца одной из них, и… Тут как раз звонок из "Ивушки".
Войдя в кабак (обычно чистенький и вполне приличный), Иван увидел много валявшихся на полу стульев, разбитый вдребезги пластиковый столик, несколько испуганно жавшихся к стенке посетителей и Ваську-обормота, державшего за грудки какого-то длинноволосого парня и чего-то ему, парню, втолковывавшего. Рядом с ними крутилась, заламывая руки, плачущая девчонка, и судя по жестам и бессвязным восклицаниям, умоляла Ваську отпустить с миром её кавалера, который по её же восклицаниям, "просто-ну-пожалуйста-пошутил-не-про-вас". Кавалер, методично встряхиваемый Васькой, ничего не восклицал и вообще мало чего понимал, ввиду почти полной отключки, опять же по причине то ли разбитой (явно Васькой) физиономии, то ли пьяного недоумения. Еще двое длинноволосых ребят валялись на полу, суча ногами и руками, но не делая попыток подняться – не из-за особых травм (как машинально отметил для себя Иван), а по причине вполне понятного и естественного страха. В общем, картина была ясная, понятная и (как показалось навскидку Ивану) не особо опасная.
– Хорош, Вася, – негромко, но звучно, проговорил Иван, – отпусти пацана и двигай ко мне.
Васька его услышал. И пацана отпустил. Ничего другого Иван и не ожидал – он и тогда уже, пять лет назад, был вполне известной фигурой районного масштаба, во всяком случае, достаточно известной, чтобы такая шваль, как Васька-обормот, просыхала и прочухивалась при одном его появлении, но… Дальше произошло то, чего Иван не ожидал.
Оттолкнув лохматого пацана (тот отлетел к стенке пивняка и вяло сполз по этой стенке на пол), Васька схватил за курточку бестолково мечущуюся возле него девчушку, притянул ей к себе спиной, облапил ручищей за талию, другой ручищей достал из кармана вполне не законное перо – нехилую заточку с наборной рукояткой, – приставил это перо к девичьей шейке (в лучших традициях американских боевичков) и рявкнул:
– Пушки на пол, мусора сраные, а не то башку ей отрежу!..
…
Никаких "пушек" у "сраных мусоров" в руках не было. В кобурах у двух дежурных ментов, конечно, торчали табельные стволы, но менты про них и не вспоминали – они же шли с капитаном, просто так, для порядка, и чего ради доставать какие-то "пушки", если идешь на бытовуху с Хрусталевым. У Ивана же (он был в "штатском", т.е. в своем обычном "прикиде" – джинсы и турецкая кожанка) ствола вообще с собой не было. Тем не менее, налитые кровью и кайфом (то ли алкогольным, то ли "травочным" или "колесным", а может, и тем и другим) глаза Васьки ясно говорили: сейчас он может. И менты осторожно, не делая резких движений, потянулись к своим кобурам, напоказ выставив разведенные указательные и большие пальцы, давая Ваське увидеть, что они тянутся к "пушкам" не для стрельбы, а для того, чтобы четко выполнить Васькино распоряжение – "пушки на пол".
Краем налитых кайфом глаз Васька это увидел и удовлетворенно хмыкнул. Краем – потому что при всем своем кайфе он понимал: смотреть прямо надо на Ивана. Он и смотрел на него прямо, но…
Из того, что последовало далее, он практически ничего не увидел. И ничего вразумительного на всех пристрастных допросах потом сказать не мог. (А пристрастных допросов было много – и со стороны дружков, и с другой стороны, поскольку Иван уже тогда заработал на свою жопу достаточно недоброжелателей в своем, так сказать, кругу.)
Ивана от "сладкой парочки", в смысле Васьки с девкой, отделяли метров пять-шесть. Потом, или вернее, вдруг Ивана от "сладкой парочки"… Не отделяло ничего – он оказался в непосредственной близости к Ваське и девчонке (застывшими все в той же позе). Потом Иван без замаха вмял кулаком нос Васьки-обормота в то, из чего этот нос произрастал. Ваську от этого действия швырнуло к пивной стойке бара, он треснулся об нее (стойку) всем своим туловищем и рухнул на пол ("прямо на копчик-бля", как со смехом рассказывал сокамерникам в СИЗО), приняв положение сидящей под прямым углом куклы. Именно куклы, потому что ничего человеческого, в смысле, живого, в нем в тот момент не наблюдалось, да и "кукла" лицом была мало похожа на человека, поскольку у человека все-таки должен быть какой-никакой нос, а у нее, у "куклы" этой носа как-то вроде и не…
Какое-то подобие носа ему кое-как соорудили в тюремном госпитале, но по правде говоря, назвать это "носом" в полном смысле слова… Адвокат брызгал слюной, убеждая Ваську накатать заяву на опера, обещал дойти до какого-то там "верха", себя не пожалеть, а оперу-садисту пистон вставить, но Васька адвоката послал, никаких заяв катать не стал, получил причитающийся ему пятерик за тачки и прочие мелочи (эпизод с девчонкой из дела был изъят) и отбыл на зону. В зоне эпизод с девчонкой получил широкую огласку, серьезные люди с интересом рассматривали его, условно говоря, нос и просили подробностей, но Васька со смехуечками твердил лишь "сел-бля-на-копчик", а про сам удар говорил, что помнит только, как "хруст в ушах стоял". От этих выражений Васька получил от братвы законное погоняло "Копчик", а Иван – уважительную кликуху "Хруст". На зоне Копчик, что называется, поднялся. Выйдя на волю через два с половиной года, он тут же лег в дорогую клинику, где ему соорудили вполне приличную и даже элегантную носяру, и когда он вечером подошел к выходившему из дворика отделения Ивану, тот в первые две секунды его даже не узнал – к нему подошел не туповатый рыхлый амбал Васька, а довольно подтянутый, неплохо накаченный и довольно серьезный пацан.
– Ну, здравствуй, Хруст, – сказал он, глядя на Ивана вполне доброжелательно и даже как-то весело.
– Оперуполномоченный Хрусталев, – поправил его Иван, и мгновенно почувствовав отсутствие всякой угрозы, добавил, – для тебя по старой дружбе Иван Васильевич.
– Принято, – спокойно кивнул Копчик. – Я вот что хотел сказать… м-мм, Иван Василич, меня тогда с этой девкой словно бес попутал. Ну, водяра, пивко, да еще травки чуток, словом… Переклинило в башке, проводок какой-то не туда замкнулся. И на тебя я не то, что зла не держу, а даже можно сказать… благодарен.
– Ну-ну, – с сомнением в голосе буркнул Иван – в "благодарность" таких, как Копчик, он слабо верил, но с другой стороны чуял, что парень действительно зла не держит.
– Не сомневайся, – твердо сказал Копчик. – Я бы и ту девку нашел, чтобы извиниться, но она ведь, как меня увидит, сразу трусики намочит, так что… Вот тебе решил сказать, чтобы никаких непоняток у нас не было. Я и всем так говорил, и там, и вообще… Врезал ты мне по делу, ну… В общем, правильно уделал.
– Принято, – помолчав, кивнул Иван.
– Ну, ладно, – сказал Копчик, – тогда бывай… – он развернулся, сделал пару шагов, но потом вдруг остановился и снова повернулся к Ивану. – Слушай, а ты тот эпизод с девчонкой ни в каких рапортах и вообще не писал, потому что… думал, я тогда на тебя заяву настрочу, или?..
– Или, – пожал плечами Иван.
– Ага, – с каким-то удовлетворением кивнул Копчик, – я так и знал, хотя адвокатишка…
– У тебя всё? – спросил Иван.
Копчик как-то неуверенно пожал плечами, а потом неожиданно, каким-то рывком, словно преодолев некий барьер, вскинул глаза и уставился на Ивана.
– Я ведь глаза твои помню, – как-то хрипловато и с натугой выговорил он, – когда ты рядом со мной оказался… До сих пор помню.
– Ну, и что меня такого с глазами было? – нахмурился Иван.
(он тогда, в те считанные секунды как-то странно видел… как-то цвета все… то ли пропали, то ли поменялись… а главное с а м не помнил, как преодолел те пять-шесть метров, отделявших его от…)
– Не знаю… – покачал головой Копчик. – Я помню, но… Не хочу вспоминать, Хруст.
– Ну ладно, – усмехнулся Иван, – когда захочешь, скажешь… Копчик.
– Вряд ли, – подумав ответил тот. – Я одно скажу: не дай Бог мне еще раз такие увидеть. Я, знаешь, на многое там нагляделся, но … Не дай Бог. Пошел я, будь здоров, Иван Василич.
Постараюсь, подумал Хруст, глядя в удаляющуюся спину Копчика, обтянутую дорогой кожей, с вами попробуй заболеть, вмиг сожрете – не ты, конечно, у тебя-то пока зубов не хватит, но есть ведь и Соленые, и Мореные, и… словом, другие… С о в с е м другие.
* * *
… А вот все это вместе… – между тем, пока Иван отвлекся на воспоминания, развивал свою мысль Соленый. – Тут ведь главное – даже не разобраться. Ты ведь не дурак, Хруст, и понимаешь, что если это будет продолжаться, то с нас с тобой спросят. С меня – мои, с тебя – твои. И порожняк тут гнать без толку, придется ответить, а отвечать пока что – нечего. А потому, – он опять выставил указательный палец, – с этим, прежде всего, надо кончать. Надо это закрыть, понимаешь?
– Понимаю, – помолчав, сказал Иван. – Но закрыть можно только разобравшись. Ты хочешь сказать, что жмуров больше быть не должно. В смысле, таких жмуров. Что ж, я согласен, но… Может, ты знаешь, как это сделать? Тогда подскажи, потому что я пока что… – Хруст развел руками.
– Я знаю, – кивнул Соленый, – знаю, что ты, мент по жизни и опер от Бога, пока что, – он тоже слегка развел руками, скопировав жест Хруста, – ничего не нарыл.
– Соленый, а ты веришь в Бога? – неожиданно для себя спросил Иван.
– Ну… – его собеседник слегка нахмурился, – в церкву, конечно, хожу, как положено, а так… С чего это ты?
– Сам не знаю, – честно сказал Иван, – просто… спросил. – Ладно, говори, зачем звал, а я послушаю.
– Скажу, – кивнул Соленый. – Тебе кое-что скажу. Но ты для начала не послушай, а почитай-ка вот… – он полез во внутренний карман пиджака, порылся там, достал слегка пожелтевший сложенный вчетверо газетный листок и протянул его через стол Хрусту.
Хруст развернул листок, ухватил взглядом значок "МК" и заголовок заметки: "ТИГР В ПОДМОСКОВЬЕ"11, – и вздрогнул – внутри вздрогнул, вполне незаметно для собеседника, поскольку умел контролировать свои эмоции.
– Я медленно читаю, – сказал он, равнодушно глядя на Соленого.
– Ничего, – буркнул тот. – Я подожду.
Хруст углубился в чтение:
Тигр в подмосковье?
Кровавая разборка произошла вчера ночью в подмосковном дачном поселке К…ево. На хорошо охраняемой даче, принадлежавшей начальнику службы безопасности очень серьезной и влиятельной коммерческой структуры (по слухам, тесно связанной с криминалом), были найдены тела: самого владельца дачи, его шефа – главы этой самой коммерческой структуры (по слухам, одного из крупных авторитетов преступного мира), нескольких охранников, сторожа и двух сторожевых собак. В наше непростое время уже трудно удивить кого-то подобными фактами, ставшими частью нашей повседневной жизни, но вот что удалось узнать Нашему Корреспонденту из источника в правоохранительных органах (разумеется, пожелавшему остаться неизвестным): за исключением сторожа, все находившиеся на даче были убиты без применения какого-либо оружия, поистине зверским образом – в самом прямом смысле этого слова. По первым заключениям экспертов (сведения из того же источника) чудовищные раны и увечья могли быть нанесены каким-то очень крупным зверем. По отпечаткам лап, сохранившимся на заснеженной территории дачного участка (0.75 га), а также по характерным особенностям увечий (прикус, строение челюстей, размеры клыков и когтей) эксперты склоняются к тому, что речь идет об одном из самых крупных представителей семейства кошачьих, Panthera tigris – проще говоря, натуральном т и г р е, – хотя по каким-то научным расхождениям пока не могут точно классифицировать животное. Мы сразу же связались с дирекциями цирка и Московского зоопарка, но на вопросы о пропаже каких-либо крупных хищников получили однозначный отрицательный ответ: «Никто не сбегал, все звери на месте – можете приехать и убедиться сами.» Ну, что ж, нам уже приходилось писать о не всегда безопасных забавах «новых русских» с различными экзотическими животными, типа змей, ящериц и даже крокодилов, ввезенными контрабандой в нашу страну. Похоже дело дошло уже до тигров. Единственным утешением для жителей близлежащих деревушек может послужить лишь клятвенное заверение того же источника из правоохранительных органов: после тщательного изучения местности никаких следов крупных хищников за пределами дачного участка, на территории которого произошла зверская разборка, не обнаружено. Так что мы могли бы сказать, спите спокойно, господа селяне, если бы не, увы, простой факт, зафиксированный в протоколе осмотра места происшествия: никакого хищника, за исключением мирно дремавшей в предбаннике сауны (цокольный этаж) годовалой кошки с четырьмя котятами, в доме и на участке также не обнаружено.
P.S. По непроверенным данным на месте происшествия кроме тела сторожа был найден еще один не обезображенный труп – молодой женщины 25-30 лет, – завернутый в брезентовую ткань, лежащий неподалеку от свежевырытой ямы. Если верить этим данным, хищник-невидимка не трогает женщин и стариков, так что селянкам и пожилым селянам можно попробовать пожелать спокойных ночей – во всяком случае до тех пор, пока господа из «новых» не завезут в страну менее разборчивых тварей.
«Московский пи..болец» от 26 февраля 199.. г.
Когда он закончил, то уже не вздрагивал внутри – внутри у него все вибрировало, но… Он действительно умел себя контролировать, поэтому внешне оставался вполне спокойным и даже равнодушным. Хотя и не счел нужным скрывать заинтересованность – слишком уж проглядывалось сходство, и изобрази он полное равнодушие и непонимание, Соленый мгновенно уловил бы фальшь.
– Занятно, – задумчиво проговорил он. – Определенная схожесть имеет место, но… Во-первых, газетенка желтая. Во-вторых, за городом в принципе мог появиться какой-то зверь – ну, тигр-то вряд ли, но…
– Желтая, не желтая, но во-первых, это было, – перебил его Соленый. – Года полтора-два назад. Во-вторых, там, – он кивнул на газетный листок, который Хруст так и держал в руках,
(почему-то не мог выпустить из рук… не мог положить на столик…)
– была такая охрана, что никакой зверь не… Да что зверь, того, кого они охраняли, вообще никто не мог пришить, ни зверь, ни… Разве что, – Соленый вдруг усмехнулся,
(… без всякого смеха… как-то с т р а ш н о усмехнулся…)
- сам… Ты спросил, верю ли я в Бога? Не знаю, не задумывался, но тогда, – он опять кивнул на газетный листок, – я был готов поверить в дьявола.
– Интересно, – пробормотал Хруст, – почему же я ничего не слыхал… Это было… – он глянул на дату, выведенную в уголке листка мелким шрифтом, – почти два года назад. Почему же я ничего… Ни на Петровке, ни в Главке никто об этом…
– Через день это дело с Петровки забрали. Железные. Ну, в смысле, гэбуха… Они же заткнули рты журналюгам.
– Знакомая картина, – кивнул Иван. – Но даже за один день что-то должно было просочиться. Ну, хотя бы слушок…
– Они всем заткнули пасть. Как следует. Что тебе рассказывать, ты же знаешь, они – могут.
– Но почему? Хотя… Подожди, – Хруст собрался с мыслями, – Ты сказал, кого они охраняли… А что, если с этого места поподробнее? Тут сказано, крупный предприниматель, один из авторитетов… Это что, законник был, вор в законе? – он посмотрел Соленому прямо в глаза и с удивлением увидел, как тот как-то тоскливо отвел взгляд в сторону. – Не можешь сказать? Или не хочешь? Тогда зачем звал? Зачем весь этот базар, для галочки?
– Да сказать-то… – опять как-то тоскливо буркнул Соленый. – Не поймешь ты, если скажу.
– Потому что глупый? – осведомился Хруст.
– Стал бы я с глупым балакать, – отмахнулся Соленый. – Не поймешь, потому что тут объяснять надо, а вот объяснять-то, – он каким-то воровато-хищным взглядом вдруг окинул весь зал кафешки, всех своих шестерок и уставился на свой фужер. – Может выпьешь немного? Хотя… Знаю, со мной не станешь
– Выпью, – неожиданно для самого себя сказал Хруст. – Закажи того же, что сам потребляешь.
Соленый слегка повернул голову к стойке. Облокотившийся на стойку парень тут же оказался рядом, а его ухо оказалось в непосредственной близости ко рту Соленого. Соленый шевельнул губами, парень кивнул, вновь оказался у стойки, потом за стойкой, потом исчез за дверью за стойкой, потом появился с фужером на тонкой ножке – точно таким же, какой стоял перед Соленым, – потом фужер оказался на столике перед Иваном, а парень оказался в прежней скучающей позе у стойки бара. Все это заняло секунд сорок. Иван взял почти доверху налитый фужер, кивнул Соленому и сделал хороший глоток – так примерно на треть фужера. Там оказался чистый джин.
– Так вот, – продолжил Соленый. – Объяснить-то я как раз ничего и не могу. Я… – он вздохнул, отпил из своего фужера и как-то уныло сгорбился. – Я могу тебе байку рассказать, но ты эту байку никому не повторяй, если… Если жить хочешь. Ни корешкам своим, ни блядям каким. Ну, разве что, Рубца можешь спросить, но он тебе то же самое скажет. А другим – ни-ни. Ты мне веришь?
Хруст пожал плечами и сделал еще один глоток из фужера. Примерно такой же, как первый.
– Ну, ладно, – помолчав, сказал Соленый. – Молчание знак согласия. Я хоть и без короны пока что, но кое-какое положение имею… И ты знаешь, зря пиздеть не буду. Вот ты спросил, в законе тот был, и вроде как обиделся, когда я сказал, что не поймешь. Ладно, отвечу на вопрос. Он был вне закона. Ну, или… как бы за законом. Понял?
– Нет, – подумав секунду, честно ответил Хруст.
– Вот видишь. А ты ведь не глупый, просто… Просто послушай одну байку. Ну, из жизни каких-нибудь… Голубей, что ли. Значит, так, – Соленый задумался на секунду, – бывает, что на зоне, ну, на ихней, голубиной, зоне…
– Кончай тюлю гнать, – поморщился Иван, – говори нормально, или… вообще не говори.
– Ладно, – с заметным облегчением сказал Соленый. – В общем, на зоне бывает так, что кто-то должен помереть. Кто-то очень серьезный. Так надо, понимаешь? Но с другой стороны, он помереть не должен. Так тоже надо, вернее… Не надо. Чтобы он помер. Никому не надо. Ни вашим, ни нашим, ни железным, ни деревянным – никому. И тогда…
– Ну, что тогда? – спросил Иван.
– Тогда… – Соленый вздохнул, – тогда он помирает. Его – помирают. Знаешь, так чисто реально… Как эти сейчас говорят, – он усмехнулся, – чисто конкретно. Но потом… Потом на воле появляется другой. И этот другой – он…
– Это он же?
– Я тебе этого не говорил, – твердо, без всяких колебаний, сказал Соленый. – Я тебе только одно могу сказать: этот другой, он… Он – неприкасаемый. Он, ну как бы – бессмертный. Его убить нельзя, потому что он – уже мертвяк. А как можно замочить мертвяка? Никак. Это – то, чего не может быть. Никогда не может быть, но… Это было. Я тебе про охрану говорил, но такому охрана нужна только от случайностей. От отморозков, там, каких-нибудь, шпаны беспредельной … Но не от наезда. А на него наехали и… Замочили. Вот и получается, что случилось то, чего не может быть. Теперь понял?
– Понял, – кивнул Хруст, медленно переваривая и быстро в уме обрабатывая полученную информацию. – Понял, что это только одна половина того, что ты хотел мне… Давай вторую.
– Ты ушлый парень, Хруст, – помолчав, уважительно сказал Соленый. – Вот тебе вторая. Годика полтора назад имел я толковище с одним… серьезным мужиком. Серьезный-то он был серьезный, но, как говорится, подставился, и… Получилось так, что не только сам подставился, но и других подставил, куда более серьезных. Так что нашему серьезному по всему кранты выходили, и он это понимал. И знал, но… думал, что я еще за него могу словечко замолвить, понимаешь?
– Понимаю, – кивнул Хруст.
– Ну вот… – Соленый собрался с мыслями. – Он, конечно, понимал, что за соломинку хватается, но других соломинок у него просто не было. А когда смерти в глаза смотришь, за что угодно ухватишься, вот он и… – Соленый замолчал, углубившись в какие-то свои раздумья, а может, подбирая какие-то с его точки зрения правильные слова, словно боясь сказать лишнее.
– Ну, так что? – не выдержал Иван.
– Не нукай, не запряг, – огрызнулся Соленый, но огрызнулся не злобно, а чисто рефлекторно. – Значит, он мне так говорит: "Знаю, Витек, – а мы с ним не то, чтоб корешами были, но друг друга прилично знали, так вот, – Знаю, Витек, что если сможешь, ты за меня голос подашь, а не сможешь, так, значит, тому и быть… Но как бы там ни было, хочу тебе один подарок сделать…" – Ну, я говорю, делай, коли желание такое имеешь. Он тогда мне про это вот напомнил, а это тогда ведь свежачком было, и говорит: "Знаю я кое-что, чего окромя меня никто не знает". Ну, мандраж, не мандраж, но честно скажу, мне как-то неуютно стало. Зачем, говорю, нам с тобой в такое лезть, это не твой и не мой уровень… А он: "Я ж тебе не лезть предлагаю, а просто информашку скину, а уж как ты с ней… Мало ли, когда пригодиться". Ну, скидывай, говорю – тут он прав был, мало ли что когда пригодится, хотя… Бывает, лучше не знать, чем знать… В общем, я говорю, давай, мол, скидывай свою информашку, а он достает фотку и говорит: "Не спрашивай, как она ко мне попала, но… тот, кто дал, шепнул, что этот… Ну, который главного стерег, вот этим вот фраерком в последнее время интересовался. Ты, Витек, не сомневайся, про то ни ментура, ни гэбуха, ни братва – никто не знает, потому как все, кто знал, уже на том свете парятся". А тот, кто шепнул тебе, спрашиваю. "И тот – тоже", – говорит.
– Который главного стерег… – задумчиво сказал Иван, глядя в газетный листок. – Тут его называют шефом службы безопасности того… Ну, отставник, значит, гэбэшник бывший…
– Отставни-и-к, – с какой участливой жалостью глядя на Ивана, протянул Соленый и покачал головой. – Ты, видать, не понял ничего, или вид делаешь. Он такой же отставник… был… как ты, Хруст – участковый. Там, – он указал глазами на газетку в руках Ивана, – еще неизвестно, кто кого стерег и кто главный… был.
– Ну, ладно, – пожал Иван плечами, – фотку-то дашь?
Соленый отпил из своего фужера, пожевал губами, полез в карман пиджака, и вытащив слегка помятый прямоугольник черно-белой фотографии, поднес его лицевой стороной к прищуренным глазам Хруста – не очень близко, но так, чтобы Иван мог разглядеть как следует. Хруст потянулся было рукой к фотке, но Соленый, не дергаясь, просто отрицательно покачал головой и спросил:
– Посмотрел?
– Посмотрел, – как следует вглядевшись и запечатлев в памяти лицо мужика, – кивнул Хруст.
(… Мужик, как мужик, ничего примечательного… Лет сорока пяти, может, ближе к полтиннику… прикид приличный, но не более того… Не лох, но и не деловой… фотка была – 10х15, но теперь отрезанная, значит, кто-то рядом был, в паре…)
– С собой не дашь?
Соленый взял со стола зажигалку, щелкнул ей, поднес язычок пламени к фотографии, и когда та занялась, бросил горящий картонный прямоугольничек в пепельницу.
– Чего не дам? – подняв брови, спросил он.
– Вот так, значит… – вздохнув, пробормотал Хруст, а Соленый просто пожал плечами. – А фраерка этого ты щупал?
– Какого фраерка? – опять поднял брови Соленый.
– Ну ладно, – помолчав сказал Иван и допил свой фужер. – Вижу, дальше разговора не будет, так что… пойду. Сколько с меня за пойло?
– Подожди, – буркнул Соленый. – Не гони. Я… – он наморщил лоб, – Ты пойми, если тот корешок мой, царство ему небесное, мне просто пустышку кинул, так, за фуфловую соломинку решил схватиться, то фраерок этот ни при чем, и о чем мне с ним базарить? А если… Если не пустышку, тогда… – Он как-то устало вздохнул. – Тогда это не фраерок, а… вообще хрен знает кто. И тогда я не то что щупать, я к нему на километр не подойду и ребят своих не подпущу. Я если его на улице встречу, на другую сторону перейду. И это, Хруст, – он глянул Ивану в глаза тяжелым, очень тяжелым взглядом, – не очко у меня играет. Я как-никак все ж таки смотрящий, и у меня свои понятия имеются. И по понятиям я найти свою башку в мусорном баке не должен.
– А мою, по понятиям, значит – пожалуйста? – спокойно выдержав его взгляд, с усмешкой осведомился Иван.
– И твою – не хочу, – тоже усмехнувшись, сказал Соленый. – Можешь верить, можешь – нет, но… С тобой, конечно, дружбы не заведешь, но в принципе можно договориться. Ты…
– Правильный мент?
– Ну, что ты, киношек насмотрелся? – поморщился, как от зубной боли, Соленый. – Просто ты самостоятельный. Ты – опер, каких мало, и если тут вообще можно нарыть чего-то, ты нароешь. И не по приказам или указкам, не из чьих-то интересов, моих, там, или начальничков своих, а… сам для себя.
– Без ансамбля, сам-бля, один-бля… – пробормотал Хруст и неожиданно спросил: – А корешка того твоего замочили? Ты же и замочил?
– Он сам себя замочил, – вздохнул Соленый, – он приговоренный был, а кто исполнил… Зачем тебе?
– Да в общем-то незачем… Так, для общего развития если.
– Ну, если для общего – пожалуйста. Я и замочил, – легко и просто сказал собеседник Хруста. – Чего уставился, словно… Папа Римский? Ты что ли никого никогда?
Хруст как-то неопределенно пожал плечами.
– Ну, тогда хотя бы Валюшу вспомни – он у вас как… дай Бог памяти, вроде как Курочкин проходил, а может и как…
– Валюша двух девок на куски порезал, – глухим голосом перебил его Хруст – а одной восемнадцати не было.
– Так я разве тебе в укор? – приподнял редкие брови Соленый. – Просто ты ведь мог его и живьем взять, тебе его скрутить было, как нехера делать, а ты ему маслину прямо в лобешник засадил… Ну, не темней так личностью, не темней, ты все по поня… то есть, я хочу сказать, правильно все сделал. Просто на меня так зыркнул, когда я про кореша своего, а на самом-то деле… Я что хочу сказать? – он на секунду задумался, – понимаешь, ведь нет смысла волкам предъявлять за то, что они кого-то там порвали, они… Они ведь не по злобе, а просто… ну, так сделаны, вот ведь в чем штука-то.
– Ну, ты философ, Виталий Сергеич – усмехнулся Иван. – Себя, значит, к волкам приписал, и меня заодно…
– Да нет – поморщился Соленый, – это я так, для примера, а вообще-то я их не очень…
– Да? – Хруст зевнул, – а чего так?
– Ну… – Соленый пожал плечами, – они ж в стаи всегда сбиваются, а я стаи как-то…
– Вот-те раз, – удивился Иван, – сам в вожаках ходишь, а стаи не уважаешь?
– Так ведь не в лесу живем, – буркнул Соленый, – а раз уж так оно легло, то скажу тебе прямо, лучше в вожаках ходить, чем где-то сзади ковылять. Скажешь, не так?
– Может и так, – равнодушно кивнул Хруст, – ладно, заболтались мы. У тебя еще что-нибудь?
– Да, ты вот что… У меня к тебе просьба одна, – он сделал ударение на последнем слове. – Ты если закроешь, мне конечно не доложишь, но… Ты дай мне знать. Ну, намекни, там, через кого, лады?
Хруст ничего не ответил и даже не шелохнулся.
– Ну, хорошо, хотя бы если нароешь чего… Я тебе в натуре все отдал, что имею, даже то… что не должен был. Но я должен знать. Потому если закроешь…
– Когда закрою, – негромко поправил его Хруст.
– Хорошо бы, – пробормотал Соленый. – Тогда…
– Тогда ты меня закроешь? – почти весело спросил Хруст.
– Тебя? Опера? – Соленый очень хорошо изобразил удивление, только… слишком хорошо, и Хруст это увидел, потому что умел это видеть и распознавать.
(… он же действительно прикидывает… Ну, ладно, с ним-то мы еще поиграем, но во что ж такое он меня?.. Что он мне приоткрыл, после чего не видит другого выхода, кроме как… да не простого мента, чего уж скромничать, а м е н я – кого ему никогда не простят?..)
– Ну и шутки у тебя, Иван Васильевич, – Соленый покрутил башкой, опять очень хорошо изобразив неодобрение.
– Обхохочешься, – кивнул Иван. – Ладно, сколько за пойло?
– Сколько не жалко. Я вообще-то угощал, но… ты ж все равно заплатишь.
Хруст кивнул, сложил вчетверо газетный листок, сунул его во внутренний карман пиджака, достал из бокового кармана полтинник, положил на стол рядом с фужером, встал, аккуратно отодвинув стул, развернулся и пошел к выходу. Стоявшие у стеклянной двери быки кинули быстрый взгляд вглубь зала, расступились, и один из них предупредительно распахнул дверь. Равнодушно глянув на него, как на кусок мебели, Хруст вышел на улицу.
Когда он ушел, Соленый отпил из фужера и дернул костлявой щекой. Тут же рядом с ним возник молодой человек в дорогом костюме и наклонился так, что его ухо оказалось в непосредственной близости ко рту хозяина. Хозяин пожевал губами и негромко сказал:
– Дай всем знать, чтобы этого опера за версту обходили, и…
– Может попасти его? – не разгибаясь, почтительно шепнул дорогой костюм.
– Да, – опять дернул щекой Соленый. – Только очень осторожно – если лоханетесь, он моментально просечет… Но главное, чтобы никаких случайностей. Если хоть один волос у него с головы упадет… Он мне нужен живой и целехонький. Пока… Ты понял?
(опять большая хищная зверюга где-то внутри простенького пиджака и костлявой жилистой оболочки пожилого человека з а в о р ч а л а, показывая, что она хоть и дремлет, но все в своем л о г о в е контролирует…)
Молодой человек побледнел и несколько раз быстро кивнул.
3.
Ехать на встречу с неведомым Шнеерзоном было рано, поэтому Иван вернулся в отделение. Он забрал у дежурного Ивлева свой ПМ и спросил:
– Рубцов еще тут?
– Тут, – буркнул капитан, еще сердитый на шутку Хруста. – Только к нему… это… лучше не соваться.
– Чего так? – полюбопытствовал Хруст.
– А вот сходи и узнаешь, – Ивлев засопел, потом поднял взгляд на Хруста и уже более миролюбиво сказал, – ну, он, это… Разнос сейчас твоим гаврикам из убойного устроил. Орал, что, это… распустил ты их – курят-пиздят-ни-хера-неделают. Вот, – довольно заключил капитан и опять удовлетворенно засопел.
– Ладно, схожу, – пожал плечами Иван. – А на тебя не орал?
– А чего на меня орать, – удивился Ивлев, – я, это… свое дело знаю.
– А-а, – понимающе кивнул Иван. – Ну, тогда хорошо. Тогда будь на страже, только смотри, – он озабоченно нахмурился, просунул голову в окошко и посмотрел вниз – туда, где располагался на вертящемся кресле внушительный зад капитана.
– Ты чего? – забеспокоился Ивлев и поерзал жирной задницей. – Ты это…
– Да нет, – убрав голову из окошка и выпрямившись, облегченно выдохнул Иван, – все в порядке. Пока.
– Да, чего ты? – уже не на шутку встревоженно засопел капитан. – Чего ищешь?
– Ты свое дело знай, но не забывай до сортира доносить, – серьезно посоветовал ему Иван, – а то если не донесешь разок-другой, Рубцов сильно осерчает.
Идя по коридору, он не слушал несущееся ему вслед ивлевское обиженное "дурак ты, это…", а раздумывал над тем, что говорил ему в кафе Соленый, и почему Рубец – уже задерганный до того, что начал спускать собак на убойников.
(Они оба дергаются… И местный главный бандюк, и начальник управления – личности, конечно, разные, но… битые-перебитые, у ш л ы е, а значит… Значит их дергают сверху …)
Пройдя через крохотную пустую приемную, Хруст один раз стукнул в дверь кабинета начальника, распахнул эту дверь и зашел внутрь.
Рубцов сидел за своим столом в очках и листал какую-то папку, шевеля губами. Когда он сидел, его сходство с полковником из сериала усиливалось – не виден был рост, скрадывалась внушительная комплекция и сразу бросались в глаза лысина и очки.
– Иван? – он оторвался от папки, снял очки и откинулся на спинку кресла. – Заходи. Есть что-нибудь?
Хруст прошел к столу – не рабочему, а длинному, совещательному, выдвинул один из стульев и уселся на него лицом к полковнику, одновременно потянувшись одной рукой в карман за пачкой сигарет, а другой – придвигая к себе тяжелую пепельницу (такое поведение означало, что он пришел не к "таищу полковнику", а к Васе Рубцу).
Несмотря на только что устроенный (по сообщению капитана Ивлева) разнос убойникам, Рубец выглядел вполне благодушным.
– Вася, что это ты вдруг на моих ребят собаку спустил? – достав сигарету, спросил Иван.
– Да-а, – легко отмахнулся Рубцов, – просто пар выпустил. Достало все как-то, понимаешь… Ну, что скажешь?
(Да, Рубцов явно пребывал в благодушном настроении, и Ивану сейчас это было на руку. Впрочем, настроение это закончилось очень быстро и крайне неожиданно для Ивана – он никак не ожидал такого эффекта от…)
– Скажи, Вася, ты чего-нибудь слышал о мертвяках? – вытащив из мятой пачки сигарету и роясь в кармане теперь уже в поисках зажигалки, спросил Хруст.
– Каких мертвяках? – недоуменно нахмурился Рубцов и приоткрыл рот так, что получилась небольшая буква "о". – Ты про…
– Нет, я не про наши висяки, я про тех мертвяков, которые на зонах бывают и которые бессмертные, – перебил его Иван и вытащил, наконец, из кармана зажигалку.
Полковник Рубцов закрыл… Нет, не закрыл, а с негромким, но отчетливо прозвучавшим лязгом захлопнул рот. Лицо его изменилось, причем изменилось так, что Иван забыл про сигарету в одной своей руке и зажигалку – в другой. Рубцов же, лицо которого помимо того, что стало каким-то перекошенным, еще налилось клюквенным цветом, поднес руку к горлу, резким движением ослабил стянутый галстуком ворот рубашки, потом хряпнул кулаком по столу и как-то сдавленно рявкнул.
– Да он охуел!..
– Кто, Ва… – начал было Хруст, но увидел, что Рубцов его не слушает.
– Что же это за полоса такая ебаная, – все тем же сдавленным голосом продолжал Рубцов, глядя куда-то мимо Ивана и кажется вообще забыв о его присутствии. – Замминистра нового сунули, который молчит-молчит, щеки надув, а потом ка-ак брызнет слюной, словно… Бешенный огурец какой-то, придурок, с какой грядки его вытащили, из какой друки вынули пидораса… Так мало того, еще бандюк смотрящий… Да хоть бы он оглох, хоть бы ослеп, но он же охуел! Он, блядь, совсем ума ху…
– Вася, – тихонько позвал Иван. – Я еще тут. И я могу вообще забы…
Полковник перевел взгляд на Хруста и моментально заткнул этим взглядом ему рот – он умел это делать.
– Вот что, Ваня, – все так же сдавленно, но очень веско сказал Рубцов. – Ты можешь отправляться в отпуск, если хочешь… (Какой сейчас отпуск?.. – пронеслось у Ивана в голове. – Он что, спя…) Да-да, можешь, я подпишу. Ты можешь жрать хань, или изучать, как ежи ебутся, или как эти… мать их, пингвины… Ты можешь даже поехать в зоопарк, отловить там пингвина и засадить ему по самый помидор. Ты можешь хоть всех макак в этом зоопарке пере…
Далее полковник Рубцов высказал еще ряд предположений относительно того, что и как может старший оперуполномоченный убойного отдела Хрусталев проделать с различными животными (даже пернатыми), а потом…
– Но! – тоном, странно похожим на интонацию Соленого, и даже тем же жестом, предостерегающе выставив указательный палец, сказал полковник. – Никогда больше не суйся ни ко мне, ни к кому другому, с этим. Ни-ко-гда. Ты понял?
– Понял, – кивнул Хруст.
– Хочешь выпить? – Хруст отрицательно качнул головой. – Тогда закури. А я – выпью.
Полковник встал, подошел к шкафу-стенке, открыл маленькую дверцу с торчащим в ней ключом и достал початую бутылку коньяку и большой фужер на тонкой ножке – очень похожий на те, из которых пили джин в кафе Хруст и Соленый. Налив треть фужера, он залпом проглотил коньяк, убрал бутылку и фужер обратно в шкаф, запер дверцу и подошел к окну.
Иван молча сидел и курил, глядя в спину Рубцова. Несмотря на широкий разворот плеч и прекрасно сидящий форменный китель, спина была какая-то… усталая.
– Как он это увязал с висяками? – спросил Рубцов.
– Да никак, – стараясь, чтобы это прозвучало как можно небрежнее, сказал Хруст. – Так, балакал про непонятки эти, да и брякнул между делом…
– Между делом, – повернувшись к Хрусту в профиль, горько усмехнулся Рубцов. – Ну, конечно, ты мне ничего не скажешь…
Вообще-то Хруст, идя к Рубцу, хотел рассказать ему всё (ну, почти всё, кроме фотки), но теперь, после такой реакции…
– Да нечего рассказывать, Вася, – сказал он. – Ну, балакал про покусы эти звериные, подъезжал с дружбой, там, словом, все, как положено.
– С дру-у-жбой, – опять усмехнулся Рубцов. – Ты хоть понимаешь, что когда ты закроешь эти висяки… если закроешь… Он тебя может закрыть?
– Опера – закрыть? Меня? – точно так же, как Соленый в кафе, Хруст прекрасно изобразил удивление.
– Да брось, – отмахнулся Рубцов. – Всё ты плнимаешь, хотя и не знаешь… Может, он тебе, – Рубцов вдруг резко повернулся к Хрусту, – и про случай какой-нибудь давний намекал, а? – Иван честнейшим образом замотал головой. – Ну, ладно, в конце концов, тебя не так-то просто… С этим-то мы как-нибудь… Он же в натуре спятил, с резьбы свинтился, раз уж… Но если у смотрящего крыша поехала, его никто долго терпеть не будет, а значит, его башку так и так в какой-нибудь помойке найдут, или в баке мусорном…
(Дался им всем этот мусорный бак… – подумал Хруст.)
– Нет, ну надо же, – как-то горестно и по-бабьи всплеснул руками Рубцов, – Сколько лет варюсь в этом, а чтобы… Ну, на иглу садились, до белки допивались, но чтобы авторитетный вор в маразм впал! Может, это ты так на людей влияешь? От тебя мо-ожет крыша поехать, но чтобы у Соленого…
– А он – коронованный? – неожиданно спросил Хруст. – Я слыхал, с ним какая-то петрушка…
– Этот ты – петрушка. И осел коронованный… – с горечью пробормотал полковник. – Забудь про него. Вообще забудь – нет никакого Соленого, и… Уйди, Иван, дай мне спокойно… с мыслями собраться – мне в Главк сейчас ехать, а там этот… огурец бешенный орать и плеваться будет… Уйди.
– Так я, это… – в манере Ивлева пробормотал Хруст, – тогда к этому… Шнеерзону твоему поеду.
– Езжай, – кивнул полковник, – но если и у него от тебя крышу снесет, значит…
– Что? – с интересом спросил Хруст.
– Значит, это я спятил, – заключил Рубцов. – И место мне не здесь, а в дурдоме. И сдается мне, что по сравнению с этим домом, – он обвел руками кабинет, – дурдом – местечко поспокойней… И понормальней. Все, будь здоров.
Хруст подождал привычного рубцовского прощания, но не дождался, удивился, подошел к двери, и все-таки замешкавшись (как это – уйти без обычного ритуального "иди на…"), пробормотал:
– Так, значит, к Шнеерзону иду…
– Иди, – отворачиваясь к окну, кивнул Рубцов, – иди к Шнеерзону, иди в зоопарк, иди куда хочешь, только иди, Ваня, нах….
Хруст с облегчением вздохнул и вышел из кабинета.
Часть 2
4.
Она запрокинула голову с копной рыжих волос, подставив под ледяную струю из душа лицо, и вода быстро и легко смыла подсохшие кровавые потеки возле уголков рта, заодно смыв и как-то разгладив последние неуловимые складочки и морщинки, еще придававшие до этого момента ее лицу сходство с кошачьей мордой.
Странно, сколько я ни разглядывал по утрам свою морду в зеркале, никогда не мог ухватить таких черточек… Или складок… Или чем бы они там ни были. А вот на ее физиономии каждый раз отчетливо и ясно видел их и видел, как ледяная струя воды смывает их вместе с подсохшими следами крови. И каждый раз ощущал какое-то щемящее сожаление и инстинктивное желание догнать это уходящее сходство, ринуться вслед за стекающей в сливное отверстие водой и вернуть просачивающуюся туда суть, вернее последние неуловимые признаки ее сути, потому что…
Потому что я любил ее кошачью морду больше, чем это ее лицо, потому что я любил любить ее сильное, гибкое кошачье тело больше, чем это,
(тоже сильное и за последний год здорово помолодевшее, но… т о ж е…)
потому что я вообще уже любил быть с ней т а м больше, чем здесь, и…
Все меньше хотел возвращаться. В отличие от нее. И порой мне казалось, что не вытягивай она меня оттуда каждый раз, я в один прекрасный день… Вернее, в одну прекрасную ночь остался бы там навсегда, резко и безжалостно оборвав в себе невидимую пружинку – этот упряменький растягивающийся, но все никак не рвущийся поводок, соединяющий меня с э т о й стороной. Но она не давала мне этого сделать, она вытягивала меня оттуда, не таща силой,
(этого нельзя было делать… Это вызвало бы прямо противоположную реакцию, и она это понимала…)
а просто уходя сама, и…
И когда однажды я задержался, застопорился, отстал от нее, то вдруг ощутил такой жалобный страх одиночества – нет, не свой, а ее страх, -
(… но ничуть не слабее, чем был бы мой собственный, потому что т а м мы были, как одно… Нет, без всякого "как" – просто одно, оттого-то и не хотелось уходить…)
такую острую тоску от потери, что рванулся за ней изо всех сил, рванулся внутри и… Она вся раскрылась – даже еще сильнее и больше, чем всегда раскрывалась там – и приняла меня, впустила в себя, распахнув всю бездонную глубину своей раздвоенной
(…как у меня и у всех нас – таких как мы…)
сути, и… На самом донышке охватившего меня теплого наслаждения и покоя кольнула болезненная иголочка – ведь я мог лишиться этого, мог потерять, а разве есть хоть что-нибудь, что может это заменить, ради чего можно отказаться, на что можно променять… Нет! Нет и быть не может!
Разве что…
Разве что мягкий и сильный прыжок, резкий взмах когтистой лапой, зарывающиеся в мягкую шкурку и вспарывающие горячее вздрагивающее тельце когти, вгрызающиеся в пульсирующую шейку клыки и горячая красная жижа, текущая по губам и языку прямо в пасть, в глотку, в…
Нет! Даже э т о не может заменить распахивающейся сути твоей второй половины, твоей Партнерши, одновременно отдающейся тебе и берущей тебя, становящейся и твоей сутью, даже близко не сравнимой с жалкими попытками человеческих партнеров слиться вместе в акте спаривания… Не может.
Пока – не может…
Мы никогда не говорили с ней здесь о том, что испытывали там – человеческая речь, вообще любое человеческое средство общения не может, не способно охватить и передать это, – но тогда, вернувшись сюда и лежа в нашей просторной койке, мы оглядели друг друга, как всегда, с внимательным любопытством, а потом наши глаза встретились, и… Я увидел в ее глазах раздражение и… страх, и облизнувшись быстрым кошачьим движением языка и губ, она шепну… Почти прошипела:
– Никогда больше не отставай! (Получилось: большш-ше не осс-ставай…) – с угрозой и… жалобно.
Я кивнул. Она внимательно уставилась мне прямо в глаза, почувствовала, что I mean it, и довольно муркнув, потерлась носом о мою щеку…
Мы одновременно потянулись друг к другу, обнялись, так тесно прижавшись телами, что ни одна струйка воды не могла просочиться между нами, и запрокинув головы, застыли под ледяным душем. Вода у наших ног быстро стала прозрачной – последние бледно-розовые струйки исчезли в сливном отверстии, – но мы еще долго стояли так, не двигаясь и почти не дыша. Мы не чувствовали холода, вернее… Холод мы чувствовали, но не мерзли.
Мы никогда не мерзли по утрам, после таких ночей. Наверное, тому есть какое-то научное объяснение – что-нибудь типа другого теплообмена, остающегося у наших тел еще какое-то время после перехода, – но… Какая разница? По утрам мы не мерзли под ледяным душем, нам не хотелось есть, нам было неприятно даже подумать о сигарете, нам вообще ничего не хотелось, разве что…
Улечься в траве на заднем дворике, свернуться клубками и греться на солнышке – на палящем летнем солнце, не причинявшем нашим телам после таких ночей не то, что вреда, а даже малейших неудобств; в раскаленном летнем зное, от которого вашингтонские аборигены, вынужденные торчать летом в городе, защищаются кондерами, а мы – нежимся, словно на прохладном ветерке. Но…
Страна, конечно, свободная, что говорить, никто не суется в твои личные дела, никто ничему не удивляется – зайди в нашу пиццерию на Висконсин Авеню, допустим, средних размеров крокодил и закажи себе White Mexican Pizza и пивка, никто внимания не обратит. Ну, разве что два пенсионера за угловым столиком переглянутся и горестно хмыкнут – вот, дескать, до чего демократы во главе с ебливым как крольчиха Президентом довели страну…
Но это – с одной стороны, так сказать,on one hand. А с другой – соседские сплетни никто не отменял, равно как и кое-какие правила приличия, так что… Тем более, соседи у нас милые. Справа пожилая супружеская чета, наши можно сказать, френды – раз в две недельки ужинаем друг у друга по-семейному. Слева большая дружная семейка менеджера какой-то нехилой компании – детишки обожают наших маленьких хищников и милостиво переносят частичку своего обожания и на их хозяев. Правда, Рыжая недолюбливает жену менеджера, соломенную блондинку лет тридцати пяти, и порой провожает ее пристальным внимательным взглядом, в котором слабо мерцают…
Ну, это так – частности…
А в общем, чудный чистенький райончик, цены на дома в котором неторопливо растут, милые спокойные люди вокруг, которых совершенно ни к чему удивлять, озадачивать и, уж тем паче, обижать. И мы никого не обижаем, даже наоборот…
Пол годика назад наши френды-пенсионеры (ну, у них окромя пенсии еще имеется пара-тройка домишек на сдачу в другом квартале – дело житейское) свалили на две недельки на Гавайи, оставив нам ключи и попросив поливать цветочки в садике и в зимней оранжерейке. Однажды, поздно вечером, когда уже стемнело, я случайно увидел из окна два силуэта у крыльца соседнего дома и позвал Рыжую. Мы посмотрели из окна сквозь темень на соседний дом, переглянулись, с трудом различив очертания двух человеческих фигур, и посмотрели… Иначе.
Картинка сразу посветлела и обрела четкость: два парня, лет по двадцать, воровато оглядываясь и чертыхаясь ишипя друг на друга, ковырялись по очереди в замке входной двери какой-то тонкой металлической пластинкой.
– Сходим? – шепнул я.
– Нее-ет, я сама-а, – растягивая слова, быстро ответила она, и я почувствовал, что она уже у самой черты, уже рядом с… The border. The percinct…
Мне тоже хотелось развлечься, но тогда переход наяву еще давался мне труднее, чем ей, у меня получалось медленнее, я злился на это, и перейдя, не сразу избавлялся от этой злобы, не сразу обретал способность контролировать ее, поэтому…
Пусть уж лучше она одна.
– Двигай, – буркнул я возбужденно вздрагивающей уже у самой черты Рыжей,
(ее тело быстро разогревалось, дыхание становилось все жарче, тонкий халатик заколыхался и стал легонько потрескивать от статических разрядов…)
она бесшумно отодвинулась от окна, мгновенно очутилась в дверном проеме, ведущем в холл, и исчезла. Я почувствовал, как тоже медленно подбираюсь к черте – ровный жар стал разогреваться где-то глубоко внутри, растекаться, подбираться к поверхности, – и заставил себя остановиться. И даже слегка откатиться назад, потому что тогда еще был не очень уверен в своих реакциях за этим "рулем" и боялся, что стоит лишь лавине тех запахов хлынуть мне в ноздри, и я уже не справлюсь, не сумею удержаться… Оставил лишь зрение – им научился управлять сразу.
Только благодаря тому зрению я засек движение Рыжей от нашего крыльца к живой изгороди, разделяющей два участка – ухватить его человеческими глазами я бы не смог. Для человеческих глаз она просто исчезла с крыльца, одновременно возникнув возле ровных подстриженных кустиков. Появилась там, присела на корточки и нырнула в кусты, а потом…
В который раз я подивился легкости и простоте перехода. Она никогда не удивлялась – ну, еще бы, ведь ее первый переход наяву был почти таким же легким, ведь ей-то помогали мы все, – а я до сих пор не мог забыть свой первый, когда мне не помог никто, кроме плавающего в крови наркотика и притаившегося в глубине, на самом донышке, в рыженькой девке, торчавшей в соседней комнате…
(как я догадался тогда, что она – тоже нечто, вроде нас?.. Нечто, вроде… Типа – как бы…)
Двое парней на крыльце соседнего дома замерли, услышав легкий шорох кустов, как по команде уставились туда, откуда донесся этот шорох, и…
С равнодушным любопытством я следил за тем, как на плохо гнущихся ногах они стали пятиться по ступенькам вниз, потом медленно повернулись (один споткнулся и чуть не упал) и побежали, нелепо размахивая руками. Не оглядываясь.
Я не видел того, что увидели в кустах они, но мне и не надо было видеть – я знал. И не только знал, я еще очень любил эту огромную рыжеватую морду со слегка отведенными назад, точеными ушами и приоткрытой пастью, в которой поблескивали огромные белоснежные клыки… Любил ее тяжелые лапы – такие нежные в наших с ней играх и такие страшные в других…
Тяжелые лапы и все остальное, что я так любил, выдвинулось из кустов с нашей стороны и сладкий всплеск радости всколыхнул все мое нутро. Я уставился в мерцающие желтые огоньки ее глаз, сразу притянувшие меня к себе, подтащившие к черте, и… Еле успел затормозить, остановиться.
Гибким движением огромного тела она вся вынырнула из кустов и медленно двинулась к дому, лениво играя тугими клубками мышц в основаниях передних лап.
(… – Она не так уж безобидна и совсем не мала, наша Рыжая… – Господи, если б он только знал, к а к он был прав!.. Жаль, что так и не узнал!..)
– Мя-я-я!.. – раздалось слева от меня, я скосил глаза на подоконник и увидел, что там сидит Кот и внимательно следит за происходящим во дворике.
Я осторожно погладил его, и под моей ладонью раздался легкий треск статических разрядов, во вздыбившейся шерстке мелькнули слабенькие голубоватые искорки и легонько закололи ладонь.
– Тише, тише, – шепнул я ему. – Сейчас она вернется.
Он облизнулся, фыркнул и стал вылизывать переднюю лапу. Я отвел от него взгляд и снова посмотрел в окно.
Рыжая – в облегающем коротком халатике – уже поднималась по ступенькам крыльца и через секунду встала рядом со мной и потерлась носом о мою щеку.
– Ну, как я? – раздался ее вкрадчивый шепот возле моего уха, и я понял, что она здорово возбуждена.
(… возвратившись, она всегда хотела трахаться… Т а м мы делали это очень редко, потому что наши Партнеры… И даже без них – редко, словно по какому-то негласному уговору старались соблюдать какой-то обет…)
– Здорово, – кивнул я, чувствуя, что и сам завожусь от близости ее горячего тела, прикрытого лишь легкой тканью халатика. – Только опять большая… Сейчас-то хватило бы и поменьше.
Она фыркнула – совсем как мой Кот, – и мягко и настойчиво потянула меня к лестнице на второй этаж, в спальню. Двинувшись за ней, я все-таки повторил:
– Хватило бы поменьше…
– А зачем? – нетерпеливо отмахнулась она, расстегивая на ходу халатик. – Мне так проще… И приятнее.
Да, это верно, Panthera давалась ей легче и проще Felis – тех, что поменьше. Но здесь, на нашей тихой вашингтонской улочке все же не следовало… Одно дело – где-то там, далеко,
(… среди джунглей, среди ночи…)
и совсем другое – здесь…
* * *
Когда мы в первый раз резко и страшно почувствовали, поняли, что мы не спим, не видим сон, не витаем в каком-то нереальном мире, а действительно стоим здесь
(среди джунглей, среди ночи… На опушке леса, возле маленькой речушки, куда сейчас спустятся вон с того холма нервные, пугливые ж е р т в ы – спустятся за водой и за своей… нет, не смертью, смерть – вообще пустой звук, детская страшилка, – а за тем, чтобы стать е д о й…)
и ждем… И тех нас – в душной и тесной спальне
(ну, как же там можно спать – под какими-то тряпками, в тесноте и затхлости?..)
– просто нет, физически нет, мы…
Мы жутко испугались, мы едва не рванулись назад в страхе, что не сможем – назад, но… Страх быстро прошел. Что-то подсказало нам, что мы сможем назад, что это зависит только от нас самих… Нет, подсказало, конечно, не что-то, а… Наши Партнеры! Наши маленькие
(здесь – маленькие, а т а м…)
усатые хищники, появившиеся… Бесшумно возникшие чуть поодаль, ближе к реке, и смотрящие на нас своими холодноватыми желтыми огоньками глаз, в которых светилось легкое равнодушное удивление. Ну да, их удивляло, что мы еще не все понимаем, не все знаем и бываем порой такими неуверенными, что у нас еще есть сомнения…
У них никогда не бывало никаких сомнений, и то, что мы там называли переходами, для них… Никаких переходов для них не существовало, они всегда были тем, чем они были – и здесь, и там, и еще совсем там, где…
(… бесконечный красный песок и круглый багровый диск, висящий в свинцово-серой пустоте наверху…)
Словом, им нечего было бояться, кроме…
Разве что…
Одиночества?..
Как она сказала тогда, в наш первый вечер на крыльце нашего дома?.. Сказала нежно и с какой-то странной улыбкой: "Я не одна…" И в тот же первый вечер, но чуть позже, когда я случайно зацепил взглядом валявшуюся на ночном столике книжку "Nightdreams and…", я понял, что она имела в виду не меня, вернее…
Не только меня.
5.
– Во сколько прилетает? – спросила Рыжая, рассеянно вертя в руках маленькую ложечку, которой она размешивала сахар в кофе.
– В шестнадцать тридцать, я уже сто раз говорил… Чего кофе не пьешь?
– Неохота.
– А зачем варила?
– Так, – она равнодушно пожала плечами, – по привычке. Ты звякни в аэропорт часа за два – спроси, может задерживается.
– Не буду я никуда звякать.
– Ну, и будешь там торчать, если задержится.
– Ну, и поторчу, – буркнул я.
– Слушай, – помолчав, сказала она, – что тебя колет, а? Твой дружок – этот Шериф, как ты его называешь, – сегодня прилетит. С ним все в порядке. Она же сказала тебе, что с ним все нормально. И с деньгами у него все нормально – на нашей шее сидеть не будет, а даже если бы и… Она сказала…
– Она сказала, – передразнил я. – А почему она не сказала, что с ним было? Что значит "немножко приболел"? Почему он отошел от дел? В какой такой больнице лежал? Почему сам ни разу мне не позвонил? Почему…
– Ну, что ты заладил, почему-да-почему? – раздраженно перебила Рыжая. – Ну, не потянул большую компанию… В конце концов, ему уже… Сорок девять, да? Люди вообще-то иногда болеют, ты не в курсе? Ну, захотелось на покой, что тут странного?
– Ты же его не знаешь, – вздохнул я. – На покой… Это не он отошел от дел. Это его отошли. Вернее, отошла! И ты это прекрасно понимаешь.
– Ну, и что, – равнодушно пожала плечами Рыжая. – В конце концов, какое нам до этого дело? Пускай крутит там большие дела, а твой дружок отдохнет, купит домик здесь по соседству… Что тебе не нравится?
– Всё не нравится. Он не тот парень, чтобы в сорок девять уйти на отдых. Чтобы его так выпихнуть, надо было… Не знаю, что надо было, но что-то очень жесткое.
(… – Это жесткий трюк, шеф, – с нажимом произнес Эстет…)
– Ну и что? – глянув на меня в упор, спросила Рыжая. – Тебе-то что до этого? Не забывай, она – моя дочь. И она – одна из нас.
– Ты уверена? – не отводя взгляд, спросил я.
(… – Что если она большего стоит, – сказал тогда Шериф, – настолько большего, что вообще не для нас… Как ты любишь выражаться, гвоздь не от той стенки, а?..)
– Иначе тебя сейчас уже не было в живых, – медленно произнесла она. – Ты сам знаешь, один ты бы там не смог…
– Но в ней только одна половина – твоя. А вторая…
– Ерунда, – фыркнула она. – Кого ебет этот паршивый недоно…
– Кель выражанс, мадам, – перебил я. – И и твой покойный муж, как ты выражаешься, паршивый недоносок, был одним из крутых заправил крутого бизнеса в очень крутых условиях, а теперь его дочурка…
– Она – моя дочь, – резко рыкнула Рыжая, и мне на мгновение показалось, что во рту у нее влажно сверкнули ночные клыки. – Не надо дергаться, – уже мягко и почти нежно попросила она. – Ну, что нам до всех этих… Хочет она быть крутой там – пускай наслаждается. В конце концов, ей – жить, а мы ведь уже немолоды и нам…
– Ну, да, – буркнул я, одним глотком почти через силу допив остывший кофе, – нам время тлеть, а ей цвести… Что ж, пускай цветет, только…
– Ну, что – только? Что ты ворчишь, как старый пень, а?
– Только хорошо бы – не на наших могилках, Рыжик, вот что.
– Господи, ну что ты плетешь? Она отстегивает нам такие бабки, хотя мы вовсе и не… Но пускай, раз ей так хочется. И кто… Кто вообще может быть нам страшен? Какие могилки?! Твой дружок сегодня прилетит, увидит, какая тут прелесть… Мы по такому случаю надеремся, – Рыжая подмигнула мне залихватски, только слишком залихватски, и я вдруг…
Вдруг я увидел, что под слегка наигранной веселостью и настоящим раздражением в ней притаилось и дергается в глубине то же беспокойство, что и во мне, та же тревога и… Раздражение ее исходило от меня – она хотела уцепиться за меня и прогнать свою тревогу, а я вместо того, чтобы помочь ей, наоборот, усиливал, подпитывал "иголочку" беспокойства. Значит, ее тоже колет эта странная…
Я вспомнил, как позавчера мы сидели в маленьком ресторанчике и я зачем-то заказал вместо креветок порцию угрей. И когда их принесли, я глянул на блюдо и вздрогнул при виде длинных и каких-то скользких на вид… В мозгу вдруг полыхнула яркая, но почему-то черно-белая картинка:
… стоящий на коленях, вцепившийся в торчащий из его горла кусок стекла и раскачивающийся, словно на молитве, охранник, на которого надвигается, быстро скользя по красному песку, огромная, черная тупорылая р ы б и н а, похожая на какую-то громадную… Громадную п и я в к у!..
Я взглянул на Рыжую, сидевшую напротив, и увидев гадливое отвращение на ее лице, каким-то чутьем понял,
(или почувствовал… узнал…)
что она видит ту же "картинку", может, даже поярче и в цвете…
– Ладно, Рыжик, – сказал я, – чего я, в самом деле, разворчался? Какое нам дело до всех их бизнесов и вообще до этой ебанной части суши! Встречу Шерифа, он расскажет, как там и что, мы надеремся и… Забудем, как кошмарный сон. Вряд ли он так уж серьезно болел – организм у него убойный, сама увидишь. Одно слово, бычий х…
Рыжая хохотнула.
– А вот это мы проверим.
– Тебе бы только… Блядина рыжая, – проворчал я. – Не мечтай, он молоденьких любит.
– А вот это мы посмо-о-отрим…
– Ну-ну, смотри, а я схожу взгляну на блондиночку справа, – я кивнул в сторону соседского участка. – Ножки у нее… – я перехватил взгляд Рыжей и осекся; мне не понравился ее взгляд, мне совсем не понравились холодные желтые огоньки, замерцавшие в ее округлившихся глазах – холодные, внимательные, наводящиеся на цель… – Рыжик, у тебя с юмором стало плоховато?
– Да не-ет, – усмехнувшись протянула она, и огоньки медленно, словно нехотя, погасли. – Мы же игра-аем, вер-рно? – она сладко потянулась, так что хрустнули косточки в плечах.
– Мне не нравится, как ты смотришь иногда на эту шлюшку. Не надо…
– Не нра-авится – не е-ешь, – склонив голову на бок, протянула она, и я вздрогнул. – Или не смотри сам и… Шути в меру.
– Хорошо, Рыжик, я понял, – медленно сказал я. – И… I mean it.
– Ну и отлично, – удовлетворенно кивнула она. – Ладно, мне пора. Буду около шести.
– Тебя же клиент на ужин приглашал. Или…
– Или, – она усмехнулась. – Обойдется. Что-то он слишком липкий стал…
– Просто хотел вручить тебе чек за ужином – почему бы и нет? – пожал я плечами. – Нормальный ход. Домик ты ему отделала по первому классу – уж на что я ни хрена не смыслю в вашем дизайне, но и мне понравилось. А ужин…
– Как бы он сам ужином не стал, – пробормотала она и подмигнула мне, но… Мне не понравилась ее интонация. Мне вообще в последнее время не нравились…
* * *
Она и здесь торчала близко от черты – может быть… Слишком близко. Наших ночных забав мне хватало пару раз в неделю, но она тянула меня чаще, и порой мне казалось…
Пару раз, возвращаясь из кабачка, где любил сыграть в бильярд и принять пару рюмок, я заставал странноватый беспорядок в доме. Наши маленькие усатые хищники лежали в разных концах гостиной и пребывали в явно возбужденном состоянии. Как и довольно раскрасневшаяся Рыжая. И на вопрос: "Чем занимались?" – она беспечно отвечала: "Да-а, играли…" И это было правдой.
Только во второй раз я неожиданно для себя спросил: "Ты играла с ними… Другая?" – и посмотрел на нее в упор, и она, поколебавшись, кивнула и фыркнула: "А что такого? Разве нельзя?" – и я хотел было что-то ответить, но потом пожал плечами и промолчал. Откуда мне было знать, можно или нельзя, наверное, можно, но… "Смотри, так можно и заиграться – вдруг кто-нибудь войдет", – буркнул я, а она усмехнулась, подошла ко мне, потерлась носом о мое плечо и промурлыкала: "Ну, кто сюда войдет без спроса?.. А если и войдет…" – она опять фыркнула и мне не понравилось ее горячее возбуждение и то, что она… Нет, не то, что сказала, а то что не сказала, не договорила…
Она почуяла мое беспокойство, стала нежнее тереться о плечо мордой, а потом об меня – всем телом, и пробормотала: "Ну, что ты дергаешься? Мне было ску-у-учно без тебя, и им – тоже… Разве мы не име-ем право, а?" Я поколебался и…
Махнул рукой, а она потянула меня к лестнице, в спальню, и наши маленькие звери проводили нас внимательными взглядами своих холодно-любопытных глаз – не двигаясь с мест, не идя за нами, зная, что ночью мы все равно встретимся – там…
* * *
– Рыжик… – предостерегающе начал было я, но она отмахнулась, встала из-за стола и пошла наверх, бросив на ходу:
– Я – краситься. Пол часа – меня не трогать.
– Это святое, – вздохнул я и решил, и в правду, после двух звякнуть в справочную аэропорта – чего болтаться там, если рейс задержится. Конечно, здесь такое случалось нечасто, но с другой стороны, рейс – аэрофлотовский, так что… Интересно, чего это Шериф "Аэрофлотом" решил? Экономный стал, или… Кое-кто еще на нем сэкономить вздумал? Кое-кто рыженький, не желающий тратиться на… Отыгранную фишку.
Грустно было думать про Шерифа, как про "отыгранную фишку" – грустно и… Как-то неуютно. Рыжая за столом, конечно, пощадила меня. Когда я раскудахтался со своими "почему-да-почему" и в частности – почему, дескать, он сам не позвонил, она могла бы легко заткнуть мне пасть простым вопросом. Так сказать, встречным: почему, интересно, я сам ни разу ему не позвонил? И была бы права, и крыть мне было бы нечем, но… Но не заткнула. Она, ведь, деликатная, моя Рыжая. Она, ведь, тактичная… наша Рыжая… Блядь!
Нет-нет, это я не нее, а на все вместе взятое, и в первую очередь, на ее дочурку. До-оченьку, блядь… Крови-и-ночку… Всего за год раскрутившую из нашей лавчонки одну из трех крупных компаний на той части суши, которую Царь Небесный… Вышвырнувшую отца-основателя
(… – Он предложил мне ваш кабинет, а вчера я назвала его Шерифом, и он это принял, – светясь от распиравшей ее радости, говорила она тогда, в Шереметьево-2…)
из соучредителей и оставив меня… Меня, который пальцем о палец не… Меня, который вспоминал про тамошние дела раз в два месяца, когда с удивлением обнаруживал на своем, то есть на нашем с Рыжей счету кругленькие (а последние два раза – такие кругленькие, что аж присвистнул) поступления… Зачем?
Я пробовал заговаривать об этом с Рыжей, но очень скоро оставил эти бессмысленные попытки – ее это не интересовало.
Для нее все это было просто за кадром.
Она увлеклась дизайном в плане домашних интерьеров, на изумление легко и просто нашла работу (а теперь уже работа искала ее – очень солидные клиенты домогались ее услуг), и в нашем семейном бюджете упрямо вылезла на первый план только одна проблема – на что тратить бабки? Домик во Флориде, четырех-бедренная (на четыре спальни – для тех, кто не понимает), как выразился бы создатель дивной аббревиатуры ВМПС, квартирка в Нью-Йорке, летний домик в штате Мэн – все эти apartments уныло простаивали в тщетном ожидании хозяев, которые за год побывали в каждом поочередно не больше двух раз, да и то так… чтобы отметиться.
Впрочем, на нью-йоркскую фатеру наезжали чаще – Рыжая устроила из нее полигон для своих дизайнерских экспериментов, и я с любопытством наблюдал, как квартира из тайваньского борделя превращается то в будуар Марии-Антуанетты, то в строгий нью-йорский офис, то в что-то среднее между московским "евроремонтом" и мафиозным чикагским притоном из фильмов шестидесятых.
Я пробовал разговаривать об этом с Рыженькой – три-четыре разика звонил ей – но… Эти разговоры выливались в вежливо-спокойные отчеты с ее стороны о делах нашей фирмы (нашей, блядь!) – новых магазинах, новых поставках, новых направлениях,
(сеть бензоколонок, но… это верхушки… Кое-что с нефтью…)
новом офисе в самом центре столицы, филиалах в других городах и… Так далее.
Стоило мне набрать в грудь воздуха и с каким-то физическим трудом уже почти решиться задать главный вопрос: за каким, извиняюсь, дрыном ты мне все это сообщаешь, переводишь сюда бабки и вообще делаешь вид, что я – как бы действующий партнер? – как Рыженькая вежливо извинялась за то, что не может сейчас больше разговаривать – встреча, контракт, презентация, заседание Малого Совнаркома, словом, абзац унд параграф. На торопливую просьбу позвать Шерифа – неизменные сожаления по поводу его временного отсутствия: дескать, в данный момент нет на месте – открывает филиал, крутит важную поставку, расслабляется в баньке ("Ну-вы-ж-понимаете…"), звякните-вечерком-на-домашний. За этим последним предложением всегда ощущался какой-то…
Да что там "какой-то"? Кого я хочу наебать? Сучка явно понимала, откуда-то знала, что я не стану звонить ему домой. Может быть, даже знала, почему – то есть знала то, чего не знал я сам. И еще…
За всеми ее докладами-отчетами, за ее равнодушно-дружелюбным, вежливым голоском ясно ощущалась одна главная
(мысль?.. Просьба? Или…)
линия: у тебя есть все, чего ты хотел, все, о чем только мечтал и даже больше (намного больше), а потому если хочешь, чтобы все так продолжалось, сиди там и не рыпайся. Почувствуй я в этом хоть тень угрозы или хотя бы приказа, я бы рыпнулся.
(… – Вы как-то постарели… Седина – я раньше не замечала, и даже в усах…)
Я бы о-ох как рыпнулся, я бы рассказал тебе, сучка, что кушает на обед…
Да ну, холодно звякнул в мозгу насмешливый голосок, кого ты лечишь? Ты сыт, ты доволен и ты – давно уже не молод, а кроме того… Вспомни, что она тебе сказала тогда, в аэропорте – не словами, нет, а гораздо проще… Когда ты станешь совсем стар и уже ничего не сможешь, она обещала тебе прийти и разобраться с какими-нибудь н и м и, и тогда и м придется разбираться… With the best. Или with the b e a s t.21 И ты знаешь: если что, она сдержит свое слово. Потому что она – одна из в а с, и если что – сдержит…
А если она – не только одна из нас, но и… Если она – что-то… Что-то п о к р у ч е нас и вообще что-то д р у г о е, спросил я у этого голосочка. Тогда что? Тогда – помоги нам Бог?
Голосок замолк. Он молчал долго, и я уже подумал было, что он не ответит, когда…
Не поможет, холодно и твердо шепнул он. Тогда – не поможет.
6.
Махнув рукой вслед отъезжающей от дома красной "Хонде", увозящей Рыжую на встречу с "липким" клиентом, я постоял на крыльце, а потом присел на верхнюю ступеньку и взглянул на нашу рыжую кошку, лежащую в траве
(Очень хорошо, очень аккуратно подстриженной траве… Семейная пара Latinos занималась у нас этим делом… Сначала халтурили, но Рыжая как-то раз р ы к н у л а на них, и… Муж latinos набычился, глянул ей в глаза, побелел, как мел… После этого наш газон стал a la английский…)
и внимательно наблюдавшую за небольшой красной птичкой. Птичка копошилась у самой живой изгороди, иногда вскидывая клювик и уставляя на кошку внимательную черную бусинку глаза – измеряла расстояние, проверяя, не подкрадывается ли та незаметно поближе.
Зря беспокоилась.
Наша рыжая кошка была на редкость проворным птицеловом, и я… Почему-то меня это коробило. И когда она однажды в очередной раз, гордо выгибаясь и урча, притащила мне безголовый птичий трупик, и по белым крапинкам на хвосте я узнал в нем славную пичужку, свившую гнездышко под нашей крышей, поверившую нам, я…
Конечно, я не стал ее ругать – это бессмысленно, – а просто надел ей на шею ленточку с колокольчиком. Сначала она не обратила на это почти никакого внимания, даже стала как-то горделиво расхаживать с этим украшением, но когда поняла, что колокольчик предупреждает птиц и не дает ей вершить ее правое дело… Нет, мы не поссорились, но она стала как-то… Ну, держать дистанцию, что ли. Словом между нами пробежал какой-то холодок – здесь. Там – нет, там все было как прежде, как надо, правильно…
Рыжая удивленно фыркала, глядя на колокольчик, и так откровенно посмеивалась надо мной, что я не удержался и напомнил ей про то, как она когда-то давным-давно
(как будто в другой жизни… На другой с т о р о н е…)
отреагировала на рассказанную мной историю про кошку и попугайчика – как ее задело это. Как она не хотела принять простой факт: кошка охотится и убивает, потому что это ей нравится, потому игра в охоту с убийством – ее суть. Я думал, она хоть на секунду смутится от этого напоминания, что ей станет хоть чуть-чуть неловко, но…
Пустой номер.
* * *
И на этом крохотном эпизодике, на этом "пустом номере" я впервые увидел… Нет, впервые realised (не просто понял, а осознал, или… словом, понял по-настоящему), насколько она изменилась. Она стала другой, и хоть ее и тянуло сюда порой сильнее, чем меня, она была уже больше там, чем здесь, моя Рыжая…
* * *
Рыжая кошка встала, потянулась, неторопливо подошла к крыльцу и прилегла возле нижней ступеньки, уставив на меня щелочки своих сузившихся, отливающих в зелень глаз.
Зачем ты повесил мне на шею эту штуку, с холодным любопытством спросили меня эти щелочки. Почему не даешь мне охотиться здесь? Разве это правильно – не давать мне играть в мою п р а в и л ь н у ю игру?
– Хватит с тебя игр там, – буркнул я и… Отвел глаза. Отвернулся от этих узких, холодных, мерцающих зеленью огоньков, потому что не знал, что ей ответить, потому что она… Была права. И прикрыв глаза я невольно вспомнил… нет, увидел
(… Да. Теперь я снова мог в и д е т ь – способность вызывать какие-то картинки в воображении, моя старая игрушка, вернулась ко мне, но… Она работала только в одном направлении, в одной плоскости, в одну сторону – т у д а…)
картинку из…
* * *
Рыжеватая зверюга лежит в высокой траве и холодными зеленоватыми глазами смотрит, как мы втроем рвем здоровенную обезглавленную тушу – раздираем ее когтями, отрываем лакомые куски и впиваемся в них, сладко ворча, мотая тугими хвостами и сердито фыркая друг на друга… Е д у завалила она – наша рыжеватая Партнерша, – вылетев из кустов в дивном броске, повиснув на боку животного, правой передней лапой сломав ему шею и одновременно вырвав клыками здоровенный кусище из его глотки. Потом она совсем оторвала голову, оттащила ее в сторонку, улеглась и лениво поела – одна. А теперь лежит, равнодушно отвернувшись от остатков головы у ее передних лап, и смотрит на нас… И холодные зеленоватые светлячки ее глаз то вспыхивают ярче, то тускнеют. Она…
Она хитра и изящна, наша грациозная Партнерша, и уже не первый раз исчезает, когда мы гонимся за едой – находит свой путь, – а потом вдруг выныривает спереди или сбоку и кончает жертву таким вот точным броском… И конечно, голова достается ей – по праву. В голове немного еды, но она редко бывает голодная, она вообще мало ест, меньше нас, но завершает игру, убивает – чаще. И не чувствуй она, что каждому из нас тоже хочется, тоже н а д о убивать, она бы делала это каждый раз, потому что самые сладкие мгновенья для нее, это когда она лежит и смотрит на нас вот так, словно небрежно п о з в о л я я нам жрать е е добычу. Вот такая она есть, наша ч а с т и ч к а, и хоть нас и раздражает это порой, но… Она – н а ш а частичка, и мы любим ее. Такую…
Какая она есть.
Хитрую. Очень хитрую и коварную – даже с нами.
И никогда…
Н и к о г д а не промахивающуюся.
* * *
Легкое облачко сползло с солнца, ее зеленоватые огоньки глаз вспыхнули ярче, и она издала негромкое: "Мр-р-м-я…" Этот звук прогнал "картинку", я с удивлением found myself31 довольно близко от черты – не очень, не опасно, но все-таки близковато. Встряхнувшись, я глянул на кошку, и…
Может быть, ты повесил ей колокольчик з д е с ь, чтобы наказать за хитрость т а м, вкрадчивым колокольчиком звякнул голосок в мозгу. Нет…
– Нет, – негромко пробормотал я, глядя кошке в глаза, – мне правда стало жалко ту пичужку. Ты могла бы не трогать ее – именно эту, понимаешь? Она… Она словно стала тоже нашей…
Кошка равнодушно отвернулась от меня, разлеглась на боку, а потом перекатилась на спину и подставила солнцу живот, согнув и задрав вверх переднюю лапу, словно тыкая ей в ясное голубое небо таким....
Словно дразнящим или обвиняющим жестом…
Вдруг мне показалось, что небо как-то потемнело, а кошка из рыжей стала дымчато-серой и на лапах у нее появились такие белые чуло…
Я вздрогнул так, что заскрипела ступенька, на которой сидел, и замаячившее было нечто растаяло, исчезло, растворилось в чистом прозрачном воздухе. Кошка быстро повернула голову на скрип ступеньки
(или на что-то другое?.. На то… н е ч т о, собиравшееся сгуститься и материализоваться передо мной?.. Чушь! Это тень, это прошлое, это мертвое прошлое…)
и внимательно уставилась на меня.
– Нет, – вздохнул и тихонько сказал я ей, – про эту птичку ты, конечно, не понимаешь. И не должна понимать. Но… Походи с колокольчиком.
Кошка равнодушно отвернулась и прикрыла глаза, оставив узенькие косые щелочки.
Да, я похожу с ним, говорили эти щелочки, и я не злюсь на тебя за это – у всех свои причуды, – но я не забыла, кто повесил мне на шею эту звякалку и…
Не забуду.
В кустах справа раздался слабый шорох, из них вынырнула настороженная мордочка Кота и тут же снова пропала. Его птицы почему-то не интересовали, во всяком случае, он ни разу не приносил мне птичьих трофеев. А вот на белок, порой прибегавших откуда-то и резвившихся на соседнем участке, он поглядывал с большим интересом. Но на чужом участке не охотился. А на наш – белки… На наш они не забегали.
Никогда.
* * *
– Пойду звякну в аэропорт, – пробормотал я, ни к кому не обращаясь, и зашел в дом.
В аэропорт звонить, конечно, было рано, никаких дел у меня сейчас не было,
(… сейчас, блядь… А какие у тебя вообще теперь дела? Ну, что ж, сам хотел на пенсию…)
и я прилег на диван и стал рассеянно листать книжку в бумажной обложке – какой-то дурацкий детектив. Отыскав страничку, на которой остановился, я попробовал почитать, но слова плохо складывались в предложения, теряли смысл и… Я прикрыл глаза и вспомнил свой предпоследний телефонный разговор с Рыженькой. Когда она сообщила мне, что Шериф решил совсем отвалить от дел…
– Как это – совсем? – растерянно пробормотал я. – Вдруг все бросить и… На ком же все будет держаться? Тут что-то не так. Ты что-то недогова…
– Что значит "бросить"? – перебила меня Рыженькая. – У него остается его доля акций, а держаться… – в трубке раздался вежливый смешок. – Вы не совсем правильно представляете себе, что и на ком держится. Наша компания… Вообще любая компания такого масштаба держится не на одном человеке, а Шериф последний месяц… Ну, его вообще не было, ему пришлось полежать в больнице, а за месяц произошли серьезные изменения, и теперь ему трудно влиться в…
– В какой больнице? Что за х… Что с ним такое?
– Люди иногда болеют, – вежливо сообщил мне голос Рыженькой. – Ничего серьезного, просто… Перенапрягся немножко, нервы расшатались. Словом, если вы не передумали и если это не нарушает ваших планов, – в ее голосе проскользнула едва уловимая издевка,
(… Какие у тебя могут быть планы? Ты же все равно ни хрена не делаешь…)
– я быстренько все оформлю и недельки через две вы уже его встретите. Ему просто нужно немного отдохнуть, повидаться со старыми друзьями. Знаете, он вас часто вспоминал и по-моему скучал…
– Почему ты говоришь в прошедшем времени? Почему ты говоришь о нем так, словно он уже…
– Дорогой отчим, – с уже откровенной насмешкой перебила она, – в русском языке нет строгого согласования времен. В русском языке с временами вообще можно обращаться произвольно. Ваш друг и бывший соучредитель жив и здоров, – перед "здоров" она сделала еле заметную паузу,
(или мне только показалось?.. Мнительный стал Сидор, ох, мни…)
– И если вы не против его принять, то скоро сами в этом убедитесь. Вы…
– Это я – бывший, – вырвалось у меня. – Это я – все бросил и слинял, а вы мне зачем-то отстегиваете… То есть, теперь уже не вы, а ты. А он… Наша лавчонка была для него всем и…
– У нас уже давно не лавчонка, – спокойно, но совсем другим тоном, другим голосом
(вилка о нож… Или нож по стеклу…)
сказала телефонная трубка. – Пока он тянул на должности генерального директора, он тянул, потом – исполнительного, а когда перестал, сам решил уйти. Если не верите мне, подождите две недели, пока он сам вам не подтвердит. Если, конечно, хотите.
– Исполнительного… А Генеральный теперь, значит – ты? – я попытался, чтобы это прозвучало саркастически, но… Не получилось. – Кто же станет исполнительным?
– Не станет, а уже стал. И вы, – легкий смешок, – его знаете.
– Ну, да, конечно… – пробормотал я. – Интель.
– Его так теперь не называют, хотя… Вам, конечно, можно.
– Спасибо, – я опять постарался вложить хоть немного сарказма в свою реплику, но… Получилось так, что I mean it. Что ж, мне, и правда, стало приятно от ее подчеркнутого, с нажимом произнесенного "вам", так зачем притворяться… – Спасибо, – повторил я.
– Пожалуйста, – сдержано отреагировала она, и я почувствовал, что она угадала мои мысли и… довольна. – Кстати, у нас много новых сотрудников и… сотрудниц. Одну из них вы тоже знаете. Ей пришлось немного поучиться – закончила краткие курсы, – и теперь она младший менеджер.
– Ну, и кто же это? – безучастно спросил я.
– Ваша бывшая жена.
– Послушай, Рыжик, – помолчав, сказал я. – Если ты решила облагодетельствовать всех моих родственников, включая бывших… За каким…
– Вас действительно это интересует?
– Да.
– У нее испортились отношения с дочкой. Можно сказать, зашли в тупик. Ваша бывшая даже не хотела отпускать ее на год к вам.
– Она ничего мне не…
– Вам – нет, а мне – да.
– Почему?
– Потому что женщине в ее возрасте необходимо… Быть нужной кому-то, чувствовать свою… Ну, значимость, что ли. Будь ваша дочка постарше, она бы понимала это и постаралась как-то…
– Ладно, не продолжай, я понял. И что же теперь, когда ты взяла ее к себе?
– К нам, – небрежно поправила меня Рыжик-2.
– Хорошо, к нам… Ну и что, помогло?
– Конечно.
– Значит, я могу договариваться насчет школы и…
– Зачем? Я уже все устроила – чудный городок в Пенсильвании, недалеко от вас. И не слишком близко. Впрочем, если у вас другие планы, или вы хотите сами…
– Да нет… – я сам именно так и хотел, чтобы недалеко и… Не очень близко. – Все это отлично, только… Держать ради этого мою бывшую – не слишком ли…
– Нет. Она неплохо справляется, а кроме того, когда ваша дочка уедет… Все будет зависеть уже только от ее деловых качеств. Вы согласны?
– Я? Я – да. Да и как бы там ни было, – я усмехнулся, – оно что, очень нужно тебе, мое согласие?
– Конечно, – бесстрастно прозвучало в трубке, и мне показалось, что она не… Что она means it. И чтобы проверить, насколько она means it…
– Что же ты не спрашивала моего согласия насчет Шерифа, а, Рыжик? Он – соучредитель, и это поважнее, чем…
– Во-первых, вряд ли все соучредители вместе взятые важнее для вас вашей дочки. А во-вторых, – она выдержала секундную паузу, – звякните мне недельки через две, когда встретите его. И если тогда выразите несогласие…
– То что?
– То предложите свой вариант, – терпеливо, как ребенку, и немного устало произнесла она. – А сейчас извините, но меня уже ждут. Я позвоню вам, когда возьму ему билет – скажу дату и номер рейса. Скажите, а мама… – она запнулась. – Она сейчас дома?
– Нет.
– Ну, ладно… – мне показалось, что в ее голосе промелькнуло что-то, вроде облегчения. – Я рада, что она увлеклась работой. Вы… Вы не ссоритесь с ней? Она… Она спит нормально?
– Чего это ты вдруг заинтересовалась нашими отношениями? – удивился я. – И ее сном? Разве были проблемы?
– Да, – помолчав секунду, сказала она. – Сначала я думала, что это связано… Ну, может быть, с выпивкой, но…
– Нет, – вздохнул я, – ничего похожего. Мы не ссоримся. И со сном у нее все в порядке. Ладно, ты куда-то торопилась…
– Да. Я… Я рада, что у вас все нормально и… Позвоню. До свидания.
– До свидания, – машинально ответил я уже не ей, а долгому гудку отбоя, и уставился на трубку.
Последнюю фразу, это: "Я рада…", – произнесла как будто другая… Другой человек. Может и не такой уж близкий, но
(… – Не забывай, она одна из н а с, – говорила Рыжая…)
не чужой, а вот все предыдущее…
Какая разница, что и к а к она говорит, раздраженно проворчал голосок у меня в мозгу, важно, что она д е л а е т. А делает она для тебя много и делает – правильно. Один только ход с твоей бэ-женой – она ведь вовсе не обязана…
Голосок был прав, но… Почему у меня всегда при разговорах с ней такое чувство, будто я говорю с двумя разными людьми. Разными существами… В том, что касается лично нас, она – с нами, а вот когда речь заходит о деле… Ну, что ж, в конце концов, это – ее дело, теперь уже, раз такой оборот с Шерифчиком, целиком ее, а стало быть…
Надо предупредить Рыжую, что у нас предвидится гость. Только что же там стряслось с этим "гостем". Пол года назад он развелся со своей половиной и сам купил мою бывшую квартирку, заплатив… Когда Рыженькая сообщил мне, сколько он заплатил – выходит, мне заплатил, – я присвистнул и заворчал было, что между своими так не делается. Но она тут же дала понять, что это не мои проблемы – платит фирма и… Словом, это часть их дела, ее дела, так что сиди, дескать, и не рыпайся. Я хотел было звякнуть Шерифу и дружески поинтересоваться, какого, я извиняюсь, хрена он занялся благотворительностью, но… Так и не позвонил. В конце концов, у него есть мой телефон, и если он не соизволил набрать номер, то почему я должен…
Может, стоит теперь звякнуть? Хотя какой смысл? Скоро мы с ним увидимся, и быстро разберемся…
* * *
В одном я был прав. В другом – ошибался. Увиделись мы с ним, действительно, скоро. А вот разобрались…
Не быстро.
* * *
На Рыжую сообщение о приезде моего дружка не произвело почти никакого впечатления. Она только спросила:
– Он – с концами отвалил оттуда?
– Ну, с одним-то точно, моя донна… Ну, не фыркай, не фыркай, разучился я на Великом и Могучем острить…
– Но у нас – долго будет жить?
– Не знаю. Захочет остаться – купит домик по соседству. А пока пускай поживет… Ты против?
– Я? – она удивилась. – Нет. Только… – она пристально взглянула на меня.
– Что? – не понял я.
– Ничего, – медленно произнесла она. – Лишь бы он не мешал тебе работать.
– Какая работа, Рыжик, – отмахнулся я. – Ты тактичная женщина, но ради Бога, не старайся внушить мне, что я работаю.. Это же просто… ну… От нечего делать и… Кому на хрен нужны здесь переводы на русский?
– Мне они нравятся! – перебила она меня. – И они… Ты любишь это делать, я знаю. Я вижу! И я не хочу, чтобы кто-то мешал тебе, не хочу, чтобы кто-то лез в твои… они и мои… В наши дела, в нашу жизнь. Ты… – в ее голосе послышались нотки тяжелого ворчания какой-то раздраженной киски типа Panthera. – Ты что, не понимаешь меня?
– Понимаю, Рыжик, – миролюбиво сказал я. – С какой стати ему мешать мне и вообще лезть…
– Ну, и отлично, – кивнула она. – А если у него чего-то со здоровьем не клеится, мы ему сиделку наймем – шлюшку какую-нибудь симпатичную. Пускай его с ложечки покормит, – она усмехнулась, – или грудью.
Я представил себе Шерифа – с его тяжелой золотой цепью на бычьей шее – в детском слюнявчике, с остатками каши на подбородке и ложкой у рта, и… Расхохотался.
* * *
Ровно через шестнадцать дней, встретив его в Далласском аэропорте, я не смеялся. Я…
В общем, мне было не до смеха.
7.
Чтение явно не клеилось – дурацкий детектив, на двадцатой странице уже ясно, что будет на последней. Я слез с дивана, поднялся наверх и зашел в большую комнату, примыкающую к нашей спальне – что-то вроде кабинета. Тут стоял громадный письменный стол – редкостное уебище, откопанное Рыжей на какой-то распродаже (когда его привезли, она пол дня расхаживала по дому с таким гордым видом, как наша кошка – в первый день с колокольчиком). Еще – вертящееся кресло, безумно дорогой кожаный диванчик, здоровенный, черного дерева, книжный шкаф, набитый собранием сочинений "короля ужасов", детективами в бумажной обложке и фолиантами с интерьерами прошлого и позапрошлого веков, журнальный столик, пара кожаных кресел и бар с холодильником.
Кабинет…
Когда Рыжая увидела, что я привез с собой свой доисторический Notebook, она очень оживилась и сказала, что пора перепланировать весь дом, или купить другой, побольше.
– Зачем? – не понял я.
– Ну, как зачем? Мы сделаем тебе классный кабинет…
– Для чего?
– Для чего бывают кабинеты? Для работы, для…
– Рыжик, – я с любопытством уставился на нее, – кто тебе сказал, что я собираюсь работать? Да еще в кабинете?
– Но ты же привез зачем-то компьютер…
– Это не компьютер, – вздохнул я. – Это историческая реликвия. Даже доисторическая. Просто… – я опять вздохнул (в самом деле, зачем я его привез, и что – "просто"?). – Захватил с собой, сам не знаю, зачем…
– Ну, все равно, – отмахнулась она, загоревшись своей идеей, – у мужика должен быть кабинет. Купим другой дом. Я завтра заеду в одну контору, поговорю с агентом, возьму проспекты и мы подыщем…
– Рыжик, – взмолился я, – я только-только привык к нашему дому! Не надо сейчас менять! Ну… – я увидел, что она нахмурилась, как ребенок, которому не дают повозиться с новой игрушкой. – Ну, давай я сделаю себе кабинет рядом со спальней – там все равно простаивает огромная комната…
– Это не кабинет, – фыркнула Рыжая, – это – чулан с окошком.
– Вот и отлично. Куплю какой-нибудь письменный столик… Что-нибудь, типа книжной полки…
– Точно, – обрадовалась она, загоревшись новой идеей, – сделаем там еще и библиотеку.
– Рыжик, – взмолился я, – у нас и книг-то почти нет…
– Будут, – пообещала она.
Я махнул рукой и пустил все на самотек. Кабинет, так кабинет…
Я оторвал взгляд от окна (Рыжая хотела расширить его и сделать трехстворчатым – венецианским, блядь, – но как-то обошлось) и взглянул на дисплей, где наконец-то выплыл единственный текстовой файл.
Сам не знаю, зачем я привез сюда свой древний Notebook. И зачем иногда часами просиживал за ним, переводя на русский
(совсем спятил… На хрен мне это нужно?…)
странноватую эпопею "короля ужасов", которая в России давным давно переведена, распродана и забыта… "Темная…"
Через пару месяцев после моего приезда, я, отоспавшись, налюбившись, отъевшись и…
(Ну ладно, ты думал, она… Ну, налюбишься, отоспишься, а дальше?…)
Вдруг купил в супермаркете роман "короля" под названием "Desperation" и за месяца полтора перекатал его на ВМПС. Перекатал и дал прочесть Рыжей. Она прочла и…
– Твою мать… Я же читала это когда-то… Вернее, пыталась. Он назывался…
– Рыжик, он всегда назывался "Desperation". По-русски это – отчаяние или безумие, или… И то, и другое… Но такое название нельзя дать в русском варианте, потому что это еще и название городка. Поэтому тот, кто переводил, он… Я не люблю хаять чужую работу, тем более, работу коллег по перу, но… Любой профи тебе скажет, что одним словом в названии тут не обойдешься, поэтому тот, кто это сделал, он – вообще не профи, как говорят, просто не в теме…Он, может, и хороший…
– Да, какой, на хрен, хороший!.. Это же классный роман, а тогда я не дочитала до середины… Слу-у-у-шай, да ты же, правда, переводчик!..
(Слу-у-у-шай, да ты же правда рыжая!…)
– Да, родная! Я самый лучший!.. Был. В адмиральском чине. Не выпить ли вискаря по этой причине?
– Еще как! Ты… Ты у меня будешь переводить! Для меня! Считай, я тебя наняла – для себя. И теперь ты – мой личный… И только попробуй, скажи, что не будешь, ну? Для выблядка этого, моего бывшего, готов был? Сам говорил, хотя хвост седой и облезлый, а для меня? А?..
– Так то ж за бабки, моя донна – когда я нищим был. А теперь я, чай, не бедней тебя буду.
– Значит просто для меня – не хочешь?.. – Просто мне приятное делать…
(… глухое ворчание и… влажно блеснувшие клыки в темном провале глотки…)
– Какой аск, моя донна? Попробую… Вдруг – получится?
Пальцы потянулись к клавиатуре, и на дисплее стали появляться значки, складывающиеся в слова, а потом во фразы…
8.
Я припарковал машину на том самом месте, где когда-то меня встречала Рыжая. Точно так же, как и тогда, неподалеку стояла полицейская машина с мигалкой, и двое здоровенных копов лениво переговаривались друг с другом. Я вылез из машины и закурил. Легавые ( извиняюсь, cops ) окинули меня равнодушными взглядами и отвернулись. Может, это были те же самые, которые наблюдали нашу встречу с Рыжей, насторожась, как два фокстерьера, а потом, когда мы обнялись, отпустили в наш адрес равнодушную реплику: Fucking jerks…
Что ж, сейчас им не на что будет вставать в стойки фокстерьеров, потому что вряд ли Шериф отвесит мне оплеуху при встрече. Интересно, изменился он за год? И много ли у него вещей? Вряд ли… Маловероятно, что он приехал на постоянку, на пенсию – больно уж он деятельный, наш Шерифчик. И приболел он, там, или не приболел, но безделья в отличие от меня не выносит…
* * *
Он вышел одним из последних и двинулся в мою сторону. Улыбаясь, я пошел ему навстречу – издали он, казалось, ничуть не изменился, все та же гора мышц и мяса, катящая за собой один небольшой чемодан, но чем ближе я подходил, тем быстрее улыбка сползала с моих губ и тем сильнее под ложечкой стала ворочаться какая-то…
Что-то, вроде пиявки. Типа того. Потому что мне навстречу шел н е Шериф, а что-то похожее на Шерифа. И шло это отнюдь не мне навстречу – он меня не видел, он просто шел в эту сторону, но явно мимо меня, сосредоточенно и одновременно рассеянно
(как такое может быть?… Это же чушь..)
глядя прямо перед собой.
– Шериф! – срывающимся голосом окликнул я его.
Он остановился, как застопорившийся механизм, повернул голову чуть влево, потом чуть вправо, потом посмотрел на меня.
(Пустые глаза… Ничего не выражающий взгляд, и сам он… Это не гора мышц и мяса, это… Словно все мышцы и мясо, все нутро вынули и накачали… Нет не воздухом, а наполнили чем-то рыхлым, вязким, расползающимся, а потом сверху натянули оболочку Шерифа, не дающую э т о м у расползтись…)
– Привет, – сказал он. – А я тебя не заметил.
– Ты… – я поперхнулся. – Ты в норме, или?.. Устал?
Он слегка растянул губы в усмешке
(Слабая тень от прежней шерифовской усмешки…)
и ровным бесцветным голосом произнес:
– Да, немного устал. И да, в норме. Теперь уже в норме.
– Ты… Болел, да?
– Да, – кивнул он. – Было дело. Где твоя тачка?
– Вот она, – я махнул рукой на Мерседесик. – Поехали? – Я распахнул переднюю дверцу. – Ну, чего стоишь, садись.
– Да, – сказал он, не двинувшись с места, словно задумавшись, сделал шаг вперед и остановился, – Но чемодан… – он поглядел на свою руку, сжимавшую ремешок от чемодана, и задумался. Он… Он понимал, что нужно положить чемодан в машину, но не мог сразу сообразить, как это сделать.
– Ах да, чемодан, – я постарался сказать это как можно естественнее, – отпусти ремешок, я положу его в багажник. И садись в тачку, я сам справлюсь.
– Да, – кивнул он, разжал ладонь (ремешок брякнулся на асфальт), и стал медленно нагибаться, чтобы усесться в машину.
Я открыл багажник, засунул в него чемодан, захлопнул крышку, постоял минуту не двигаясь, стараясь придать лицу нормальное выражение, и уселся за руль.
– Ну, что, двинулись? – бодренько спросил я Шерифа, кинув на него быстрый косой взгляд.
– Да, – сказал он. – Конечно.
И больше не произнес ни слова за всю дорогу до дома – просто сидел и смотрел перед собой на бегущие навстречу разделительные полосы шестирядного хайвея. Лишь когда я притормозил у нашего driveway, он неожиданно изрек:
– Ты стал неплохо рулить, – подумал и добавил, – аккуратно.
Я ничего не ответил. Всю дорогу я тоже молчал – не задавал никаких вопросов, не старался завести и поддержать хоть какой-то разговор. Я понимал, что с ним происходит, я просто знал это, потому что когда-то давным-давно сталкивался с кое-чем подобным, видел это. И поэтому сумел, как говорят, взять себя в руки. Это бьет по мозгам, пугает лишь в первый момент, но потом, если знаешь…
Ну, конечно, его, как минимум месяц, накачивали аминазином, аминазолом, ами-хрен-знает-чем, да плюс еще нейролептики и прочие прибамбасы, которые Её Величество Медицина успела придумать за почти тридцать лет с тех пор, как я сам попробовал на свой шкуре (в сильно смягченном варианте) её достижения.
Как бы это объяснить, с чем бы сравнить…
Ну, наверное, с кровавой царапиной, с раной, которая начинает заживать. И на ней образуется такой струпик, такая корка из засохшей крови и сукровицы. Этот струпик, даже струп, учитывая размеры Шерифа, выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, просто страшно, но… Его образование – единственный способ заживления раны. И то, что он есть, свидетельствует о том, что рана заживает. Под ним. И все эти аминазолы и амина-хрен-знает-что придуманы вовсе не для того, чтобы превращать людей в такие вот струпы, вовсе не для садистских мучительств и пыток (хотя, конечно, их можно использовать и так – ведь паяльником можно что-то починить, запаять, а можно и кому-то в задницу засунуть), а для того, чтобы залечить рану. Это не так-то просто понять и принять, особенно когда видишь такой струп впервые, но когда сам столкнешься, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком заденешь…
В двадцать лет мне довелось оказаться в одном психиатрическом заведении, попросту говоря, в психушке (как и почему – долго рассказывать, а если коротко, конспективно, то "запил, загулял парнишка-парень молодой", да еще институт бросил, над головой армия зависла, словом все, как говорится, одно к одному). И в первый же вечерок воткнула мне сестричка в задницу два кубика чего-то коричневого – блатной, там, не блатной, а порядок для всех общий, никуда не денешься, сел за столик, так заказывай, – и стало меня ломать так, что мало не казалось: температурка прыгнула, суставы ломит и внутри, во всем н у т р е крутит, тянет, свербит… Словом, ноет как-то все тело, да так, что ни о чем думать не можешь, только о ноющей этой боли в е з д е… И сижу я скукоженный в коридорчике, кряхчу, постанывая, и подсаживается ко мне здоровенный мужик, узбек, кажется, и спрашивает:
– Кололи?
– Угу, – мычу я, – час назад…
Он ручищей своей мне лоб потрогал.
– Нет, – говорит, – температура нет почти. Всё болит, да?
– Угу, – киваю я, а сам думаю, шел бы ты нах… отсюда, без тебя тошно. – Болит… как-то везде…
– В жоп? – спрашивает.
– Чего? – я не понял.
– В жоп, говорю, кололи?
– Ну, да…
– Аминазинчикум, – бормочет он. – А мне вот вчера – сульфазинчикум. Под лопатк. Температура – сорок два. Болит так… – он усмехнулся, – тебе не снится. Думал, умираю.
– Кошмар, – бормочу я. – Суки…
– Да-а… – он кивает несколько раз, наверное не мне, а каким-то своим узбекским мыслям. – Целый день умирал, ох-хо-хо, – потягивается всем своим здоровенный туловом, и… – Завтра попрошу, чтоб еще сделали.
Мне кажется, я брежу, я просто… Он не мог этого сказать! Я на секунду даже отвлекаюсь от своих мучений – он не мог э т о г о сказать, он что, с ума сошел?
(… дурацкий вопрос – конечно сошел, если бы не сошел, что бы здесь делал?..)
И единственное, что я могу выдавить из себя, уставясь не него в немом изумлении:
– За… З а ч е м?
Он непонимающе хмурит жиденькие брови на здоровенном, круглом и (как мне кажется) туповатом лице, а потом усмехается как-то снисходительно, наклоняется ко мне ближе, словно сейчас скажет что-то секретное, и…
– Ты еще не знаешь пока, но… Узнаешь. А я тебе просто скажу. Когда тут – он обводит руками все свое здоровенное туловище, – болит, вот тут, – он тыкает толстым пальцем себе в висок, – н е болит.
Такие вот дела.
И молчал я всю дорогу до дома, потому что говорить сейчас со струпом просто бессмысленно. Как, извиняюсь за дешевый каламбур, с трупом. Вот когда струп отпадет, и Шериф станет… станет Шерифом, тогда мы поговорим, тогда послушаем, что же такое случилось, что ему пришлось познакомится с такой медициной. Только…
Странная мысль пришла мне в голову, когда я затаскивал шерифовский чемодан в холл и показывал ему, где раздеться. Странная и немножко… тревожная. Не уверен, что мне захочется э т о слушать… но…
Куда денешься. Сам приглашал, сам домик обещал, и вообще… Если кто шесть пик заказал, остальных – не спрашивают. Обязаловка называется.
* * *
– Ну ладно, – сказал он, отодвигая от себя пустую тарелку, – у тебя, ведь, есть вопросы, да? Спрашивай.
Мы с Рыжей переглянулись, я пожал плечами и как можно небрежнее буркнул:
– Сам расскажи.
– Что рассказать? – спросил он.
– Что считаешь нужным.
– Если вы хотите поболтать вдвоем, я… – подала было голос Рыжая, но он отрицательно мотнул головой.
– Шериф, – сказал я, – если ты неважно себя чувствуешь…
– Я нормально себя чувствую, – перебил он меня, – ты же видишь. Сколько я уже здесь? Две недели?
– Три, – тихонько поправила Рыжая.
– Ну да, – он усмехнулся, -
(уже почти нормальная, Шерифовская, усмешка… Почти…)
первая прошла, как… в тумане. Значит, рассказать? – он уставился на меня тяжелым взглядом, в котором была… Не боль, не тревога, не страх, а отголосок всего этого и чего-то еще. Чего-то… страшного.
– Расскажи про себя, – попросил я, – про нашу лавочку я все знаю.
– Всё знаешь?
– Ну, я же с ней разговариваю, она, – я усмехнулся, – мне как бы докладывает, поскольку я – как бы соучредитель, так что…
– А ты знаешь, сколько и каких людей надо было потеснить, чтобы?..
– Мне это мало интересно, – перебил его я. – Расскажи, что произошло с тобой.
– А что со мной, – он пожал плечами, – ты же сам видишь: в дурке лежал, ну и… Отлежал свое, оклемался… Теперь вот у вас после дурки оклемался. Вот и всё.
– А с чего же это ты в дурку попал? – поинтересовался я. – Как-то ты и дурка – две вещи несовме…
– Давайте выпьем, а? – вдруг попросил он.
(три недели равнодушно качал башкой, когда я предлагал… даже упрашивал…)
Рыжая глянула на меня, я кивнул, она встала, достала из бара вискарь, из морозилки – лёд и три тяжелых бокала. Шериф отмахнулся от льда, сделал хороший глоток из своего бокала и довольно крякнул. Морда его расплылась в знакомой ухмылке, и мне показалось, что еще одна доза, и – все остатки этого жуткого "рубца" от амина-хрен-знает-чего рассосутся, просто исчезнут, "как сон, как утренний туман".
(зря показалось… в глазах – все тот же отголосок чего-то… )
– А ты не с белкой часом ли слег, а?
– Формально – что-то, вроде того, – кивнул он.
– Типа – допился? – я недоверчиво уставился на него.
– Типа, как бы, – усмехнулся он и сделал еще один хороший глоток.
– Ну ладно, а без "типа"? Что стряслось-то? Трудный развод с бывшей? Нервишки помотала?
– Да брось ты, – отмахнулся он, – я уж давно забыл… Что стряслось? – он помолчал. – Словом, так…Вот тебе конспект. Месяца четыре назад она решила откусить такой кусок, что… Словом, кусочек от трубы. Ну, пускай, не трубы, а трубочки, но все равно, там, где нефть капает, там… Я, конечно, отговаривал, но я уже ничего не решал. В общем, пригласили нас…
– На стрелку?
– Стре-е-лку, – протянул он и налил себе еще пол бокала. – Ты, видно, не врубаешься. Пригласили нас серьезные люди на черноморское побережье – у них там свой отельчик, звезд на пять с половиной, – на переговоры. Ну, мы приехали. Я, она и двое охранников. Нас опекают, развлекают. На третий день, вернее, вечер уже, почти ночь, идем все на пляж – у них свой пляж. Нас четверо, их – семеро, ну, двое хозяев, две поблядушки экстракласса и трое… ихних ребятишек. Сели все на лежачки, на песочек, выпили винишка, Рыжуха и шлюшки все с себя поснимали и – в море, а мы… – он замолчал.
– Ну, что вы? – подстегнул его я.
Шериф сделал маленький глоток из своего бокала, облизнулся и уставясь в одну точку, хрипловато продолжил:
– В общем, достают их ребятишки стволы с глушаками и… Мочат аккуратненько наших двух и шлюшку третью – те даже пикнуть не успели. Действительно, аккуратно – по одному выстрелу, в головы. А хозяева мне культурненько объясняют, что всё, дескать, слезайте-граждане-приехали-конец. Что сейчас Рыжуху все пристутствующие протянут во все дырки, а потом нас… Я было дернулся, но получил пяткой в брюхо и затих. Сижу с высунутым языком под прицелами, стараюсь дышать и… Смотрю. На море смотрю, а там, вроде, никого не видно… Странно, как-то, вроде луна все освещает, а никаких всплесков, ни одной головы не торчит в воде, словом… Один хозяин говорит ребятам, дескать, пойдите, гляньте, куда они там заплыли. Двое встали, один со мной остался. Двое пошли к воде… – Шериф замолк.
– Ну, к воде, – переглянувшись с Рыжей
(Бледная, как смерть… руки стиснуты так, что суставы пальцев побелели…)
сказал я, – не томи, крути сюжет.
– Она вылезла из воды, – хрипло, все так же глядя в одну точку, – пробормотал Шериф. – Она выползла из моря… Там не было ничего, а потом она выпол… Нет, вырвалась прямо из моря, и… Всё.
– Что – "всё"? – тупо переспросил я.
– Всех, – он оторвал, наконец, взгляд от своей "точки" и посмотрел на нас. – Она их всех, понимаете? И других – прибежали же еще… Они стреляли, но… Ей это было… Она пере…– он поперхнулся. – перкусывала их, как… Не знаю… Тот, что был рядом со мной, разрядил в нее всю обойму, а она… Она ударила его хвостом, или… Ну, в общем, просто как бы отмахнулась, а у него на груди… У него от груди почти ничего не… осталось, как будто трактор проехал – я видел, я же близко был…Она…
– Кто – она, Шериф? – тихо спросил я.
– Не знаю, – он помотал головой. – Не знаю…
– Но ты же видел. Опиши её, как можешь… Как запомнил, – не глядя на Рыжую, попросил я. – Хотя бы, на что это было похоже – на рыбу, или… – я запнулся, не желая подсказывать ему, наводить.
– Нет, не рыба, – он нахмурился и попытался сосредоточиться. – Она… Огромная, черная… Ну, такая вытянутая, как торпеда, и с обоих концов почти одинаковая, только с одной стороны раскрывается… Ну, как пасть, но только в обе стороны, понимаешь? Словно обе створки двигаются, как будто… Ну, чемодан, что ли… И там не было зубов, там какие-то сплошные… Не знаю. Она похожа на… На…
– Пиявку, – сдавленно пробормотала Рыжая.
– Да, – кивнул он, – Наверное… Я не помню, я наверное вырубился или глаза закрыл, а когда… Словом, потом, открыл глаза, я – уже на ногах стою, Рыжуха, уже одетая, шортики, там, топик… меня поддерживает и… вроде как, уводит с пляжа. И я иду, так просто ногами передвигаю и оглядываюсь вокруг, и… Вокруг – никого и ничего. Только что были тела разодранные, кровища и она, а тут – ничего. Вообще ничего, песок и… Ничего.
– Ну, а дальше? – спросил я.
– А что – дальше? Пришли в отель… Наверное. Я как-то плохо помню… Потом, на следующий день улетели домой.
– И вас не… не задерживали? – не понял я.
Он усмехнулся.
– Некому было задерживать, Котяра. Все, кто мог задержать, там остались – на пляже… Нет, – он нахмурился, – на пляже никого… Значит, в море… Ну да, в море… Откуда она пришла, туда и… все…
– Ну хорошо, – помолчав, сказал я, – но ты же потом её спрашивал… Ну, вопросы какие-то задавал про то, как там все получилось?
– Понимаешь… Я несколько дней вообще как-то… Ну, ничего не помнил, словно блок какой-то в башке поставлен. А потом… Начало всплывать, и я…Начал спрашивать, а она… Вроде как не понимала, о чем это я – ну, дескать, были, я с ними пьянствовал, потом договорились, все уладили и отвалили. Но… – он нахмурился, – мне казалось, что она… Вроде как, сама не помнит, или… Просто не знает. В общем, уходила от ответа, она это умеет, а у меня, когда вспомнил, начались… Глюки начались. Я выпивать стал как следует, забыть старался, но… Чем больше пил, тем…
– Какие глюки? – тихо спросила Рыжая.
– Ну… Мерещилась мне эта… Везде мерещилась, приходила и… Смотрела на меня отовсюду… Черная… И глаз у нее я не видел, но… Смотрела…
– Ну, тихо, тихо, – я увидел, что у него трясутся руки, – все это прошло, все это в прошлом.
– Прошло? – криво усмехнулся он, вскинул на меня глаза, и я увидел в них такую тоску, что меня просто физически уколола жалость. – Котяра, глюки у меня прошли – ну, допился я, наверное, вот и залетел в дурку, но… То, на пляже, я ведь помню, и… Кусок, из-за которого весь сыр-бор, она ведь откусила, и даже отельчик этот теперь её… То есть, наш, а я… Посмотри, что со мной стало…
– Шериф, я…
– Да, ты, – кивнул он. – Ты мне одно скажи, ты… Вы знаете, что это было?
– Да, – хрипло вместо меня сказала Рыжая, я глянул на нее и увидел, что она уже близко от черты
(рыжая грива приподнялась… в волосах потрескивают голубоватые искорки электрических разрядов… тело разогревается… еще шаг, и…)
совсем близко.
– Тихо, тихо, – прошептал я, чувствуя, что и сам покатываюсь к черте, – Шериф, мы разберемся с этим…
– Я-а-а – разберусь, – промурлыкала Рыжая, слегка откатываясь от the border, the precinct (но недалеко). – Это – моя дочь, и разбираться – мне.
– Нам, – поправил я. – Нам, моя донна.
– Нам? – переспросил Шериф, и его руки, обхватившие бокал с остатками вискаря опять затряслись, здорово затряслись. – Но я больше туда не…
– Нет-нет, – отмахнулась Рыжая, – нам – это он говорит, в смысле, ему, – она кивнула на меня, – и мне. И наверное, он прав.
– А-а, – с облегчением вздохнул Шериф (а я вдруг ясно понял, до какой степени его это скрутило, если он с таким облегчением вычеркивает себя), – ладно… Я, пожалуй, пойду прилягу… Кстати, – он задумался на секунду, словно вспоминая что-то, – я сказал, что на пляже – никого, но… Там были кошки.
– Какие кошки?
– Ну, обыкновенные, только… Они так странно сидели, по кругу, и смотрели друг на дружку, а на нас…Не смотрели. И после всего, когда она уводила меня, они… Все так же сидели – не шелохнувшись. Странно… – он нахмурился, – такое рядом творилось, а они… не обращали внимания, словно не видели, или… Может, мне, и вправду, все это привиделось… Не знаю. Ладно, – он зевнул, – что-то меня в сон тянет.
– Иди, поспи – кивнул я. – И не бери в голову.
– Не буду, – кивнул он, встал из-за стола, тряхнул башкой и двинулся к двери, но у двери гостиной остановился, обернулся к нам и спросил: – Помнишь, как ты мне сказал… Ну, когда вся эта каша с Людкой заварилась в магазинчике… Будут бить – будем плакать. Так вот, – он устало вздохнул, – меня уже прибило, а вы… Вы как-то странно выглядите…
– В каком смысле? – спросила Рыжая. – Плохо?
– Да нет… Если бы я не знал, сколько вам лет, сказал бы навскидку… Ну, где-то за тридцать, там, или тридцать пять, но… Я не про это, хотя… Это тоже, как-то странно…
– Воздух тут свежий, – буркнул я. – Иди, дрыхни.
– Иду, – послушно кивнул он.
И ушел. И мы остались одни. То есть, вдвоем, но… Одни. Совсем одни в этом ебаном мире, потому что таких, как мы, в нем больше… не наблюдалось. И одиночество вдвоем, конечно, лучше, чем в одиночку, но… Это тоже одиночество – вот так вот, ебить твою… Извиняюсь, по местному сказать, bloody fucking shit…
* * *
В последнюю ночь перед отлетом на многострадальную родину мы почти не спали. Когда легли, я спросил:
– Что ты реально хочешь сделать? Что мы реально сможем сделать?
– Не знаю, – быстро ответила она, словно ждала этих вопросов. – Но если мы ничего не сделаем, её просто убьют. Просто пристрелят и… всё.
– Её нельзя пристрелить. Ты что не помнишь – твой покойный муж стрелял в эту тварь, а на ней не оставалось даже царапин…
– При чем здесь тварь?!. Господи, как же я ненавижу их! Всю жизнь ненавидела и боялась!.. Но я не про тварь, я про неё. Она же охотится там, неужели ты не понимаешь? Охотится – прямо в городе! Не как мы – где нам положено, а на улицах, в переулках, или… Словом, в человеческом ареале.
– С чего ты взяла? – удивился я. – Ты понимаешь, кто… Или что в ней сидит? Почему ты решила, что она – как мы?
– Я знаю! – с силой сказала Рыжая. – И ты – знаешь. Это она помогла тебе там, на даче… Просто сейчас она – одна, совсем одна, и не понимает, что нужно уходить, как мы уходим – в свою зону… Не понимает, или не может уйти – одна…
– Ты хочешь сказать, что у нее нет мужика, и поэтому?..
– У нее нет партнера!
– Какой партнер может быть у такой… твари! – я разозлился. – И кто, скажи, на всем нашем ебаном свете может убить такое? Это она убьет – кого угодно и нас с тобой, как котят! Ладно, пускай в ней есть… то же, что в нас, но представь, реально представь, что еще в ней есть?
– Это – не в ней, – прошептала Рыжая. – Это… Это как-то связано с ней, привязано, но… Это – чужое, чужеродное. Оно каким-то образом нашло… Нашло способ приходить через нее, и я…
– Ну что? Что – ты? – с тоской спросил я.
– Я виновата, – каким-то тусклым голосом произнесла Рыжая. – Она… Это существо, тварь, как ты говоришь… Она вырвалась через меня, а вернее… Из меня…Я никогда тебе не рассказывала, что было перед тем… Ну, перед той неделей, когда мы с тобой… Когда я затащила тебя к себе. Но теперь – расскажу…
И она рассказала.
Рассказала про жуткий, кошмарный сон…
Резкая боль рвет меня т а м изнутри, из распахнутых ног на красный песок выплескивается густая струйка темно-красной крови и моментально уходит в этот песок, сливается с ним, всасывается в него, становясь этим самым песком, а вслед за ней из выворачивающегося от боли наизнанку влагалища
(…я инстинктивно работаю мышцами живота, как меня давным-давно, тыщу лет назад, в какой-то другой жизни учили перед родами…)
каким-то винтообразным движением выныривает… Вырывается… Вылетает…
Черная скользкая тварь в четверть метра длиной и сантиметров десяти в диаметре,
(Господи!.. Как она могла там поместиться!.. Она же порвала мне там все, и я сейчас сдохну!..)
похожая на какую-то отвратительную рыбину… Нет! На тупорылую п и я в к у!
"Пиявка" стремительно скользит к застывшим в шоке Хорьку и Плоскомордому. До них самое больше метров пять, и "пиявка" одолевает это расстояние очень быстро,
(она не извивается, двигаясь вперед, словно у нее там внизу какие-то… плавники или… Лапки!..)
только еще быстрее, н а м н о г о быстрее она…
РАСТЕТ!!.
И когда поседевший за несколько секунд Хорек раскрывает рот в беззвучном крике, свое тупое рыло к нему задирает огромная, в человеческий охват, черная гадина, чей другой конец
(хвост?.. Или что там бывает у т а к и х…)
шевелится всего в нескольких сантиметрах от моих раскинутых ног.
Гадина распахивает свою па… Нет, это не пасть, просто ее удлиненное тупое рыло распахивается в обе стороны, как створки шкафа…
А потом рассказала, как этот сон, вернее, последствия того сна материализовались на ..цатом километре подмосковного шоссе…
(…иду, видя перед собой лишь широкую спину своего мужа, обтянутую дорогой лайковой курткой… Спина застывает, отодвигается в сторону, и я натыкаюсь взглядом на… Что это? Какие-то куклы, два каких-то манекена валяются в странных позах на огромной, зловонной куче мусора… О, Господи, это не куклы, это же…
Прямо передо мной валялись два трупа – один со смятой грудной клеткой,
(…Это видно… По ней словно трактор проехал…)
а другой…
Остроносые мокасины…Тугие джинсы обтягивают мускулистые ляжки… Мой взгляд инстинктивно ползет вверх по лежащему телу, отмечает рельефно выпирающие под джинсами мужские достоинства,
(…Он обожал так затягиваться… У него было, ч т о обтягивать…)
кожаная крутка, джинсовая рубаха, и… Ничего. Ничего, кроме какой-то бурой… Какого-то бурого пятна в раскрытом вороте рубахи, потому что… Потому что труп без головы!..)
А потом попросила, вернее, взмолилась, обхватив меня руками и ногами:
– Трахни меня, пожалуйста, трахни так, чтобы я забыла хоть на время обо всем этом! Я боюсь этого и… Я боюсь засыпать…
За дверью спальни раздался удивленно-требовательный мяв – нашим маленьким зверям явно не нравилась закрытая дверь, и они желали знать, почему мы отгородились от них, почему не уходим все вместе, куда нам положено, где нам так хорошо и правильно, но…
Я не обратил на это никакого внимания, я почти не слышал, все мое сознание залила жуткая злоба на Рыжую, на всех её Хорьков, на всю её семейку, и… Не знаю, что бы случилось, если бы я в последний момент последним кусочком рассудка, еще не залитым этой злобой, сумел направить её на…
На то, что просила Рыжая.
И моя злоба перетекла в нее, обволокла нас обоих и вылилась в резкое, яростное, грубое (без всяких ласк) спаривание двух человеческих особей – у самой черты, но не заходя за неё, балансируя где-то на краю, у края, за которым…
(нет, не н а ш дивный мир, а… Пустота. Мертвая черная пустота…)
не было ничего и быть не могло, разве что
(черная скользящая тварь с распахнутой в обе стороны пастью… без зубов, с двумя какими-то изогнутыми пластинами вместо них…)
только жуткая, неотвратимая, словно издевающаяся своей разверзнутой пастью…
Смерть.
– Что мы ей скажем? – спросил я под утро Рыжую. – У тебя вообще есть какой-то план, или?..
– Мы ничего ей не скажем. Просто приехали развеяться… Поживем в отеле, или в городской квартире – она наверняка живет в загородном доме, но… Охотится в городе, где-то рядом, и… там наверняка уже есть следы…
– Ты хочешь сказать, тела? В этом районе? Но откуда ты знаешь?
– Знаю, – она сладко потянулась. – Чувствую. Мы… должны будем найти того, кто занимается этим… Какой-нибудь cop…Ну, в смысле, мент, который ведет эти дела, и… Её надо выманить, но так, чтобы не сделать ей ничего плохого, а потом через нее выманить это…
– Ты хочешь рассказать всё какому-то… Хочешь посвятить в наше – чужака? Ты спятила!.. Кто нам поверит?..
– Мы можем не рассказать, а показать, – перебила она меня. – Нам все равно понадобиться чья-то помощь. Помощь тех, у кого есть оружие и кто умеет им пользоваться… Мы сами с ней не справимся – никакие мы, даже большие, у нас же есть предел, а эта… тварь… Она – вообще не отсюда, и для нас она неуязвима, только…
– Да менты же порешат нас всех! Это же конец! Да первый же мент, которому ты покажешься… или я… Который увидит тех нас, разрядит в нас всю обойму! Ты только представь себе эту картинку в натуре!..
– А ты вспомни другую картинку! Вспомни, кто убил такую тварь!
– Ты хочешь сказать… – медленно начал я.
– Да, – побледнев, кивнула она, – вспомни, как от нее отлетали пули… Только Он может… Но Он появился… Возник, или… пришел, когда в песок хлынула кровь! Когда тварь перекусила охранника, помнишь? Он не пришел помогать нам, не пришел отплатить за ту, ну, твою… как ты подумал сначала. Он пришел играть, в свою игру, потому что… Почуял кровь! В конце концов, Он – зверь. Как это говорят: если существо выглядит, как кошка, ведет себя, как кошка, мяукает, как кошка, значит – это кошка. Он должен быть такой же как мы, только больше, а значит… Он чует кровь!
– Ты хочешь вызвать?… – я не верил своим ушам, но в то же время понимал, что она… права. – Но Он же не может сюда…Он из другого… Наш мирок его просто не выдержит!
– Это не нам решать, – отмахнулась Рыжая. – Наше дело – позвать. Ты – должен позвать, – она глянула на меня в упор. – И ты – позовешь!
– Но если… если ты права, это же значит – подставить той твари какого-то… Или нескольких, которые нам поверят, и… Просто кинуть их в мясорубку! Ну да, – пробормотал я, – нам не привыкать, мы с тобой уже делали это. Ты – ту девку, домработницу свою, а я… Ту милку… Тебе что, мало?
– Другого выхода нет, – резко сказала Рыжая. – Не нравится, придумай что-нибудь получше… Может, там, на месте, мы придумаем, но…Ты пойми, – продолжила она уже мягче, – эта тварь, она… Она жрет мою дочь, она питается ей, она… – Рыжая всхлипнула.
– Что значит – "жрет"? Как она может ей питаться? Что ты хочешь ска…
– Она не отсюда! Она воспользовалась тем, что та – одна!… И она с каждым приходом что-то отнимает, что-то высасывает… Недаром же она так похожа на пиявку… Она и есть пиявка, только сосет не кровь, а…
– А что? Что же еще нужно пиявке?…
– Не знаю… силы, соки, или скорее… Самую суть – просто… Саму жизнь…
* * *
Эх, Рыжик, Рыжик… Ты думаешь, это ты виновата, но я-то знаю кое-что, чего даже тебе не рассказывал! Это ведь я в тот вечер, в ту ночь разборки с кодлой Седого – ночь, которая была уже на исходе, но еще не кончилась, – глянул на твою дочку д р у г и м и глазами, нет, не глазами зверя, не п е р е х о д я, а совсем, с о в с е м другими… Зачем?! Это было не нужно, она бы и так мне все рассказала, но… Я ошалел тогда от всей этой разборки, от первого п е р е х о д а, от сознания своей д р у г о й сути и… Заступил за черту – нет, не за the border, не за the percinct, а за… dead-line4, и посмотрел на девку… Вернее, дал посмотреть Т о м у…
мерцающими желтым, холодным и каким-то равнодушным огнем… глазами жуткой древней рептилии, жившей десятки миллионов лет назад, которыми теперь почему-то смотрят маленькие пушистые… Эта мысль вызвала дикий страх, но еще страшнее было то… То, что ощущалось, что жило и мерно пульсировало з а этими глазами, что было очень далеко отсюда, но одновременно было и здесь, и везде, и… О н о рассматривало, изучало её с холодным равнодушием.
Девка вдруг поняла, вдруг ясно ощутила, что Это смотрело на мир, когда еще не было м и р а.
Это смотрело на звезды, когда еще не было звезд.
Это существовало в то время, когда еще не существовало времени.
Это уже б ы л о, когда не было Н И Ч Е Г О, кроме…
"А где была ты, когда Я создавал этот мир, рядом что ли стояла?.." -насмешливый голосок в мозгу прошептал фразу из какого-то давно прочитанного… А потом, как росчерком молнии, резкой вспышкой понимания сверкнуло: Э т о стояло рядом и видело, н а б л ю д а л о, как Он создавал этот мир, потому что… Потому что для того Оно и было создано – д о в с е г о. До Света. До Тьмы. До отделения Света от Тьмы. Самым П е р в ы м.
Точно так же, как любой хищный зверь чует кровь (тут Рыжая права), эта жуткая тварь с горящими красной дьявольской злобой углями глаз (Рыжая не видела Там, но я – видел) чует с т р а х! А я заставил девку испытать н а с т о я щ и й страх! Я – т о л к н у л её т у д а, и… Своим страхом она выманила тварь о т т у д а. И теперь у Рыжей – одна надежда. Надежда на то, что Главный почует кровь тех, кого мы подставим, и придет, и п о и г р а е т, и… Но она не дура, она понимает, что кошка играет в свои игры только когда с а м а хочет, поэтому… На крайний случай она надеется, что Его сумею позвать я, и тут она тоже не дура… Но она еще в глубине души рассчитывает на то, что у меня есть какое-то подобие если не власти, то хоть возможности о чем-то просить или даже т р е б о в а т ь, потому что я когда-то заглянул Ему в глаза. И вот тут она – дура, потому что…
Она ведь не знает, ч т о я там видел…
* * *
Где ж я найду такого мента, которому можно рассказать или п о к а з а т ь, думал я в мирно плывущем над Атлантикой "Боинге", прихлебывая вискарь, как простую минералку
(не берет, зараза, ни к голове, ни к ж…)
и раздраженно косясь на Рыжую, сладко спящую в соседнем кресле. С какой радости вообще какой-то мент станет нам помогать, хотя… Если это будет тот, на котором висят эти дела… Если вообще е с т ь эти д е л а… Если Рыжая правильно вычислила… Если мент сам будет заинтересован в помощи и не рехнется от того, что мы ему покажем, не откроет беспорядочную пальбу во все стороны… Словом, тут столько "если", что все это превращается в "вилами по воде"…
Шериф дал мне кое-какие наводки и пару телефончиков ребят с Петровки, которые по его словам были ему кое-чем обязаны, но… Весь мой опыт общения с ментами исчерпывался несколькими пьянками с несколькими людьми в погонах и петербургским сериалом, над которым весело потешались на этих самых пьянках эти самые – в погонах…Правда они тогда были без погон и вообще без всего, поскольку дело происходило в саунах (российские традици, мать их… куда ж от них денешься). И представить себе э т и х ребят – хоть реальных, хоть сериальных, – в каком-то мистическом триллере… Глядящих, реально глядящих на то, что в таком жанре называют превращениями, оборотнями, или еще хрен знает как…
Это бред! Из этого ничего не выйдет, потому что не выйдет никогда! Если мы станем что-то рассказывать, нас упрячут туда, где уже отлежал свое Шериф, а если покажем… нас просто расстреляют в упор, или… люди в погонах станут очень неприглядными телами – в погонах, там, или без… Ведь это не так-то просто – стрелять в нас… Как-то у них это не очень-то получается,
(имел случай убедиться… даже очень крутые, даже с а м ы е крутые как-то р а с п а д а ю т с я… Черт, как жарко здесь… Нет, жар в н у т р и… Я уже у ч е р т ы… Тихо! Тихо…)
и… Что тогда? Слониха зайцу сделала минет – и смысла нет, и зайца нет. Нет, тут нужен… Тут нужен настоящий мент, который захочет разобраться п о – н а с т о я щ е м у… П р а в и л ь н ы й мент, которому плевать на все их п р а в и л а… Только… Где же нам взять т а к о г о, где, мать вашу, я вам его найду – рожу что ли?!. А если даже и найду, то по замыслу этой блядской рыжей морды, я возьму и п о д с т а в л ю хорошего честного парня под… Просто кину его в пасть этой т в а р и, чтобы она выпустила ему кишки и кровь… Кровь, блядь, везде – кровь, и я весь в крови, но о н – т о тут будет при чем? Это же неправильно, разве т а м мы бы так сделали!.. Разве т а м мы прикрываемся чужими телами, чужими жизнями? А еще говорят, зверства, мол, страшные звери… Рыжей не привыкать, она подставила ту девку, сунула в Мерседес вместо себя, да и я… Я же мог выгнать ту Милку, я же знал, что они будут давить через тех, кто рядом, но… Это что, звери? Не-ет, это мы, л ю д и – страшнее любых…
Хррясть!..
И венцом моих тоскливых мыслей неожиданно стал тяжелый удар кулаком, от которого хрустнул и сломался столик, откинутый с впереди стоящего кресла, а стаканчик с вискарем покатился по проходу, предварительно выплеснув содержимое прямо мне на… Рыжая что-то пробормотала во сне и… Даже не шевельнулась. Знай себе дрыхнет, а объясняться со стюардессой придется мне – вот зараза…
Суки проклятые… Ты вроде как на пенсию туда собрался, говорил Шериф… Дали блядь, мне пенсию, дали твари пожить спокойно пару лет… даже меньше, так не-е-ет, опять завертелось какое-то… Ну, блядь, я вам всем… Я вам, суки, расскажу, что кушает на обед крокодил…
– Э-э, простите, это я не вам… Столик? The table? Ну… такие столики – хлипкие tables… Sorry, my fault. Извиняюсь, конечно… Pay for it? Sure, no problem. Да нет проблем, сейчас решим вопрос… И еще двойной, black lable, please, and keep the change… Thank y o u!
… Блядь пергидрольная!…
Часть 3
9.
В середине тридцатых годов прошлого века тихий и мирный московский часовщик, Моисей Шнеерзон, неожиданно увлекся идеями господина Жаботинского и стал в душе пламенным сионистом – в прямом и нормальном смысле этого слова, то есть убежденным сторонником идеи о том, что евреи должны жить в Палестине, создав там свое государство. Впрочем, сионизма Моисея Шнеерзона на отъезд в Палестину не хватило, а хватило лишь на то, чтобы дать своему первому и единственному сыну гордое имя страны, в которой должны (по идее Жаботинского) жить все евреи, а именно – Израиль.
В детские и отроческие годы Изя Шнеерзон прилично натерпелся от этого сионистского поступка папы, но… С другой стороны, насмешки и дразнилки дворовой шпаны определенным образом сформировали его характер – он понял и навсегда усвоил простую истину: если не хочешь, чтобы об тебя вытирали ноги, всегда давай сдачи.
Насмешки и дразнилки закончились, когда ему стукнуло тринадцать лет, причем закончились весьма неожиданно. Как-то раз Король местной шпаны, некто по прозвищу Мархан, брезгливо налюдающий возню школьной шоблы (низкорослый чернявый пацанчик упорно отбивался от трех одноклассников), неожиданно для всех (и себя в том числе) подошел к дерущимся малявкам (они все, включая Изю, застыли в столбняке) и сквозь зубы процедил: