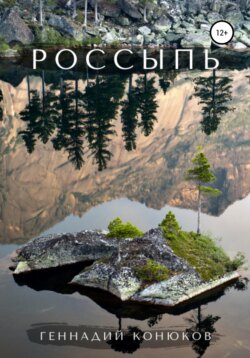Читать книгу Россыпь - Геннадий Конюков - Страница 1
Хлеб да соль
ОглавлениеТо-то радость была оленеводам Докунею Кузьмичу и Лукерье Софроновне, когда они после двухмесячного кочевья с оленями по тайге вернулись домой – дочь Фёкла, пятый год вдовая, родила им внука. Приятную весть сообщила соседка Авда, позвавшая их на чаепитие к себе, пока у них натопится нахолодавшая изба.
Добродушная, флегматичная, улыбчивая Лукерья Софроновна вся просияла, как будто в неё закачали радость мехами. На её бронзовом лице с глубокими, словно вырезанными на морёном дереве, мимическими морщинами, контрастно сверкали белки глаз и крупные белые зубы.
– Мужик, па́ря дак! – торжествующе констатировал Докуней Кузьмич, мужчина телосложения тщедушного, бледный, с бескровными губами, но, несмотря на свой болезненный вид, общительный и смешливый. Он сейчас же хотел идти к Фёкле, живущей отсюда далековато, отдельным домом, смотреть своего долгожданного внука.
– Ты интересный, Докуней Кузьмич, – урезонила его Лукерья Софроновна густым гортанным басом. – Как без гостинцев пойдёшь? Сперва пушнину, поди-ка, сдать надо, потом в мангазин…
– Верно, Лукерья Софроновна, – охотно согласился с ней Докуней Кузьмич. – Обмывать внука будем!
Оленеводы степенно допили чай, попросили Авду досмотреть за печкой и, заложив добытую пушнину в мешок, пошагали по своим важным делам.
В магазине они простодушно дивились, сколько разных товаров появилось в последнее время на полках. Продавец, он же приёмщик пушнины, приезжий усатый мужик, весь изломался, предлагая купить то и другое. Пушнина ушла хорошо, и на покупки старики не скупились. В дополнение ко всему Докуней Кузьмич не преминул спросить для себя традиционную «калакушечку» – флакушку тройного одеколона, дань ушедшим сухим временам.
На пороге – в окошко увидела – их встречала малолетняя внучка Вика. Докуней Кузьмич понюхал ей волосы и показал пальцем на оттопыренный карман фуфайки, предусмотрительно набитый шишками кедрового стланика – это был его фирменный гостинец. Вика, как белочка, шустро выгребла шишки. Бабушка, также понюхав ей волосы, одарила её шоколадкой.
Фёкла, как всегда, была строгая, подтянутая, немногословная. Ребёнок спал в кроватке, затянутой марлевым пологом.
Старики, крадучись, точно боялись вспугнуть птичку, приблизились к ней, поочерёдно заглянули под полог. С выражением умиления на лицах удовлетворённо переглянулись между собой. И Докуней Кузьмич начал выгружать из мешка на стол вино и разные закуски, чтобы обмывать внука.
Знать, поведала Фёкла родителям, кто отец новорождённого, потому как дома, будучи в хорошем расположении духа, Докуней Кузьмич вдруг заявил:
– А давай, Лукерья Софроновна, пойдём к Петру Петровичу в гости? Родня мы теперь с ним, па́ря дак!
– Но-о… – неуверенно протянула Лукерья Софроновна и заулыбалась, сверкая зубами. – Неудобно как-то… Улияна Парфентемна ругаться будет…
– Шибко гордый или что ли? – обиделся Докуней Кузьмич, разом вскипая.
– Тогда гостинцы, поди-ка, надо, – надломилась Лукерья Софроновна. – Вали на стоянку колоть оленя – стегно мяса возьмём, раз уже в гости к Петру Петровичу… Коли Гладиатора, всё равно хромает. Он жирный.
– Одному почти что неохота…
– Одному неохота! Ты интересный… Кто стряпать улоны будет? Ты будто не слышал, Авда сказала, пекарню закрыли насовсем! Один не управишься или что ли?
Докуней Кузьмич не стал противиться доводам женщины и, захватив мешок, пошёл на стоянку, где у них стояла палатка и паслись оставленные олени, колоть хромого и жирного Гладиатора, а Лукерья Софроновна взялась замешивать тесто для улонов – пресных лепёшек.
Надо сказать, что за Докунеем Кузьмичём в подпитии водилась такая удача – не пропустить ни встречного кого, ни поперечного, чтобы не привязаться. При этом он готов был «влезть» человеку в лицо вместе со слюнями и соплями, сопровождая свои ужимки возгласами, скорее похожими на рыдания, – это означало изъявление душевного расположения и наилучших чувств. И если кто-то с брезгливостью отворачивался от него, он сильно обижался, высоко вскидывал голову, как бы желая разглядеть того человека издалека:
– Ты гляди-ка, гордый какой! – изрекал он. И добавлял несуразицу: – Госкромхоз Витимски… ребята-октябрята…
На этот раз навстречу ему шёл Эдик Комодыров, молодец, уверенный в себе на все сто и знающий, как ему быть в любых случаях жизни. Насвистывая мелодию, он направлялся за товаром к местной торговке.
Докуней Кузьмич подступил к Эдику.
– Что вам угодно, сэр? – надвинувшись вплотную, высоко подняв подбородок и глядя на Докунея Кузьмича сверху вниз, поинтересовался Эдик торжественно.
– Ребята-октябрята, госкромхоз Витимски…
– Тебе чего конкретно за пазуху надо? – Эдик поочерёдно наступил носками своих ботинок на носки докунеевых амчур. Приставив указательный палец, как пистолет к животу Докунея Кузьмича и сказав «Кыкх!», толкнул его; одновременно, качнувшись на пятках, отпустив его амчуры.
Всплеснув руками, Докуней Кузьмич с маху сел в снег, а Эдик Комодыров пошагал дальше за своим товаром, насвистывая все ту же самую мелодию.
– Сор! Ты сам негодный сор! – выбираясь из снега, бормотал Докуней Кузьмич. – Ты гляди-ка, гордый какой… Хвастун!
Напрочь позабыв, куда он направлялся, Докуней Кузьмич повернул домой.
– Как быстро! – порядочно удивилась ему Лукерья Софроновна. – Ты колол оленя, нет ли? Где мясо?
Докуней Кузьмич сказал, что у него болит брюхо, и потому ему надо пить калакушечку.
– Ты колол оленя, тебе говорю?!
– Почти что забыл…
– Господи горолей, ко́рокой, как ты забыл! Как ты без мяса пойдёшь к Улияне Парфентемне родниться? Пошёл оленя колоть – вернулся пить калакушечку! Стэрам твоя калакушка!
– Зато браво пахнет!
– Бэраво пахнет! Пей тогда вино, раз уже бурюхо болит…
– Они говорят, хлеб да соль надо… – увидев на столе свежеиспечённые улоны, сказал Докуней Кузьмич.
– Со-оль? – крайне изумилась Лукерья Софроновна. – Олени, или что ли – соль? Кто тебе говорил хлеб да соль?
– Почти что не знай… Хлеб да соль, говорят…
– Хлеб мангазинский, поди-ка, надо? Где я тебе возьму мангазинский хлеб!
– Это – не хлеб? – кивнул головой Докуней Кузьмич на стопку улонов.
– Тогда соли нету… Маленько было – я тесто посолил. К Фёкле ходили – надо было купить соль, я совсем забыл…
– Ладно, я сам скажу, что ты тесто посолил…
В это самое время Пётр Петрович, пребывая в благодушном настроении, возлежал на диване у себя дома, смотрел журналы «Крокодил», похохатывал, а Ульяна Парфентьевна стряпала его любимые морковные пирожки, довольная тем, что после охоты мужик не шарится по деревне с бутылкой в кармане, как некоторые другие… На всякий случай, чтобы Пётр Петрович не улизнул куда, толкнула его обутки под половицу. Она уже выгребла клюкой угли в чугунок – пирожки растронулись, и надо было первые листики садить в печь, как во дворе залаяла собака. Ульяна Парфентьевна выглянула в окно.
– О, господи, оленеводы пьяные тащатся! Сюда бы не забрели…
Пётр Петрович отложил журнал.
– Кто?
– Да Докуней с Лукерьей. Так и есть, сюда волокутся!
– Ой, гони их, Уля, гони! – всполошился Пётр Петрович. – Скажи, меня нету дома! В лесу, скажи, он!
Но Ульяну Парфентьевну ни о чём не надо было просить. Им что, оленеводам, нагуляются и уедут опять в лес, а тут за своим смотри да смотри! Втайне опасаясь, не с бутылкой ли идут незваные гости, не сомустили бы мужика, подхватив чугуно́к с углями, не выпуская из рук клюки, она вышла на крыльцо.
– Здравствуйте, здравствуйте! – поставив чугунок на землю и подперев руками бока, на повышенных тонах и с усилением в голосе встречала Ульяна Парфентьевна пришельцев. – С чем пожаловали, с бутылкой, поди?
Оленеводы в нерешительности остановились.
– Но, – откинув голову назад и как бы желая посмотреть на Ульяну Парфентьевну издалека, подтвердил Докуней Кузьмич.
– Идите, идите своей дорогой! – Замахала руками Ульяна Парфентьевна, как на нечистую силу, готовая грудью защитить порог собственного дома.
– Вот ёлки-та-ну… Позови тогда Петра Петровича.
– Нету Петра Петровича! Нету! В лесу он. А вам почё он это понадобился?
– Паря дак… – Докуней Кузьмич замялся. «Говори, чего ли…» – ткнула его в бок Лукерья Софроновна. – Паря дак, наша Фёкла парня родила!
– Слыхала, слыхала! – насторожилась Ульяна Парфентьевна. – А мне какое дело, кого она там родила?
– Паря дак… – Докуней Кузьмич снова замялся. «Хлеб да соль говори!» – повторно ткнула его Лукерья Софроновна.
Докуней Кузьмич достал из мешка улон и протянул его Ульяне Парфентьевне.
– На хрена́ мне твоя лепёшка! Ты бы лучше кусок мяса дикого принёс. Унты сулились сшить, где ваши хвалёные унты?
– Сошьём, сошьём, – с готовностью заверила Лукерья Софроновна. – Маленько осталось дошить.
– А это… – вдруг нашёлся Докуней Кузьмич. – Родня мы теперь, паря дак! Хлеб да соль, говорят… Это так надо… Лукерья Софроновна тесто посолил.
Ошарашенная преподнесённой новостью, Ульяна Парфентьевна на какое-то время потеряла дар речи.
Было дело, прошелестел по деревне слушок, докатился он и до ушей Ульяны Парфентьевны, но та не придала тому особого значения. Поди, Леонтьиха, холера, пустила слух. Да что с Леонтьихи взять – помело и есть помело! А народу только дайся – уж не знают, что и болтать! Это в начале лета Пётр Петрович поехал на моторке в район, тогда Фёкла напросилась к нему в пассажирки. Дак они в тот раз только и уплыли за поворот и вернулись пешком – мотор сломался. Назавтра Фёкла с другим мужиком уехала. Ой-да, Господи, мало ли мужиков в районе!
– Чурка с глазами! Ты чего это мелешь, чего мелешь, туземец!
В это время, весьма заинтересованный происходящим на улице и слышавший отдельные фразы, Пётр Петрович не выдержал, соскочил с дивана и, не найдя обуток, сунув ноги в шлёпанцы, приоткрыл дверь. Высунувшись до пояса, он сделал оленеводам страшное лицо и яростно замахал кулаком увидевшей его Лукерье Софроновне, отчаянным жестом указывая на калитку, дабы они, во имя всего святого, убирались со двора с глаз долой! Но Лукерья Софроновна, ничего не понимая, смотрела на него во все глаза и широко улыбалась.
Заметив, что Лукерья Софроновна смотрит куда-то дальше, помимо неё, Ульяна Парфентьевна невольно обернулась и врасплох застала Петра Петровича. Тот застыл.
– А ты чего это тут, интересно, маячишь, размахиваешь руками? – недобро сузив глаза, медленно и вкрадчиво поинтересовалась она. Потом вдруг побледнела и затряслась.
Со всей очевидностью понимая, что сейчас-то уж точно ему несдобровать, Пётр Петрович ринулся через двери сеней, едва не сбив Ульяну Парфентьевну с ног. Но та успела-таки припечатать ему клюкой промеж лопаток, да так, что Пётр Петрович взвился и взвыл от боли. Он отбежал на безопасное расстояние и остановился в ожидании дальнейших событий. Ульяна Парфентьевна по-бабьи, через плечо, запустила в него клюкой, которая не долетев до цели, пролетела по земле под ногами Петра Петровича, успевшего в последний момент подпрыгнуть, и звякнула о железную бочку. Пётр Петрович зашёлся нервическим смехом. Ульяна Парфентьевна поискала глазами, чем бы запустить ещё. Но вблизи не было никакого предмета кроме небольшой ерничной метёлки, и тогда она применила своё испытанное оружие, не знающее промаха.
– Жеребец табунный! У него дети взрослые, а он с вдовушкой спутался! А я-то, дура, ему пирожки стряпаю!
Ульяна Парфентьевна стремительно нырнула в распахнутую настежь дверь и тотчас вернулась с двумя листами любовно слепленных, растронувшихся, готовых к посадке в печь, так любимых Петром Петровичем морковных пирожков.
– Пират, Пират, Пират! – Дворовый пёс появился немедленно. – Пират, на, моя! Ешь, Пиратка, ешь!
Обласканный хозяйкой Пират вначале с опаской, нет ли какого подвоха, а затем с жадностью стал сметать с листов пирожки.
– Ты, Уля, чё! – застонал от досады Пётр Петрович.
– Молчи, кобелина! Ешь, Пират, ешь! Ни-че-го, тебе молодая настряпает, на радостя́х-то! И пирогов, и как это… улонов! И пирогов, и улонов! – повторила Ульяна Парфентьевна с ожесточением.
– Но-да не ругайся, Улияна Парфентемна… Играли да играли – парня делали, – прогагакала Лукерья Софроновна миролюбиво.
– Ты-то! Туда же, саранча копчёная! «Хлеб да соль…»! Я вам такой хлеб, такую соль покажу – ноги не унесёте! Уматывайте отсюда, пока я вас не пришибла… Чукчи гималайские! А ты… – Это уже был точечный удар в Петра Петровича. – Ты мне только зайди в избу, попробуй только зайди – я не знаю, что с тобой сделаю. Я тебе помидоры столовиком отрежу и вон Пиратке выброшу! Чё стоите, как два чучела в огороде! Вон ваша родня стоит! Забирайте его и живите вместе в палатке!
– Бедный Пётр Петрович, босиком на снегу стоит, – проникаясь состраданием, уже за воротами гудела Лукерья Софроновна. – Улияна Парфентемна чуть не убила его железом… Однако, надо унты Петру Петровичу подарить… Ты тоже, Докуней Кузьмич, интересный какой, надо было мясо принести, он – «хлеб да соль…». Пошёл на стоянку Гладиатора колоть, пришёл калакушечку пить, – прорабатывала она мужа, как ребёнка, способного самостоятельно сходить на горшок, но не захотевшего это сделать. – Завтра вместе на стоянку пойдём!
Тем временем Ульяна Парфентьевна скрылась в доме, саданув дверью так, что Пират, вожделенно ожидавший продолжения невиданной доселе щедрости, вздрогнул, зевнул и понуро подался прочь.
Пётр Петрович размашистыми прыжками на носках, с ноги на ногу, покрыл расстояние до крыльца, потихоньку с опаской приоткрыл дверь.
– Уля, а, Уля? У меня скоро ноги отвалятся…
– Ой, да хоть бы у тебя не только ноги, хоть бы у тебя между ног чё-нибудь отвалилось! – Ульяна Парфентьевна за кольцо приподняла половицу и, достав ботинки, швырнула их к порогу. – Скоро год будет, как после ремонта, сколько раз ему говорила сделать нормальную дверку к подполью! Прибил кольцо и похаживает довольный, а тут как за картошкой, так выворачивай половицу! Родню завести себе время нашёл, а дверку сделать – всё у него какие-то заделья, да отговорки!
– Сделаю, Уля, прямо счас сделаю! – одной рукой держась за колоду, другой надевая ботинки, с жаром изъявил свою готовность Пётр Петрович.
– «Счас сделаю!» Смотри-ка, какой услужливый стал! Ты бы вон к молодке пошёл, который год, бедная, без мужика живёт, у неё-то найдётся, где тебе руки приложить! Заодно бутылочку поставит на стол, пирогами – улонами накормит, да и под бок к себе подпустит, бессовестная твоя голова!