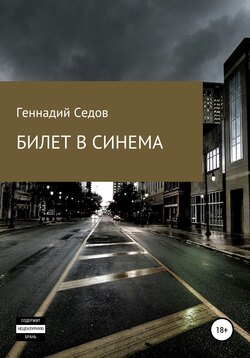Читать книгу Билет в синема - Геннадий Николаевич Седов - Страница 1
Оглавление1.
Судьба, казалось, не сулила ему никаких надежд на жизненный успех. Еврейский мальчишка из нищей семьи феодосийского мещанина Иосифа Дранкова. Низкорослый, конопатый, с ярко-рыжей шевелюрой на лобастой голове.
– Рыжий! – кричали поутру стоя у забора уличные приятели. – Абрашка!
– А ну брысь, шпана! – высовывалась в окно простоволосая старшая сестра. – Брысь, я сказала!
Приятели переходили на другую сторону проулка, рассаживались кружком на взгорке с зарослями репейника. Доставали из мешочков собранные на тротуарах папиросные окурки, ссыпали в кучку. Крутили из газетных обрывков слюнявые самокрутки, набивали табачной трухой, пускали, раскуривая, дымок. Кашляли, плевались.
– Айда на набережную! – появлялся он в проеме калитки. – Барышень поглядим.
–Ха! – тянулись за ним ухмыляясь приятели. – Сказал, тоже. Нужен ты барышням, Абрашка. Толстый, жирный, поезд пассажирный.
Шли гурьбой по изрытой телегами Нагорной с гниющими по сторонам мусорными кучами, швыряли камни в проезжавших извозчиков, задевали встречных мальчишек. Дул горячий ветер в лицо, забивал пылью глаза.
Феодосия и в наши дни – не Ницца. В описываемую же, последнюю четверть девятнадцатого века, и вовсе провинциальная дыра. Побывавший здесь в 1888 году Чехов писал домой: «Утром в 5 часов изволил прибыть в Феодосию – серовато-бурый и скучный на вид городишко. Травы нет, деревца жалкие, почва крупнозернистая, безнадежно тощая. Все выжжено солнцем, и улыбается одно только море».
Море было вторым домом рыжего подростка. Вернувшись из школы для неимущих (заканчивал пятый класс), наскоро похлебав жидкий борщ с куском ржаного хлеба и селедкой, уходил до вечера к заливу.
– Возьми бидон! – кричала вдогонку мать. – Забыл? Керосин кончается, который день прошу. Деньги не потерял?
– Не потерял.
Размахивая пустым бидоном он несся по улице.
– Моргаба, Теймурза! – кричал пробегая мимо шашлычной высунувшемуся из-под навеса хозяину. – Нияпайсы? («Здравствуй, Теймурза! Как дела?» – татар.).
– Якши, алла разуси («Хорошо, спасибо» – татар.), – ответствовал тот.
Полученный от матери гривеник на керосин он потратил на прошлой неделе у Теймурзы на шашлыки и чебуреки. Запил, наевшись от пуза, стаканом крепчайшего сладкого кофе, заел халвой – лафа! Платить за вещи, которые можно получить задарма, было не в его правилах, существовали для этих целей портовые пакгаузы, где слободские пацаны уворовывали за милую душу все, за что дураки расплачиваются наличными. Уголь тащили зимой («арап» по-уличному), хлопок («пух») на продажу в портняжные мастерские, галеты, изюм, сахар из складских ящиков, керосин высасывали в бидоны и ведра трубочками из вскрытых ломиками бочек.
У него скопилось после продаж похищенного «пуха» семь рублей, которые он хранил на чердаке, в жестяной коробке из-под чая. Знатно, когда ты с деньгой, человеком себя чувствуешь. Шикануть можно, позволить себе то, чего пентюхам и не снилось.
Нравы Феодосии тех лет не отличались пуританизмом. Любое событие – праздники, свадьбы, крестины, похороны – ознаменовывалось грандиозными возлияниями, со скандалами, мордобоем. Пили мужчины, женщины, подростки. Пило офицерство, чиновничество, духовенство, пили студенты, гимназисты. Распродав поутру свежий улов, рыбаки тут же на берегу шумно отмечали завершение торгов, валялись среди батарей пустых бутылок, орали песни. Священник Александро-Невского собора отец Никодим упал однажды пьяным во время богослужения перед алтарными воротами с Библией в руках. Его поднимали, пробовали увести, он отпихивал служек локтями, лез обратно на кафедру.
С постройкой торгового порта, прибытием судов с иностранными моряками в город хлынули проститутки. Дома терпимости на Сенной площади – первого разряда, второго, третьего. В вечерние часы примыкавшая к порту Итальянская улица, места вблизи ресторанов и постоялых дворов кишели «панельными бабочками». Проституцией занимались на дому. Соседка через забор, тощая, с лошадиными зубами Дуся, работавшая на табачной фабрике, выходила в сумерках за калитку, садилась, закурив пахитоску, на лавочку, коротко переговаривалась с седоками проезжавших мимо экипажей, заскакивала, договорившись о цене, в пролетку.
Пацанов донимала плоть, разговоры на пустыре вертелись вокруг запретного. Покуривая самокрутки братва демонстрировала друг дружке размеры мужских достоинств, спорила, чей больше. Ходили после уроков компанией на мостки рядом с купальнями, подглядывали за принимавшими морские ванны дамами.
Ему не было тринадцати, когда он впервые познал женщину. Достал из тайника два серебряных четвертака, пошел в сумерках на Сенную площадь.
– Эй, шпингалет! – поманила рукой прохаживавшая неподалеку полная деваха в соломенной шляпке. Подошла, окинула взглядом.
– Лет-то сколько?
– Шестнадцать, – храбро произнес он.
– Шестнадцать! – хохотнула она. – Будет врать-то. Молоко на губах не обсохло… Деньги есть?
– Есть, полтинник.
– Чего так мало?
– Нет больше.
– «Нет больше», – передразнила она. – А сладенького захотел. Ладно, идем.
Прошли мимо кладбищенской ограды, обогнули мрачную стену городской тюрьмы, вышли на пустырь с зарослями кизильника.
В голове от того вечера у него остался сумбур. Деваха стояла задом на коленях со спущенными панталонами, тыкала рукой во что-то темневшее между массивных ляжек
– Давай, чего ты!
У него не получалось, женщина теребила его уду, помогала войти, двигала ягодицами.
– Уфф! – повалилась на песок. – Уморил, кавалер. Валяй домой, а то мамка заругает…
– Шворил я ее наверное, часа три, – хвастался он на другой день приятелям. – Баба – зверь. Билетик заплатил.
– Би-и-летик? – ржали приятели. – Кончай заливать!
– Чтоб мне с места не сойти!
Он был разным: дома, на улице, в школе. Загадка для друзей и окружающих. Все чрезмерно, через край. Фантазер, безудержный лгун, удачлив необыкновенно. Что в ловле бычков у крепостных развалин, что в игре в лапту, в «пристенок» за сараями. Жульничал, спорил до хрипоты, божился уличенный всеми святыми.
Учителя его хвалили. Непоседа, сорвиголова, а ум живой, пытливый, новое схватывает налету. Самостоятельно выучился играть на баяне, на флейте. Объяснялся сносно на татарском, греческом, армянском. Перевирал слова, брызгал слюной, хохотал довольный.
В канун Рождества его записали в группу одаренных учеников, которых по заведенной традиции приглашал к себе на праздничный обед в роскошный особняк на набережной художник Айвазовский.
Не было в Феодосии человека не знавшего богача и мецената жертвовавшего ежегодно на городские нужды значительные суммы, деятельно вникавшего в дела управы. Следившего за раскопками окрестных курганов, озеленением улиц, прокладкой тротуаров, видом строящихся зданий. Преподнесшего страдавшим от безводья согражданам фонтан из собственного источника дававший в сутки пятьдесят тысяч ведер чистейшей родниковой воды. Открывшего школу искусств, картинную галерею у себя дома. Переженившего и перекрестившего половину феодосийцев, щедро одарявшего невест и новорожденных.
– Веди себя пристойно, – щелкал ножницами, подстригая его у окна отец. – Не кривляйся, не паясничай. Говори только, если тебя спросят. Ты слышишь, Абрам?
– Слышу.
– Скажи что-нибудь на армянском. Ему понравится.
– Скажу. Ворт («задница» – арм.).
– Что это?
– Уважаемый.
Как самого низкорослого его поставили в конец группы приглашенных поднимавшихся следом за суровым швейцаром по парадной лестнице особняка.
– О, какие славные! – встретил их в парадной зале у наряженной елки лысоватый кряжистый старик с седыми бакенбардами. – Проходите, проходите! – здоровался с каждым за руку. – Как зовут? А? – прикладывал ладонь к уху. – Не слышу. Наталья? Очень красиво. А ты? Илья? Богатырь! Рисовать умеешь? Похвально, похвально…
Подошла его очередь.
– Барев дзез, парон («Здравствуйте, господин!» – арм.), – протянул он первым руку.
– О, кез хосум эк айерен? («О, ты говоришь по-армянски?» – арм.) – разглядывал его с интересом хозяин.
– Ун посо («Немного» – арм.).
– Похвально, похвально.
После хороводов вокруг елки, чтения стихов, разыгранного старшеклассниками мужской и женской гимназий рождественского вертепа с раскрашенными деревянными куклами детей повели вниз, в трапезную.
За столом он не церемонился. Не ждал, пока подойдет лакей во фраке, спросит: «Изволите что-нибудь еще?» Уписывал за обе щеки. Съел рыбную закуску, шматок заливного студня, ножку запеченного гуся с яблоками, мясной пирог.
– Чего ты, ешь! – толкал локтем сидевшую за пустой тарелкой, пунцовую от смущения соседку в гимназической форме. – Задарма же!
На выходе, стоя в очереди у гардеробной стойки получил из рук красивой хозяйки со сверкавшей диадемой в волосах праздничный кулек. Торопливо развязал за оградой. Яблоко, два мандарина, конфеты, шоколадка в золотой обертке, пряники, орешки. Нащупал монету, извлек: медный трехкопеечный алтын. Ну, ни сквалыги, скажи!
– Ворт! – произнес обернувшись.
2.
Семнадцатилетним он стоял на палубе отплывавшего от пристани пассажиро-грузового парохода «Баклан» увозившего его из дома. Старшую сестру Анну выдали удачно замуж за дальнего родственника Гирша Лемберга владевшего в Севастополе фотоателье, и тот уступил настояниям молодой супруги облегчить бремя родителей по содержанию семьи, приютить одного из братьев. Помочь с образованием, вывести в люди.
Приложив ладонь к глазам, он смотрел в сторону пирса, откуда махали руками стоявшие в кучке провожавших мать с отцом, младшая сестренка, брат Левушка. На душе было радостно, весело: поплыву морем, буду жить в богатом доме, ни в чем не нуждаться. Велосипед куплю!
Судно, отчаянно дымя, удалялось от берега. Обогнули волнорез, где он с приятелями ловил среди камней пугливых бычков, морской пляж с купальнями, засаженную чахлыми деревцами набережную. Открылась во всю ширь панорама города. Лепившиеся по окрестным холмам домишки под черепичными крышами, развалины крепости, купола церквей, минареты, музей древностей с белокаменной колоннадой на горе Митридата.
Стуча в глубине трюма машиной «Баклан» уплывал в просторы моря.
Из экономии ему купили сидячий палубный билет под навесом: на дворе сентябрь, не холодно, чего потеть в душном трюме?
Засунув под скамейку перевязанный для надежности бечевкой деревянный сундучок он разглядывал соседей. Заправлявшихся из бутылки, возвращавшихся домой сезонных рабочих. Баб-торговок с корзинами и кошелками. Чиновничью семью напротив в окружении баулов и чемоданов: мужчину в мундире почтового служащего, худую даму в шляпке с плачущим лицом, аккуратных мальчика и девочку в матросских костюмчиках. Поодаль, у кормы, лежали вповалку среди горы ящиков, хлопковых бунтов, керосиновых бочек, мешков с пшеницей не то молдаване, не то цыгане, стояла рядом худая корова с тяжелым отвисшим животом.
Нагретую солнцем палубу качало, за бортом прыгали злые маленькие волны. Пронеслись стремительно над головой, спикировали вниз с коротким криком растрепанные чайки.
Ему захотелось по-малому. Не решался оставить без присмотра вещи, озирался по сторонам. Сезонники откупоривали очередную бутылку, кто- то из компании блевал за борт. Торговки дремали уронив головы друг дружке на плечи, со стороны кормы поглядывали в его сторону курящие трубки бородатые мужчины.
– Здравствуйте, – поклонился он, подойдя к скамейке с чиновничьей семьей. – Сундучок мой не покараулите?
– Идите, юноша, – окинул его взглядом отец семейства. – Приглядим.
– Я мигом! – побежал он к трапу.
Стенки гальюна ходили ходуном, облил стоя у загаженного «очка» башмаки. Выбрался цепляясь за поручни наружу – обдало ветром с брызгами, сорвало и понесло по палубе картуз.
Море было неузнаваемым. Поседело, пучилось волнами. К вечеру качка усилилась. «Баклан», тяжело переваливаясь боками, взбирался на очередной гребень, стонал нутром.
– Эй, малец, от стенки отойди! – закричал спускавшийся с мостика матрос! Смоет зараз!
Он был на седьмом небе – бурное море, ветер в лицо! Разбежаться бы по палубе, руки раскинуть и ввысь, как чайки. Жаль, не видят его сейчас пацаны, слободская красотка Аурания Ксенакис, о которой мечталось ночными часами.
Проплыли Алушту, Гурзуф. Один за другим зажглись фонари на мачтах: белый над капитанской рубкой, зеленый и красный по бокам, еще один белый на корме – красота! Сезонники орали песни, супруге почтового служащего стало плохо, по распоряжению капитана семейству позволили спуститься в кают-компанию.
На рассвете, около Ялты (он забылся на лавке тяжелым сном), его разбудил протяжный звук. Тер не понимая глаза. На корме, откуда слышалось периодически коровье мычание, толпились пассажиры. Разминая затекшие ноги он прошагал по палубе, остановился пораженный…
– Верите? – рассказывал за столом в небольшой гостиной сидящим напротив зятю и сестре, – корова у цыган телилась. Теленок лез из этой самой, копытцами вперед. Цирк!
– У тебя на каждом шагу приключения, – пошла на кухню сестра. – Мой руки, сейчас завтракать будем.
Приютившая его семья севастопольского фотографа жила небогато, но с достатком. Одноэтажный домик с мезонином на Большой Морской, фотомастерская, устойчивая клиентура, скромный постоянный доход.
Его не торопили с выбором занятий: осмотрись. Поживи, вместе решим.
Лафа, гуляй – не хочу!
За пару недель он исходил вдоль и поперек изрезанный бухтами и балками, отстроенный заново после Крымской войны город-крепость. Прошелся по улицам с конторами, банками, магазинами, поднялся на Бастионную горку, погулял по центральному бульвару, купил шоколадное мороженое на палочке, лизал сидя в беседке, с которой открывался вид на голубизну моря со стоявшими на рейде кораблями. Спустился по широкой каменной лестнице, оказался на улице с одноколейными трамвайными путями – за спиной зазвонило, из-за угла дома вывернул трамвайный вагон, он побежал к остановке возле пожарной каланчи, успел заскочить на подножку – ухх! – давно мечтал прокатиться в электрической чудо-машине, о которой рассказывал в школе учитель физики.
– За билет, юноша! – вырос рядом, едва он устроился на скамейке, кондуктор с сумкой на поясе. – Студент? Гимназист?
– Студент, – соврал он.
– А чего без формы?
– В стирку отдал. Замаралась.
– Три копейки пожалуйте.
Двигался трамвай черепашьим ходом, останавливался на стрелках, пропуская встречные вагоны. Встал надолго на Корниловской площади, вагоновожатый выбравшись из кабинки заспешил к трактиру, исчез в дверях. Не было его больше четверти часа – пассажиры шумно возмущались, грозили пожаловаться в городскую управу, требовали у кондуктора идти немедленно за вагоновожатым, тот, наконец, показался в проходе напяливая находу кокарду. Поехали!..
Он помогал зятю в фотоателье. Устраивал клиентов в кресле с высокой спинкой и специальной машинкой в изголовье не дававшей пошевелиться во время выдержки. Ставил по знаку стоявшего у павильонного аппарата Гирша отражатели из отполированных медных листов для подсветки теневых участков, вешал на стенку по
желанию посетителей живописные панно из клеенки. Легко постиг секреты «мокрого», коллодионного процесса изготовления снимков, через неделю мог самостоятельно проявить и закрепить в растворах конечные отпечатки. Пособлял Гиршу в освещенном красным фонарем подвальчике лаборатории, когда тот печатал и тонировал позитивы порхая поверх руками наподобие оркестрового дирижера, упрашивал дать для ретуширования готовые фотографии.
– Успеется, – не отрывался тот от печатной доски. – Возьми веник, приберись в мастерской. И к Шелихову сгоняй, материалы кончаются. На столике записка, сколько и чего надо.
Он выбирался бочком из тесной лаборатории.
– «Фотографический вестник» купи!» – слышалось из-за закрытой двери.
В специальном фотографическом магазине «В.В. Шелиховъ и сыновья» на Екатеринской к нему относились с подчеркнутым вниманием: глазастый, пальца в рот не клади. Перенюхает до того, как отложить на прилавок товар, пересмотрит на свет, перепроверит этикетки. Старший приказчик не отходил от него ни на шаг, доставал с полок коробки с пластинами и фотопленкой, кульки и банки с химикатами, рулоны тщательно упакованной фотобумаги.
– Все высшего качества, не извольте сомневаться. Извозчика прикажете остановить? – провожал до дверей.
– Не надо, пеши доберусь.
– Наше почтение, рады были услужить. Кланяйтесь господину Гиршу.
Полученные от зятя деньги на извозчика шли в чайный коробок. Гривенник, другой сберег, сестра подкинула на мелкие расходы – еще целковый в запасе.
Зарабатывать фотоделом было нелегко, за клиентами, военными моряками, курортниками, заезжими крестьянами, мастеровыми, гимназистами – охотились конкуренты из соседних ателье, тоже мастера не из последних: Райниш, Циммерман, Пронский, Литвиновский. Чтобы поддержать семейный доход, он торговал вечерами на Графской пристани снятыми портативной камерой и раскрашенными потом от руки морскими пейзажами, видами Крыма, снимками парусников и военных кораблей. Протягивал открытки проходящим мимо хорошеньким барышням под зонтиками:
– Снимочек пожалуйте! Лучше, чем у Айвазовского!
Феодосийский художник-богач не выходил из головы: надо же так подфартить человеку! Деньжищь невпроворот, дворцами владеет, за ручку с царем, говорят, здоровается. А всего-навсего картинки морские малюет. То же море, те же корабли… Эх, ухватить бы, как он, удачу за хвост, зажить по-барски. Не дурак, вроде, котелок варит.
Прочел как-то в «Крымском вестнике»: отставной артист Петербургского императорского балета Семен Пащенко дает желающим уроки бальных и характерных танцев. Цены умеренные, успех гарантируется. Глянуть, что ли? В Феодосии ходил вечерами с приятелями на набережную, где танцевали на эстрадке под военный оркестр курортники, напомаженные городские франты, подвыпившие моряки, гимназисты-старшеклассники. Стоял за металлической оградкой, грыз семечки, отпускал шуточки в адрес барышень, пританцовывал кривляясь под музыку…
– Двигаетесь отменно, ухватываете ритм, – отозвался закрывая крышку рояля рыхловатый, с седеющей гривой Пащенко после того как он исполнил по его просьбе в безлюдном зале несколько незамысловатых движений. – Хлопот с вами, думаю, не будет.
Танцкласс Пащенко в собственном доме на Екатериненской пришелся ему по душе. Шумно, весело, народ общительный, аккомпаниаторша Розалинда Юрьевна с орлиным взором и алой розой в волосах угощает в перерывах душистым чаем с печеньями.
– Вальс, господа! – взмахивал картинно руками Пащенко. – Кавалеры, руки на талии дам…так, хорошо! Дамы, откинули головки… Начали! И-и раз!..
Взъерошенный, с озорной улыбкой на лице он кружил по паркету со щуплой пишбарышней Симой из Общества взаимного кредита. Менялся партнершей при звуках томительно-страстного фокстрота с соседней парой, обнимал, фатовато окидывая взглядом (эх, не видит Аурания Ксенакис!), нервно вздрагивавшую при малейшем прикосновении строгую гимназистку Веру. Скакал отдуваясь, махал руками, вертел комично бедрами под бешеные ритмы чарльстона с жарко пылавшей кругленькой блондинкой, женой чиновника канцелярии градоначальства Антониной Федоровной приглашавшей довести домой в приезжавшем за ней экипаже.
Настойчивыми знаками внимания моложавой чиновницы он не без сожаленья (титьки – закачаешься!) пренебрег, мысли были заняты другим. Воспользоваться умением дрыгать ногами, открыть собственный танцкласс, зашибить деньгу. А, что, в самом деле? Семен Андреич его хвалит, оставляет за себя заниматься с новичками, сулит со временем сделать помощником. Шевели мозгами, Абрам!
Казалось бы, вздор, ахинея: соваться в воду не зная броду. Смотря для кого. Дранков по природе существо без тормозов, здравый смысл не для него. Загорелся – не остановишь…
Денег было в обрез, он попросил взаймы у Гирша, тот мялся, говорил, что дохлый номер.
– Так дела не делают, Абрам, – разглядывал при свете фонаря негативы в подвальчике лаборатории. – Прогоришь. Давай откроем филиал фотомастерской, будем работать на паях, под общей вывеской. Как ты считаешь?
Он стоял на своем: танцкласс, и точка.
Гирш в конце-концов уступил, дал скрепя сердце четвертной под расписку – живем, братва!
– Давайте, что у вас?
Сидевшая за перегородкой очкастая сотрудница отдела рекламы газеты «Крымский вестник» долго читала протянутый им листок (сочинял до полуночи, выписывал и компоновал фразы из рекламных колонок газет).
– Что значит «экзотические танцы»? – подняла она голову от стола. – Поясните, пожалуйста.
– Ну, шимми, там, тустеп. Кекуок.
– Кекуок?
– Кекуок. «Мама трет налиму бок, дети пляшут кекуок», – процитировал он. – Хотите, покажу?
– Благодарю, не надо. С вас три семьдесят за объявление.
«Импресарио и педагог с мировым именем А. Дранков, – читал он похохатывая через неделю в рекламном уголке «Крымского вестника», – объявляет набор в школу бальных, характерных и экзотических танцев. Возможность получить за короткий срок работу в ревю, варьете, и кабаре России и Европы».
– Слушай, это же настоящее жульничество, Абрам! – кричал зять. – Какой импресарио с мировым именем? Какая работа в варьете? Ты в своем уме?
– Да ладно тебе, – отмахивался он. – Я же пишу – «возможность». Никому ничего не обещаю! Кто пошустрее, может, и устроятся. А импресарио – вот, смотри! – махал корочкой диплома. – В типографии заказал, где визитки печатают. Красотища!
Авантюра, на удивление, удалась. Наплыв в открытую им танцевальную школу на втором этаже дома Анненкова был неслыханный, записываться ехали из Евпатории, Бахчисарая, Алупки, Ялты. Он переманил к себе, переговорив наедине в трактире, выпивавшую аккомпаниаторшу Розалинду Юрьевну, подкараулил вечером вышедшего после занятий в пащенковском танцклассе педагога Гурецкого обремененного большой семьей, посулил в случае перехода к нему платить в полтора раза больше.
– Неловко как-то знаете, – растерянно протирал тот стекла пенсне. – Мы ведь с Семеном Игнатьевичем вместе начинали, с нуля можно сказать.
– Задаток хотите? – перебил он его.
– Задаток?
– Задаток, задаток!
Полез в карман, вытащил пятирублевку, помахал в воздухе.
– А червонец не могли бы?
– Червонец не могу.
Через полгода в танцзале его школы с натертым канифолью паркетом и зеркалами по стенам топталось в три смены до сотни учеников. Он съехал со ставшего тесным помещения, взял в аренду просторные апартаменты в доме московского богача Чумакова на Морской, нанял дополнительно двух педагогов и тапера. Денежка капала, он рассчитался с Гиршем, дал ему, в свою очередь, полторы сотни на расширение фотоателье, в котором стал совладельцем. Пошил в модной мастерской m-me Сесилии визитку – черный жакет со скошенными полями, серые брюки в полоску, накупил рубашек с крахмальными воротничками и отдельными манжетами, дюжину пестрых галстуков. Нанял меблированную квартиру в центре города, заимел извозчика, выписал из Феодосии младшего брата и сестру – пусть поживут по-людски, а, там, глядишь, и к делу какому приспособятся.
Успех, какому позавидуешь. Доходное дело, в банке круглый счет. Хорошенькие ученицы вокруг вьются, крылышками машут, ножками сучат: «Ах, Абрам Иосифович, ах, какой вы право!», несколько наиболее сговорчивых успело побывать у него в постели. В амурных отношениях у него правило: никаких обязательств, никаких, там: «мадам, я у ваших ног», «мадемуазель, позвольте предложить вам руку и сердце!» Все без канители: завалил, и – адью! Для самых прилипчивых придумал романтическую историю, в которую сам немедленно поверил: тайно обручен с землячкой, феодосийской красавицей, гречанкой Ауранией Ксенакис, не в силах нарушить клятву.
– Пойми меня правильно, Соня! (Сашенька, Лера, Вероника)
Об этом отрезке его жизни вспоминал впоследствии пасынок старшей сестры, впоследствии сподвижник Александр Лемберг:
«Если в доме, куда он приходил, не было пианино или других музыкальных инструментов, то у него в кармане почти всегда были какие-то дудочки, свистульки, рожки, гребенки, которыми он прекрасно владел и, на худой конец, когда при себе ничего не было, он тут же экспромтом брал стаканы, бутылки, графины, чашки – все, что попадалось под руки, доливал водой, и у него получался музыкальный ансамбль, который в его руках чудесно звучал. Среди молодежи и в обществе пожилых людей его очень любили. Не было в городе свадьбы, именин, дня рождения или же других торжественных вечеров, чтобы его не приглашали; он умел веселить и занимать компании, с ним было легко и просто, его музыкальные способности активизировали участников вечеров независимо от возраста. Он не пил, не курил, но общество девушек его вполне устраивало, их он очень любил, и они ему отвечали взаимностью. В городе все его знали, одевался он по последней моде, лучше всех носил цилиндр, единственный в городе».
Фортуна продолжала строить ему глазки. Соскучившись по фотографии выбрался в один из погожих деньков в сопровождении Левушки к морю, в живописную Южную бухту. Поднялись, таща аппарат и треногу, на скальный утес, выбрали удобное место для съемок. Снимали морские виды со стоявшими в бухте судами, парусники на горизонте, расположенные неподалеку каменные доки Лазаревского адмиралтейства. Брат по его команде прикрывал шляпой объектив от прямых солнечных лучей, включал в нужный момент, высоко держа над головой, магниевую вспышку. Наснимали полную катушку, закусили захваченными из дому пирожками с капустой, запили кисловатым пивком из бутылок. Спускаясь по мосткам к центральной верфи обратили внимание на скопление народа вблизи стапелей, на которых возвышалась громада трехтрубного судна.
«Никак «Очаков»? – всматривался он щурясь от солнца. – В газетах писали. Глянем, а?»
Толпившаяся под эстакадой среди гор металла и леса публика собралась, судя по всему, в связи с каким-то событием. Визитки, льняные костюмы, шляпы, военный оркестр на свежесколоченной эстрадке.
Он остановил пробегавшего мимо знакомого репортера «Крымского вестника»:
– Ждем кого?
– Путилов прибыл. И немцы-разработчики. Спускают через час на воду крейсер.
– Путилов? Это кто такой?
– Вы что, про Путилова не слышали? – воззрился тот на него. – Миллионщик, один из заправил Русско-Азиатского банка. У него пол-России в руках… Извините, бегу!
На лице Дранкова читалась работа мысли: «Миллионщик… пол-России подмял»…
– Катушку свежую заряжай! – крикнул брату. – И вспышки готовь!
Счастье – птица мимолетная: проморгал, пеняй на себя. Оттаптывая ноги, работая локтями, он протиснулся в первые ряды приглашенных. Дождался выигрышного момента, щелкнул затвором, когда столичный магнат в золотых очках хряснул бутылкой «Шампанского» на бечёвке о свежеокрашенный борт корабля. Ринулся не мешкая на извозчике в фотоателье, обработал с Гиршем пленку, оттонировал позитивы, несколько часов ретушировал «беличьей» кисточкой готовые снимки. Вечером того же дня пробился, подмазав дежурного портье, в гостиницу, где остановился высокий гость, проник в десятирублевые апартаменты на втором этаже, преподнес кланяясь его высокопревосходительству, действительному тайному советнику Алексею Ивановичу Путилову мастерски выполненные снимки. Удостоился непродолжительной беседы («Кто таков, откуда, чем занимается?»), понравился, был приглашен в столицу на предмет возможного устройства в канцелярию промышленника на должность разъездного фоторепортера.
Ну, не бестия, скажите? Черта на хромой кобыле обскакал.
3.
Перенесемся, читатель, на пару лет вперед в деятельный, многолюдный Санкт-Петербург начала двадцатого века. Лето, разгар белых ночей. Отзвучали сипловатыми голосами заводские гудки на Петроградской стороне известившие о конце трудовой смены, разъехались по домам чиновники, служащиеся, учащиеся гимназий, студенты, сошел, потрясая пачкой исписанных листков, с трибуны в Таврическом дворце, последний из записавшихся в прения депутатов Государственной Думы.
Одиннадцатый час вечера. Пустынно на улицах, схлынула толпа гуляющих на набережных, закрылись лавки и магазины.
– Посторонись!
К освещенному подъезду ресторана «Вена», что на углу Малой Морской и Гороховой, подкатывает окутанный дымом шикарный «олдсмобил» с водителем в защитных очках и сидящим рядом пестро одетым господином в шелковом цилиндре. Скатившийся со ступенек швейцар отворяет дверцу, кланяется спустившему на тротуар ноги в лакированных туфлях гостю.
– Милости просим!
Что-то знакомое в облике поднявшегося энергично по ступенькам, бросившего шляпу и перчатки на прилавок, приглаживающего перед зеркалом непокорную рыжую шевелюру господина. Никак Дранков? Трудно поверить. Раздался в плечах, респектабельный животик. Шагает, чуточку приплясывая, в заполненный публикой обеденный зал, раскланивается направо и налево со знакомыми, пожимает находу руки. Подвижный, веселоглазый.
«Вена» в ряду гастрономических заведений столицы на особом счету. Ресторан-клуб, место встреч литераторов, художников, артистов, газетчиков. Отменная кухня, изысканные вина. Ближе к полуночи, к моменту окончания вечерних спектаклей, сюда начинает съезжаться избранная публика. В числе завсегдатаев – только что освобожденный после протестов общественности из застенков Петропавловской крепости Максим Горький обвинивший в расстреле участников мирной демонстрации 9 января 1905 года министра внутренних дел Святополка-Мирского и самого царя. Автор нашумевшей повести «Поединок» Александр Куприн. Бешено популярный Александр Блок, прозаик Михаил Арцыбашев, фельетонист Аверченко появляющийся на полуночных журфиксах в окружении сотрудников знаменитого «Сатирикона». Прославленные артисты, художники, музыканты, цвет столичной журналистики.
А Абрам Дранков, простите, тут с какого боку? С кувшинным рылом в калашном ряду?
Вопрос, прямо скажем, не по адресу. Во-первых, не Абрам, а Александр. По имени-отчеству Александр Осипович (после крещения в православном соборе Владимирской иконы Божией Матери). Еврей со статусом ремесленника и купца первой гильдии, имеющий, согласно последней поправке к закону о черте оседлости, право проживания в обеих столицах. Владелец (вместе с братом Львом) модной фотостудии на Невском и сети дешевых филиалов, расположенных в разных округах столицы. Думский фоторепортер, регулярно публикующий хроникальные сюжеты на страницах российских и иностранных газет, включая лондонский «The Times» и парижский «L`illustracion».
Случайная встреча с Путиловым на севастопольской верфи обернулась для него удачей, имела счастливое продолжение. Влиятельный финансист, у которого Дранков был на побегушках, наставлял понятливого, старавшегося изо всех сил протеже по части практической коммерции, знакомил с полезными людьми, помог получить льготный кредит на обзаведение аппаратурой и аренду помещения для фотостудии, подсказывал адреса кампаний, в акции которых стоит вложить деньги.
Обзаведясь капиталом наш герой рванул с компаньоном-англичаниным в Лондон, откуда привез первую в России электроосветительную аппаратуру, упрощавшую съемки, и зеркальную камеру новейшей модели для производства моментальных снимков.
На Невский, 82, толпами валил народ: цены божеские (юпитеры и бромистая бумага резко снизили стоимость светописи), карточки загляденье, обслуживание с размахом. За небольшую дополнительную плату ваш портрет, фотку с чадами и домочадцами украсят нарядной рамочкой с цветами и целующимися голубками, клиентам посолидней доставят на другой день в красочном конверте домой с нарочным. Европа, не скажи!
В центральной фотостудии Дранкова и филиалах трудились наемные фотографы и ассистенты, посетителей обслуживали смазливые молодые конторщицы в смелых туалетах. Сам он сюда заглядывал редко – полностью отдался репортерству, отвечавшему его натуре любителя острых ощущений. В редакционных коридорах передавали курьезные случаи, связанные с добытыми им пикантными (жареными», как выражались журналисты) сюжетами. Подкараулил однажды, ускользнув от охраны, в одной из аллей Царскосельского парка совершавшую утреннюю прогулку в автомобиле царскую семью, снял «зеркалкой» укрывшись ветками в канаве. Умолил посещавшую его ателье фрейлину и близкую подругу императрицы Анну Вырубову показать работу их императорским величествам («На коленях прошу, дражайшая Анна Александровна!»)
Снимок дошел до царских покоев, понравился. Дранкову, несмотря на присутствие во дворце личных монарших фотографов фон Гана и Ягельского, милостиво было дозволено фотографировать венценосную чету и детей. Предпочтительно на пленере: уж больно хорошо у него получались снимки в пейзажном интерьере, делавшие сюжеты выразительными и живыми. Сам увлекавшийся фотографией Николай Второй прислушивался к его советам по части съемок на открытом воздухе, в зависимости от погоды – при недостаточном освещении или, напротив, на контражуре, когда солнышко у вас за спиной и светит сильно. Результат не заставил себя ждать: на предъявляемой Дранковым к месту и не к месту визитке появилось выведенное витиеватыми золотыми литерами: «Поставщик Двора Его Императорского Величества».
Ширится галерея запечатленных им, по преимуществу скрытно, из засады, знаменитостей, растет слава удачливого, не знающего преград фоторепортера. Среди известных его работ снимок звезды императорского балета Матильды Кшесинской, застигнутой в интересном положении, когда она выходила морозным полднем с покупками из дверей «Английского магазина» на Невском в сопровождении камеристки.
– Не смейте! – вскрикнула этуаль, пытаясь прикрыться беличьей муфтой.
Поздно! – Дранков с высоко поднятой над головой камерой («Сотня целковых в кармане!») улепетывал по снежному тротуару к стоявшим у обочины саням.
Проник в другой раз, перелезши через забор, в фамильную усадьбу Столыпина, прокрался на цыпочках к веранде, запечатлел всесильного премьер-министра, когда тот обмывал в интимной компании полученную от шведского короля награду – Большой Крест «Ордена Серафимов». Пикантность момента заключалась в том, что всей России было известно: Петр Аркадьевич человек строгих правил, непьющий. А тут на фотографии с бокалом в руке. То, что в бокале был сладкий гранатовый сок, по снимку не определишь – главное, премьер выглядел «тепленьким», читателю этого было достаточно: «Гляди-ка, застукали голубчика!» Сам царь, говорят, увидев снимок в «Санк-Петербургских Ведомостях», хохотал навзрыд.
Промысел охотника за «жареными» сюжетами не из легких, каждая вылазка – опасное приключение, риск. Оштрафуют, в участок сволокут, поколотят под горячую руку. Зато и цена соответственная. За фотографию Льва Толстого в лаптях у ворот яснополянской усадьбы, беседующего с крестьянами-ходоками, владелец «Русского слова» Иван Дмитриевич Сытин отвалил, по слухам, Дранкову аж триста целковых – невиданно! Цена хорошего автомобиля с оснасткой!
Платили неплохо и за согласие не публиковать скандальные фотографии – кому интересно оказаться застуканным в неподходящей компании, злачном месте, не приведи господь с любовницей? Телефонировали домой, слали письма, грозили судом. Шли, в результате, на попятную, раскошеливались: куда денешься?
Были, однако, случаи, когда с фотографированием следовало поостеречься – себе дороже станет. Усвоенный на всю жизнь урок преподнесло ему морозное утро девятого января 1905 года. Выехал, едва рассвело, в санях с кучером, прихватил камеру – поснимать на улицах. В городе было неспокойно. Начатую рабочими Путиловского завода забастовку подхватили за малым исключением все столичные предприятия. Не ходили трамваи, не было электричества, посыльный не принес, как обычно, утром газет. На проспектах и площадях – конные и пешие наряды полиции, казачьи разъезды. Руководимое священником Георгием Гапоном «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» собирало, по слухам, на окраинах рабочие колонны для шествия к Зимнему Дворцу с петицией на имя государя. Как такое пропустить?
Проехать удалось немного. Перед Гостиным Двором путь преградил полицейский патруль.
– Вертай назад! – подскакал, забрасывая сани ошметками мерзлого снега, верхоконный офицер с нагайкой. – Не велено снимать!
– Мне положено…
Он нащупывал за пазухой шубы заветную визитку.
– Вот, извольте, – протянул.
– Вертай, тебя говорят! – проорал офицер. Дал шенкеля лошади, та взвилась на дыбы.
– Я Дранков, фоторепортер, поставщик…
Он не успел договорить – перегнувшись в седле офицер стеганул его остервенело раз и другой нагайкой.
Спасла лисья шапка, кожаный жгут скользнул, ожегши острой болью, по щеке, не задел, слава богу, глаза.
Фрондерство, твердо решил он с того дня, не для него. Подальше от опасных тем. Денег не заработаешь, а беды не оберешься. Вон сколько народу полегло в проклятое то воскресенье – на сотни считают. Благословишь офицерскую нагайку, вовремя повернувшую тебя восвояси.
Невеселое время, газет хоть не открывай. Январские события в столице вызвали небывалую протестную волну: стачки, акции неповиновения властям, антиправительственные выступления. Что ни день тревожные новости: волнения в воинских гарнизонах, восстал Черноморский флот, в Одессе, Севастополе, Ростове-на-Дону уличные бои. «Революция, – шепчутся в гостиных, – чем все это кончится, господа!»
Подняли, как водится в смутное время, головы махровые защитники престола, черносотенцы, люмпены, голытьба: евреи во всем виноваты, бей жидов, спасай Россию!
Череда еврейских погромов: Мелитополь, Житомир, Симферополь, Екатеринослав, Киев. Сотни убитых, тысячи покалеченных. Шайки громил врываются в принадлежащие евреям лавки, магазины, дома, тащат все подряд, жгут мебель, выбрасывают на улицу вещи. Власти смотрят на происходящее сквозь пальцы, полиция реагирует сдержанно, сплошь и рядом потворствует бандитам, полицейские нередко сами – активные участники погромов.
Он в тревоге: что с родителями? Второй месяц из дома ни строчки. Встреченный в редакции «Нового времени» знакомый журналист, освещавший события осени 1905 года на Юге, рассказал о том, чему стал свидетелем девятнадцатого октября в Феодосии.
«Не приведи господь такое увидеть, Александр Осипович. На что человек, божье творенье, как учит Библия, только способен!»
Беспорядки в городе спровоцировали, по его словам, власти, организовавшие в тот день монархическую манифестацию. Собралась, в основном, чернь с окраин, ищущие работу мастеровые, приехавшие по случаю базарного дня крестьяне из соседних деревень, которые не прочь были поучить кулаками чертову жидовню. К одиннадцати утра шедшая по Итальянской улице толпа со священником Николаем Владимирским во главе подошла с пением «Боже, царя храни!» к зданию управы. Навстречу – революционно настроенная молодежь, среди которых было много евреев. Красные банты на кепках, в руках самодельные плакаты с надписями «Земля и воля!», «Свобода, равенство, братство!», «Вечная память павшим за свободу!» Несколько десятков вооруженных парней из еврейской самообороны не пускали, стоя на ступенях, громил, пытавшихся прорваться в здание, где шло выступление либерального деятеля городской думы Соломона Крыма. Пьяная орда осыпала их бранью, выламывала из мостовой и швыряла камни, била нещадно палками. Здание подожгли с нескольких сторон, черная сотня ворвалась во внутренние помещения, избивала нещадно собравшихся. Евреи из самообороны начали стрелять.
«Выломили ворота тюрьмы, представляете, выпустили арестантов. Начали грабеж еврейских квартир, буйствовали два дня. Полицейские и воинские патрули прибывали к местам событий, как правило, когда арестовывать было уже некого»…
Отец с матерью, слава богу, не пострадали: отсиделись в подвале. Прислали телеграмму: все в порядке, живы-здоровы.
Левка его спросил тогда:
– Ты евреем себя сознаешь?
Он взорвался, затопал ногами.
– Забудь об этот, слышишь! – кричал. – Еврей, не еврей, какая разница? Лестница есть такая в жизни. Кто залез на ступеньку выше, уже не еврей, не француз, понятно? Господин Рябушинский, господин Дранков. А кому слабо, кто на нижней ступеньке в рваных портках засиделся и наверх лезть не желает, похлебку жрет с тухлой рыбой, как мы с тобой когда-то, тот еврей. И хватит об этом!
Никогда на эту тему больше не заговаривали.
– Со Спасом господним!
Он идет приветствуя энергичным жестом собравшихся по случаю праздника работников по коридору, подмигивает в сторону кучки сбившихся молоденьких конторщиц, проходит в кабинет, садится за стол. Разодетый, в чесучовой паре, цветном ярком галстуке, благоухает туалетной водой.
Сегодня день получки, выдача премиальных. Стоящий у дверей заведующий ателье выкликает очередную фамилию:
– Астапова!
В дверь впархивает молоденькая конторщица из филиала «Фото-Америка», что на Вознесенской площади. Востроносенькая, белокурая, алая роза в волосах.
– Зовут как? – он перебирает на столе надписанные конверты.
– Полина.
– Службой довольна?
– Довольна, Александр Осипович.
– Держи, – протягивает он ей конверт.
– Покорнейше благодарю.
Она пятится к выходу.
– Не споткнись, Полина!
– Ой, что вы…
– Свешников! – выкрикивает в зал заведующий.
Выдан последний конверт, праздничная церемония завершена. Уезжать, однако, судя по всему, он не собирается.
– Покличь энту, в кудряшках, – обращается к заведующему. – Из «Фото-Америка».
– Астапова, к хозяину, живо! – слышится в фойе.
Она смущена, смотрит вопросительно.
– Юбку сыми, – трогает он ее за грудь.
– Ну, что вы, право… Неловко, барин.
– Давай, давай, щас ловко станет, – толкает он ее к диванчику в углу. – Не боись, я аккуратно…
Тащит из кармана резинку в пакетике, рвет зубами, облачает торопливо чехольчиком возбужденную плоть, напряженно сопит.
– Ноги раздвинь!..
Дело сделано, кудрявая наспех приводит себя в порядок, он наблюдает за ней с выражением усталого разочарования.
«То же самое. Чего, непонятно, полез?»
Достает из портмоне четвертной.
– Держи! На орехи с изюмом…
Женщины для него – род гастрономии. Сдобные блондинки, острые, с перчиком брюнетки, духмяные, с грибным запашком рыженькие. В отношениях с ними он щедр, простодушен, открыт. Не упорствует встречая сопротивление, не мстит отказавшим, отделывается шуткой: сорвалась, мол, с крючка, ничего не попишешь.
– Завалил намедни аристократку, фамилию не называю, – рассказывает за столиком «Вены» приятелям. – Расстегайчик!
Привирает, конечно, дальше белошвеек из соседней мастерской, собственных работниц и кафешантанных танцорок дело у него не идет: времени на личную жизнь в обрез, не до амурных приключений.
Репортерство ему в радость. Трудится как вол, готов нестись на край света, лишь бы раздобыть что-либо из ряда вон выходящее, заткнуть за пояс конкурентов. Сегодня торгово-промышленная ярмарка в Нижнем Новгороде, через неделю торжества в Тамбовской губернии при участии государя и членов его семьи по случаю канонизации иеромонаха Серафима Саровского, следом по заданию журнала «Вокруг света» Италия, остров Капри в Неаполитанском заливе, куда сбежал с любовницей, знаменитой актрисой МХАТ-а Марией Андревой от преследования властей и законной супруги Максим Горький.
Жизнью он доволен. Известен, при деньгах. Дом на широкую ногу, собственная конюшня, кабриолет с рысаками в серых яблоках, автомобиль, дюжина собак, певчие птицы редких пород, гардероб какому позавидуешь. Преданный слуга-сенегалец – глотку перегрызет за хозяина. Француженка и англичанка, нанятые для усовершенствования в языках (француженку он завалил, англичанку пока нет). Не знает простуд, не ездит к врачам, ест за троих, желудок варит отлично. Кутила и бонвиван, завсегдатай цыганских ресторанов на Островах. Выпивает умеренно, не курит, не нюхает подобно окружающей газетной братии «порошок». Бренчит вечерами на фортепиано, жутко фальшивит – хохочет довольный. До Айвазовского далековато, но все-таки…
4.
Великие изобретения сплошь и рядом результат случая – «яблоко Ньютона» в этом ряду не единственный пример. В 1877 году на вилле заядлого лошадника, губернатора американского штата Калифорнии Лиленда Стенфорда разгорелся за обеденным столом спор между ним и двумя его гостями, такими же, как он, любителями конских скачек. Стенфорд утверждал, что конь, бегущий галопом, во время бега отрывает все четыре ноги от земли, оппоненты настаивали на том, что одна хотя бы нога для устойчивости не отрывается. Страсти разгорелись не на шутку, приятели заключили пари, для выяснения истины Стенфорд пригласил гостившего в США английского фотографа Эдварда Мейбриджа, прославившегося к тому времени своими экспериментами с пофазовым фотографированием движения животных несколькими фотоаппаратами одновременно, создававшим иллюзию ходьбы или бега. Специально для Мейбриджа на губернаторской ферме построили на выделенном участке что-то вроде «фотодрома» – с одной стороны трека белая стена, с другой двенадцать кабин с фотокамерами, затворы которых были соединены протянутыми поперек беговых дорожек бечевками. Несколько вороных лошадей, хорошо видимых на светлом фоне, бежали по треку, задевая бечевки – затворы камер срабатывали фиксируя отдельные фазы бега.
Губернатор пари выиграл – на одном из промежуточных снимков четко было видно, как во время скачки животное на долю секунды отрывает от земли все четыре ноги. Не остался в проигрыше от проведенного эксперимента и Мейбридж, разработавший вскоре специальный аппарат «зоопраксископ» для проецирования движущихся изображений животных и людей. Благодаря новому прибору со стеклянной катушкой внутри, на которой были намотаны в определенном порядке снимки, изображения – о, чудо! – ожили, задвигались!
Технический прогресс неостановим. Десятилетие спустя, оттолкнувшись от идеи Мейбриджа, прославленный американский ученый и изобретатель Томас Альва Эдисон создает оптический прибор «кинетоскоп» для показа движущихся картин – с последовательно фиксировавшей фазы движения кинопленкой шириной 35 миллиметров и механизмом покадровой протяжки. Смотреть на ожившие изображения в похожем на «волшебный фонарь» ящике мог, увы, лишь один человек – через окуляр, но и это было невероятно. Новинкой немедленно воспользовались предприимчивые дельцы: в Нью-Йорке, на Бродвее, а следом в Сан-Франциско и Чикаго, а позже в Лондоне открывались один за другим специальные «кабинеты» («Kinetosoope Parlor» -анг.) с несколькими кинетоскопами, в которых за денежки можно было насладиться видом живых картин.
Не прошло и года, как еще один горячий последователь Мейбриджа, молодой французский изобретатель Луи Эме Огюстен Лепренс, снял на фотобумаге с помощью хронофотографической камеры во дворе тещи и тестя прогуливающихся вокруг дома родственников. Минутный киноролик «Сцена в саду Раундхэй» опередила почти на десятилетие снятую в лаборатории Эдисона усовершенствованным аналогом съемочной камеры под названием «кинетограф» короткометражку другого пионера-кинооператора Уильяма Диксона – «Приветствие Диксона». Махающий приветственно шляпой с полотна экрана Диксон произвел неизгладимое впечатление на участниц Национальной организации женских клубов США, которым выпала честь стать первыми зрительницами показанного 20 мая 1891 года сюжета на перфорированной кинопленке, перемещаемой зубчатым барабаном с приводом от электродвигателя.
Лед тронулся. В насыщенном коллоидном растворе выпала на дно жемчужина – немой младенец без имени сделал на нетвердых ножках первый шаг. Работавшие на принадлежавшей отцу фабрике желатиновых пластинок и бромистой бумаги в Лионе братья Люмьеры, Огюст и Луи купили в 1894 году на осенней технической выставке в Париже громоздкий кинетоскоп Эдисона. Увлекавшийся изобретательством младший брат Луи разработал, изучив новинку, при содействии инженера предприятия Жюля Карпантье и подал в патентное бюро заявку на собственный аппарат по передаче световой проекции движущихся фотографий – «синематограф» (от древнегреческих слов «движение» и «писать»). Привлек к сотрудничеству талантливого главного механика мастерских Шарля Муассона, сконструировавшего для съемок движущихся объектов универсальную камеру, пригодную, помимо прямого назначения, в качестве кинопроектора и копировального аппарата Летом следующего года к неописуемой радости участников проходившего в Лионе Международного конгресса фотографического общества Люмьеры опробовали изобретение на публике – показали в один из перерывов между заседаниями снятый ими накануне на вокзале 48-секундный ролик «Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе». Что творилось в зале, трудно описать: люди узнавали себя, показывали на экран, кричали: «Гляди, гляди, ты видишь? Это же я? Схожу со ступенек»? «И я, бог мой! С саквояжем!» «Чудо, прямо как в жизни!»…
Куй железо, пока горячо. Морозным декабрьским вечером 1895 года в арендованном индийском салоне «Grand Café» на бульваре Капуцинок в Париже братья провели первый публичный показ отснятых ими к тому времени короткометражек: «Вольтижировка», « Кузнецы», «Вылавливание красных рыбок», «Выход рабочих с фабрики», «Кормление ребенка» – всего десять 50-секундных миниатюр, включая один игровой, произведший особенное впечатление – комедийный сюжет «Политый поливальщик». Коммерческий успех предприятия был скромным – продать удалось тридцать пять однофранковых билетов, зато произведенный фурор – ошеломляющим. Реакция зрителей на увиденное не поддавалась описанию: испуг, изумление, восторг! На следующий день толпа стоящих у кассы парижан, желавших приобщиться к диковинному зрелищу, растянулась в огромную очередь. О киносеансе в «Grand Café» написали под крупными заголовками все французские газеты, перепечатки появились в европейских изданиях. Не теряя времени братья за считанные дни сняли и показали спустя неделю в только что построенном концертном зале «Олимпия» новую свою работу – «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьета». Очередной взрыв эмоций, Присутствовавшие на показе журналисты не жалели красок в описании царившей на сеансе обстановке: панике в зрительских рядах при виде двигавшегося на них с экрана, объятого паром локомотива в натуральную величину, бегущей между кресел к выходу особо чувствительной публики.
Небывалый, ошеломляющий успех – спрос на просмотры люмьеровской кинопродукции растет день ото дня, сыплются заказы. Чтобы справиться с растущим числом заявок, предприимчивые изобретатели прибегли к системе концессий, при которой заказчики брали напрокат проекционные аппараты, сотрудники компании монтировали их на местах и сами крутили ленты – шестьдесят процентов от сборов согласно контрактам шло в карманы братьям.
Съемки идут безостановочно, конвейером. Непритязательные, безыскусные сюжеты пекутся как пирожки в кондитерской, поступают с пылу с жару в прокат. За три года после премьеры «Прибытия поезда» компания сняла в общей сложности тысячу восемьсот видовых миниатюр показанных в Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Женеве, Кельне, Мадриде, Мельбурне. Жадное до удовольствий человечество наслаждается, раскошеливаясь, редкостным, пробирающим до мурашек зрелищем: ожившим на белом полотне экрана реальным миром. Все более завораживающим в динамичных, наполненных жизнью картинах соперника Люмьеров, бывшего циркового артиста Жоржа Мельеса, сделавшего впечатляющий шаг вперед в развитии кинематографа своими спецэффектами, приблизившими «живые картины» к сюжетному зрелищу, где действие имеет фабулу, развивается последовательно и логично как в театре.
С запозданием, как водится, синематографическая новинка докатилась до России. В начале мая 1896 года в театре петербургского сада «Аквариум», в антракте между вторым и третьим действиями водевиля «Альфред-паша в Париже» публике были показаны несколько люмьеровских короткометражек, в конце месяца те же сюжеты увидели по окончанию спектаклей в театре летнего сада «Эрмитаж» московские зрители. И в том и в другом случаем с предсказуемым результатом: ахи, охи, восторги, бурная газетная полемика: «браво!» «виват!», «отстали от Европы», «а нам это, простите, на кой ляд нужно?»
Отношение россиян к «светописи» продолжительное время оставалось прохладным. То ли из-за неосведомленности, то ли в силу известной сдержанности северного характера, то ли из-за неповоротливости рекламы, то ли из-за всего вместе взятого. Один из первых русских киноинженеров Борис Дюшен вспоминал:
«Мне пришлось быть очевидцем рождения кинематографа в России, отдать немало сил на пропаганду научного использования замечательного изобретения Люмьера. Первый кинематограф, помнится мне, был открыт в Петербурге, на Невском. Интересно отметить, что напротив синема находился «Зал Эдисона», в котором можно было слушать потрясающую новинку – фонограф американского изобретателя. Слушали в те времена, вставляя в уши каучуковые трубочки, идущие от фонографа, так как громкоговорящей записи звука еще не существовало. Кинематограф, называвшийся «Живая фотография», открылся совсем незаметно и посещали его преимущественно дети. Продолжительность сеанса с тремя фильмами не более тридцати минут, два антракта для перезарядки лент. Первый кинематограф в России быстро прогорел. Примерно в 1899 году там же, на Невском, появился кинематограф, называвшийся «Биоскоп», в котором шли исключительно французские фильмы, годом позже благотворительная организация «Синий Крест» выстроила на Марсовом Поле, напротив Летнего Сада деревянный балаган, называвшийся «Ройяль Стар». Это «грандиозное» предприятие быстро прогорело, так как публика боялась пожара (и вполне основательно), да и пустынное Марсово Поле в те времена было по вечерам небезопасно. Настоящий, культурно оформленный кинотеатр, хорошо освещенный и внутри, и снаружи, с приличным набором картин открыл на Большом проспекте преподаватель Технологического института инженер Зауэр. Затем как-то вдруг сразу заработало несколько кинематографов на Невском, некоторые даже роскошно оборудованные. Например, в театре «Ампир» на углу Невского и Литейной в каждой ложе был телефон. И не спроста, как выяснилось: синематограф этот служил местом свиданий. «И не в игре была там сила»…
Монопольным правом на показ в обеих столицах новых, по преимуществу французских лент завладел спустя короткое время вынырнувший на российских берегах как черт из табакерки бывший антрепренер парижского театра «Варьете» Шарль Омон. Быстро освоившись в новой обстановке предприимчивый француз открыл в Москве кафешантан «Grand theatre concert parisien». Входной билет рубль – вдвое дороже конкурентов, певицы хора по требованию хозяина и получая, при этом, свою долю ухаживают за гостями, приглашают их в отдельные кабинеты, поощряют делать дорогие заказы на кушанья и вина. По словам одного из официантов заведения, записанных журналистом: «У Омона Шарля, бывало, распорядитель-француз всех, простите, девок, шансонеток соберет и так скажет: «Девушки, маймазель, сегодня требуйте стерлядь и осетрину от гостей, у нас пять пудов протухло!» Те и требуют. Потеха, ей-ей! Люди хорошие по вечерам съезжались, а девки все тухлятину спрашивают, поковыряют ее вилочкой и велят со стола убрать. Так мы всякую дрянь продавали у Омошки. Жулик, русских дураков приехал учить».
Именно этот новоявленный граф Калиостро от синематографа, знавший не понаслышке, какова в России роль взятки, получил, одаривая направо и налево нужных людей, право открыть летом 1896 года на очередной торгово-промышленной выставке в Нижнем Новгороде свой отдающий душком публичного дома «Театр-концерт-паризьен», в котором показал вечером четвертого июля участникам и гостям подборку из десяти самых популярных люмьеровских сюжетов.
Об атмосфере того вечера, реакции публики можно судить по обстоятельной корреспонденции аккредитованного на выставке сотрудника газеты «Нижегородский листок» Максима Горького (тогда еще Максима Пешкова), печатавшего заметки о выставочных новостях под псевдонимом «М. Pacatus».
Вот его репортаж с киносеанса:
«Боюсь, что я очень беспорядочный корреспондент, – не докончив описания фабрично-заводского отдела, пишу о синематографе. Но меня, быть может, извиняет желание передать впечатление свежим.
Синематограф – это движущаяся фотография. На большой экран, помещенный в темной комнате, отбрасывается сноп электрического света, и вот на полотне экрана появляется большая – аршина два с половиной длины и полтора в высоту – фотография. Это улица Парижа. Вы видите экипажи, детей, пешеходов, застывших в живых позах, деревья, покрытые листвой. Все это неподвижно: общий тон – серый тон гравюры, все фигуры и предметы вам кажутся в одну десятую натуральной величины.
И вдруг что-то где-то звучно щелкает, картина вздрагивает, вы не верите глазам.
Экипажи идут с экрана прямо на вас, пешеходы идут, дети играют с собачкой, дрожит листва на деревьях, едут велосипедисты – и все это, являясь откуда-то из перспективы картины, быстро двигается, приближается к краям картины, исчезает за ними, появляется из-за них, идет вглубь, уменьшается, исчезает за углами зданий, за линией экипажей, друг за другом… Пред вами кипит странная жизнь – настоящая, живая, лихорадочная жизнь главного нервного узла Франции – жизнь, которая мчится между двух рядов многоэтажных зданий, как Терек в Дарьяле, и она вся такая маленькая, серая, однообразная, невыразимо странная.
И вдруг – она исчезает. Перед глазами просто кусок белого полотна в широкой черной раме и, кажется, что на нем не было ничего. Кто-то вызвал в вашем воображении то, что якобы видели глаза – и только. Становится как-то неопределенно жутко.
И вот снова картина: садовник поливает цветы. Струя воды, вырываясь из рукава, падает на ветви деревьев, на клумбы, траву, на чашечки цветов, и листья колеблются под брызгами.
Мальчишка, оборванный, с лицом хитро улыбающимся, является в саду и становится на рукав сзади садовника. Струя воды становится все тоньше и слабее. Садовник недоумевает, мальчишка еле сдерживает смех – видно, как у него надулись щеки, и вот момент, когда садовник подносит брандспойт к своему носу, желая посмотреть, не засорился ли он, мальчишка отнимает ногу с рукава, струя воды бьет в лицо садовника – вам кажется, что и на вас попадут брызги, вы невольно отодвигаетесь… А на экране мокрый садовник бегает за озорником мальчишкой, они убегают вдаль, становятся меньше, наконец, у самого края картины, готовые упасть из нее на пол, они борются – мальчишка пойман, садовник рвет его за ухо и шлепает ниже спины. Они исчезают. Вы поражены этой живой, полной движения сценой, совершающейся в полном безмолвии.
А на экране – новая картина: трое солидных людей играют в вист. Вистует бритый господин с физиономией важного чиновника, смеющийся, должно быть, густым басовым смехом, против него нервный и сухой партнер тревожно хватает со стола карты, и на сером лице его – жадность. Третий наливает в стаканы пиво, которое принес лакей, и, поставив на стол, стал за спиной нервного игрока, с напряженным любопытством глядя в его карты. Игроки мечут карты и… разражаются безмолвным хохотом теней. Смеются все, смеется и лакей, взявшись за бока и становясь неприличным у стола этих приличных буржуа. И этот беззвучный смех, смех одних серых мускулов на серых, трепещущих от возбуждения лицах – так фантастичен! От него веет на вас каким-то холодом, чем-то слишком не похожим на живую жизнь.
Смеясь, как тени, они исчезают как тени.
На вас идет издали курьерский поезд – берегитесь! Он мчится, точно им выстрелили из громадной пушки, он мчится прямо на вас, грозя раздавить; начальник станции торопливо бежит рядом с ним. Безмолвный, бесшумный локомотив у самого края картины… Публика нервно двигает стульями – эта махина железа и стали в следующую секунду ринется во тьму комнаты и все раздавит… Но, появившись из серой стены, локомотив исчезает за рамкой экрана, и цепь вагонов останавливается. Обычная картина сутолоки при прибытии поезда на станцию. Серые люди безмолвно кричат, молча смеются, бесшумно ходят, беззвучно целуются.
Ваши нервы натягиваются, воображение переносит вас в какую-то неестественно однотонную жизнь, жизнь без красок и без звуков, но полную движения – жизнь привидений или людей, проклятых проклятием вечного молчания, – людей, у которых отняли все краски жизни, все ее звуки, а это почти все ее лучшее.
Страшно видеть это серое движение серых теней, безмолвных и бесшумных. Уж не намек ли это на жизнь будущего? Что бы это ни было – это расстраивает нервы. Этому изобретению ввиду его поражающей оригинальности можно безошибочно предречь широкое распространение. Настолько ли велика его продуктивность, чтобы сравняться с тратой нервной силы, возможно ли его полезное применение в такой мере, чтоб оно окупило то нервное напряжение, которое расходуется на это зрелище? Это важный вопрос, это тем более важный вопрос, что наши нервы все более и более треплются и слабеют, все более развинчиваются, все менее сильно реагируют на простые «впечатления бытия» и все острее жаждут новых, острых, необычных, жгучих, странных впечатлений. Синематограф дает их: и нервы будут изощряться с одной стороны и тупеть с другой; в них будет все более развиваться жажда таких странных, фантастических впечатлений, какие дает он, и все менее будут они желать и уметь схватывать обыденные, простые впечатления жизни. Нас может далеко, очень далеко завести эта жажда странностей и новизны, и «Кабачок смерти» из Парижа конца девятнадцатого века может переехать в Москву в начале двадцатого.
Я позабыл еще сказать, что синематограф показывают у Омона – у нашего знаменитого Шарля Омона, бывшего конюха генерала Буадеффра, как говорят. Пока милейший Шарль привез только сто двадцать француженок-«звездочек» и около десятка «звезд» – и его синематограф показывает пока еще очень приличные картины, как видите. Но это, конечно, ненадолго, и следует ожидать, что синематограф будет показывать «пикантные» сцены из жизни парижского полусвета. «Пикантное» здесь понимают как развратное, и никак не иначе.
Помимо перечисленных мною картин есть еще две.
Лион. С фабрики расходятся работницы. Толпа живых, подвижных, весело хохочущих женщин выступает из широких ворот, разбегается по экрану и исчезает. Все они такие милые, с такими скромными, облагороженными трудом живыми лицами. А на них из тьмы комнаты смотрят их землячки, интенсивно веселые, неестественно шумные, экстравагантно одетые, немножко подкрашенные и не способные понять своих лионских землячек.
Другая картина – «Семейный завтрак». Скромная пара супругов с толстым первенцем, «бебе» сидит за столом, она варит кофе на спиртовой лампе и с любовной улыбкой смотрит, как ее молодой красавец муж кормит с ложечки сына, – кормит и смеется смехом счастливца. За окном колышатся листья деревьев, – бесшумно колышатся, «бебе» улыбается отцу всей своей толстой мордочкой, на всем лежит такой хороший, задушевно простой тон.
И на эту картину смотрят женщины, лишенные счастья иметь мужа и детей, веселые «женщина от Омона», возбуждающие удивление и зависть у порядочных дам умением одеваться и презрение, гадливое чувство своей профессией. Они смотрят и смеются… но весьма возможно, что сердца их щемит тоска. И, быть может, эти серые картины счастья, безмолвная картина жизни теней является для них тенью прошлого, тенью прошлых дум и грез о возможности такой же жизни, как эта, но жизни с ясным, звучным смехом, жизни с красками. И, может быть, многие из них, глядя на эту картину, хотели бы плакать, но не могут и должны смеяться, ибо такая уж у них профессия печально-смешная.
Эти две картины являются у Омона чем-то вреде жестокой, едкой иронией над женщинами его зала и, несомненно, их уберут. Их – я уверен – скоро, очень скоро заменят картинами в жанре, более подходящим к «концерту-паризьен» и к запросам ярмарки, и синематограф, научное значение которого для меня пока непонятно, послужит вкусам ярмарки и разврату ярмарочного люда. Он будет показывать иллюстрации к сочинениям де Сада и к похождениям кавалера Фоблаза; он может дать ярмарке картины бесчисленных падений мадемуазель Нана, воспитанницы парижской буржуазии, любимого детища Эмиля Золя. Он, раньше, чем послужить науке и помочь совершенствованию людей, послужит нижегородской ярмарке и поможет популяризации разврата. Люмьер заимствовал идею движущейся фотографии у Эдисона, – заимствовал, развил и выполнил ее… и, наверное, не предвидел, где и пред кем будет демонстрироваться его изобретение!
Удивляюсь, как это ярмарка недосмотрела и почему это до сей поры Омон-Тулон Ломач и K0 не утилизируют, в видах увеселения и развлечения, рентгеновских лучей? Это недосмотр, и очень крупный.
А, впрочем? Быть может, завтра появятся у Омона на сцене и лучи Рентгена, примененные как-нибудь к «пляске живота». Нет нигде на Земле настолько великого и прекрасного, чего бы человек не мог опошлить и выпачкать, и даже на облаках, на которых ранее жили идеалы и грезы, ныне хотят печатать объявления, кажется, об усовершенствованных клозетах.
Еще не печатали об этом?
Все равно – скоро будут».
Показ «оживших фотографий» для многих зрителей, впервые переступивших порог иллюзиона, было непростым испытанием. В особенности для людей из глубинки.
«Для наших представлений мы выбрали русские сюжеты, в том числе празднества по поводу коронации царя, – рассказывает об одном из киносеансов оператор фирмы братьев Люмьер Эдуард Месгиш, привезший с рекламными целями несколько роликов для показа в отдаленных губерниях России. – В просмотровом зале ошеломленная публика из народа недоумевала: что же такое находится за экраном, какая дьявольская сила заставляет его оживлять? В иные дни наши заведения брались с боем, вскоре среди этого собрания деревенщины пошли слухи, что мы показываем происки сатаны, и мы со дня на день ждали, что нас обвинят в черной магии. Люди при выходе из зала пытались отогнать нечистую силу заклинаниями, спорили между собой, говорили, что видели черта с рогами, в толпе чувствовалось опасное возбуждение. В конце одного представления полиции пришлось разогнать возбужденных людей, из рядов которых слышалось: «Бей колдовское отродье!»
5.
А что наш Дранков? Не затерялся в череде дней, не ушел в тень, не отстал от поезда прогресса?
Ничуть не бывало. Завсегдатай «электротеатра» на Невском, часто с очередной пассией. В первом ряду, чтоб не загораживали экран. Вскакивает поминутно с кресла, хохочет со всхлипыванием, отирает платком слезы на глазах, хлопает по коленке спутницу. Выросший в окружении людей, чьи культурные запросы не шли дальше посещения ярмарочных балаганов и гастролей заезжих циркачей, не любящий оперы, бывающий на балетных премьерах в Мариинке исключительно, чтобы поймать в окуляры бинокля соблазнительные ножки артисточек кордебалета, захвачен иллюзионом. Непритязательный его вкус довольствуется сценами с пощечинами, метаниями друг в дружку тортов, пустившимися вскачь персонажами, когда киномеханик за шторой, потакая желанию публики, принимается быстрее крутить ручку проектора – весело, черт побери, умрешь со смеху!
Не утративший мальчишеского любопытства, любящий разобрать по косточкам новинку, заглянуть вовнутрь («как там шарики-ролики вертятся?»), смотал в Париж, привез любительскую камеру «Pathe» и простенький проектор. Поснимал, вернувшись, на ступеньках дома англичанку, француженку и сенегальца. Забавно, ничего не скажешь: двигаются в кадре, жестикулируют, смеются. А, вот, что делать дальше с этим «cracker box» – «чемоданом взломщика», как называют его англичане, сказать трудно. Мимолетное видение – мелькнуло, и нет. В рамку не поместишь, на стенку не повесишь. А, с другой стороны…Валят же людишки толпами в синема, раскошеливаются. Странная получается вещь. Дельцы из Лиона и Лос-Анджелеса сотнями везут в Россию свои «живые картины», деньги хорошие делают на новом изобретении – варианте фотографии по существу, а он как жук навозный копается с чертовыми своими фотоателье, приносящими все меньше дохода, тратит время и силы на мутоту.
– Лева, давай потихоньку ликвидируй эту шарашку, – приказал брату. – Выставляй на продажу. У меня кой-какие соображения, после расскажу.
Как бывало с ним нередко, до конца не отдавал себе отчета в возникшем побуждении, ориентировался на неясный порыв. Отложил в сторону газетные дела, самолично делегировал себя (с липовым удостоверением) в Гамбург, на Первую международную кинематографическую выставку. Знакомился с коллегами: «Bonjour, collegues messieurs! Photojournaliste Aleksandr Drankov de la Russie!» (Привет, господа коллеги! Фоторепортер Александр Дранков из России!» – фр.) Послушал доклады, бродил вдоль стендов с выставленными образцами съемочной и проекционной аппаратуры, замучил вопросами консультантов, обаял рыжеволосой шевелюрой и вздернутыми усами хорошеньких француженок- продавщиц. Вручил каждой по флакончику духов после того как выбрал и купил самую дорогую модель кинокамеры в деревянном корпусе и на штативе – «Debrie Parvo L» с объективом и обтюратором на передней откидывающейся стенке. Для чего? А хрен его знает! Пригодится…
Он в нерешительности: маячит, вроде бы, неясный пока барыш, да как ухватить, не обжечься? Прикидывает так и сяк, соображает. Как, там, в русских сказках? Направо пойдешь – коня потеряешь, себя спасешь; налево пойдешь – себя потеряешь, коня спасешь; прямо пойдешь – и себя и коня потеряешь. Чертовы ателье как хомут висят на шее, продать хотя бы без убытка оборудование непросто, на каждом шагу жулье, всяк норовит объегорить. Маята, пропади она пропадом!
Пока суд да дело, надумал выпускать по заказам прокатчиков пользовавшиеся большим спросом текстовые вставки к завозимым заграничным фильмам – интертитры. Выгородил в ателье небольшое помещение, представлявшее, по словам одного из сотрудников, «довольно грязную каморку с двумя фиксажными ваннами и несколькими сушилками. Единственным усовершенствованием являлось обилия крыселовок по углам, которые препятствовали неблагородным животным тонуть в ваннах, где фиксировалась благородная лента». Здесь, в скученных условиях, заработала мастерская по съемке на стандартной 35-миллиметровой киноленте монтажных кадров, содержащих украшенный орнаментом текст, пояснявший события на экране: сюжетные повороты, смену места действия и времени года, реплики персонажей, диалоги (их вклеивали потом в нужные места кинороликов): «МИНУЛ ГОД»; «ПОБЕРЕЖЬЕ В НОРМАНДИИ»; «ЧУДЕСНАЯ ПОГОДА, МАДАМ!»; «ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ»; «ОН ПРОМАЗАЛ!»; «А, МЕЖДУ ТЕМ, В БУДУАРЕ ГРАФИНИ…»; «ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ СО МНОЙ ЗНАКОМИТЬСЯ ИЛИ НЕТ?»; «ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ТОГДА НИКОМУ, ЗЛОДЕЙКА!!!». Скромная, но все же коммерция…
Волна увлечения «живыми картинами» у россиян нарастает, синема у всех на устах. «На улицах губернских городов, уездных городишек, больших сел и посадов, – пишет в журнале «Сине-фото» молодой писатель-знаньевец Александр Серафимович, – везде встретите одно и тоже: освещенный фонариками вход, и у входа толпу ждущих очереди в кинематограф. Загляните в зрительную залу, вас поразит состав публики: здесь студенты и жандармы, писатели и проститутки, офицеры и курсистки, всякого рода интеллигенты в очках и с бородкой, рабочие, приказчики, торговцы, дамы света, модистки, чиновники. Великий немой, один из результатов технического прогресса, покорил Россию. В том числе и с помощью таких нехитрых фильмов, как «Завод рыбных консервов в Астрахани».
Левка по вечерам травил душу. Обложится газетами, и с оттоманки:
– Слышь, Абрам! (дома звал его по-старому) Володьку Сашина помнишь? Ну, этого, комика из театра Корша? Фотолюбителя? Заглядывал к нам во время гастролей в ателье?
– Ну?
– Заделался кинооператором. У Клемана с Жильмером камеру приобрел, «Витаграф», фильмы снимает.
– Фильмы?
– Ага. Смотри, что в «Театральных известиях» пишут. «Сашин, талантливый актер, оказался не менее талантливым фотографом… фотографом, ха!.. показывающим движущуюся фотографию. Это наш московский Люмьер. Господин Сашин намерен снимать различные сценки на улице, при разъездах у театров, репетиции, заседания, лекции и так далее и показывать потом в театре по окончании спектаклей картины синематографа»… Слышь, тут и эпиграмма на него – умора! «Я изумлен, я ошарашен, какой нежданный инцидент! Кто б думать мог, что комик Сашин Люмьеру будет конкурент!.. Ах, комик Сашин, вот манера: поддел голубчика Люмьера! И, сумму крупную собрав, купил он «синематограф». Поступок сделал он отличный и очень даже деловой: соединил талант комичный он с фотографией живой»… А, как тебе?
– Да никак. Пусть тешится.
Досадовал на самом деле, клял собственную нерешительность. Предприимчивый народец не зевает, что ни неделя – российская киноновинка. «Купание в Москве-реке при 20 градусах мороза», «Пожар в Одессе», «Охота на медведя в Сибири», «Фигурная езда на коньках в Петербурге известного конькобежца Панина». Фотограф из Харькова Федецкий продал прокатчикам свои короткометражки: «Вид Харьковского вокзала в момент отхода поезда с находящимся на платформе начальством», «Перенесение чудотворной иконы Божьей Матери из Куряжского монастыря в харьковский Покровский монастырь», «Джигитовка казаков 1-го Оренбургского полка». Старые знакомые Ган и Ягельский обзавелись новейшими камерами, снимают светскую хронику, будни царской семьи – сюжеты немедленно попадают на экран. Несколько любителей подвизаются в качестве собственных корреспондентов французских фирм «Гомон» и «Пате», часть работает на собственный страх и риск, сплавляет европейским фирмам сюжеты из русской повседневности, один из них, некто Кобцов, ухитрился заснять момент убийства наместника Кореи во время встречи с российским министром Коковцевым – ленту показали по всему миру. Подъесаул какой-то казачий уволившийся по состоянию здоровья в запас – головастый, ничего не скажешь! – по фамилии Ханжонков сделался пайщиком кинокомпании «Гомон и Сиверсен», организовал на Саввинском подворье фабрику по производству кинолент, взял патент на прокат заграничных и отечественных лент. Торгует кинооборудованием, «волшебными фонарями», «туманными картинами», собирается, по слухам, начать съемки собственной постановочной картины.
–А ты что, рыжий? – спрашивал себя.
«Рыжий, рыжий!» дразнилось по утрам трюмо в спальне.
«Так проспишь царство небесное, болван!»
Мелькнула мысль: отправиться с камерой в Маньчжурию, на театр военных действий неудачно складывавшейся войны с Японией. Опомнился разом: «Спятил? Под пули лезть? За какие коврижки?» Когда главный редактор «Русского слова» Благов в самом деле предложил поехать кинооператором на войну, отшутился, что его, по причине малого роста свои могут принять за японца.
– Подстрелят как куропатку, Федор Иванович.
– Ну, смотрите, дело хозяйское, – сухо отозвался тот.
Он все еще наполовину фотограф, картины на экране для него – движущаяся фотография. Поменял вывеску над павильоном и мастерскими центрального ателье на Невском:
«ПЕРВОЕ В РОССИИ СИНЕМАТИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ
ПОД ВЕДЕНИЕМ ИЗВЕСТНОГО ФОТОГРАФА А. О. ДРАНКОВА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ.
ВЫДЕЛКИ ЛЕНТ ДЛЯ СИНЕМАТОГРАФОВ.
СЮЖЕТЫ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ!
СОБЫТИЯ В РОССИИ И ОКРАИН!
ВИДЫ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ.
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ НОВЫЕ СЮЖЕТЫ!
ПО ЖЕЛАНИЮ СНИМКИ МОГУТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ».
Летом 1907 года он решил запечатлеть на пленку с труппой петербургского театра «Эден» пушкинского «Бориса Годунова». По словам одного из участников съемок, «большинство актеров было вообще против нелепой затеи, но многие были не прочь заработать, кроме того, все сгорали от любопытства: что такое киносъемка. В успех предприятия, кажется, никто не верил. Трудно было поверить в серьезность каких-либо намерений в области искусства, видя такую забавную фигуру, как Дранков. Маленький, толстый, толстогубый, с ярко-рыжими волосами, всегда потный, спешащий, жестикулирующий, он произвел неблагоприятное впечатление на артистов уже тем, что с каждым торговался, как на рынке. А когда Дранков потребовал сокращения трагедии, предлагая ограничиться четырьмя-пятью сценами, все встали в тупик. Со скрипом дело все же пошло. Но как! Если актеры были послушными, то Дранкова все равно что-то не устраивало. Возмущало его особенно то, что исполнители, несмотря на запрет, переступали то и дело очерченный бечевкой съемочный манежик по периметру сцены.
«Еще раз объясняю! – вращал он зверски глазами оторвавшсь от камеры. – Чтобы не переходили границу кадра, ясно? Герои фильмы не ходят по экрану без ног. Или как, по-вашему, ходят?» Написанные на холсте, прибитые на рамы декорации колыхались от ветра, участники съемок при проходах бросали на них тени. Как ни старался Дранков запечатлеть издали общий вид, ничего не получалось. Всю картину пришлось снимать на средних планах. Даже проход бояр запечатлели не в полный рост. В разгар работ съемки окончательно остановились: не выдержав насилия над искусством, категорически отказался сниматься исполнявший роль Бориса Годунова актер Алашевский».
– Черт бы вас подрал с вашими муками творчества! – потрясал он кулаками. – Плата всем будет урезана наполовину! Лева, собирай аппаратуру!
Чтобы как-то компенсировать расходы, склеил на скорую руку отснятые эпизоды и запродал часовую фильму в провинцию под названием «Сцены из боярской жизни». Кукиш вам!
Поддержки кинопредпринимательству со стороны властей не было никакой. В одной из резолюций царь высказался о синема следующим образом: «Я считаю, что кинематография пустое, никому не нужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством. Все это вздор, и никакого значения таким пустякам придавать не следует». Когда во время одного из доклад он услышал, что в какой-то синематеке социалисты разбросали в рядах противоправные листовки, произнес в раздражении: «Я неоднократно на то указывал, что эти кинематографические балаганы опасные заведения! Там негодяи могут черт знает что натворить, благо народ, говорят, валит туда, чтобы смотреть всякую ерунду!»
Муторно на душе. Отказали с кредитом в банке – не рассчитался за предыдущий. Англичанка сбесилась. Назвала хамом, грозит уехать. В баню, что ли, сходить, давно не парился.
Эх, Воронинские бани на углу Фонарного переулка и Мойки! С чучелом медведя у входа, терракотовыми статуями в вестибюле. Высокими сводами залов, мраморными бассейнами с проточной водой из собственного артезианского колодца, изразцовыми каменками в мыльнях и парильнях, мебелью в стиле Людовика Шестнадцатого в дворянском отделении. Нет лучшего места, где можно забыть невзгоды, размять косточки, потешить душу и тело – решительно нет!
Давайте пройдем не задерживаясь мимо отделений для простонародья за три, пять, восемь и пятнадцать копеек, остановимся в конце коридора. Направо и налево массивные двери шестирублевых номеров, одна отделана в турецком стиле. В каком номере тешат душу и тело Дранков с братом, надо думать, понятно: в турецком, каком же еще!
Осторожный стук в дверь.
Возлежащий в чем мать родила на оттоманке Дранков вопросительно смотрит на Леву.
– Кого еще нелегкая? Поди, глянь.
Набросив махровый халат на плечи, тот шлепает в прихожую. Неясный разговор за стенкой, через пару минут в комнату вслед за братом входит респектабельный господин в чесучовой паре и кожаным саквояжем. Вежливый наклон головы.
– Тысячу извинений. Гончаров, московский драматург. Слышали, возможно.
Скосив глаза на распаренного спрута между ног Дранков тянет на колени простыню.
– Признаться…
– Приехал час назад… ничего, если я сниму? – пришедший вешает на спинку кресла пиджак. – Прямо с поезда, вещи в гостинице оставил, и к вам. Слуга ваш африканец…
– Доложил, трепло! – вырвалось у него.
– Я ему объяснил, что дело срочное, – драматург отирает платком бисеринки пота на лице, – что, мол, барину это дело очень важно.
На лице у него интерес. Вздернул брови.
– По части текстовых вставок что-нибудь?
– Не совсем.
– Как вас по батюшке, простите?
– Василий Михайлович.
– Да, слушаю вас, Василий Михайлович.
– Такое дело, господин Дранков. Я написал и ставлю в театре сада «Аквариум» пьесу-былину из жизни Стеньки Разина.
– Того самого? Из песни?
– Да, личность в истории известная. У меня родилась идея: сопроводить действие синематографическими живыми картинами. Дополнить ими сюжет. Публика у нас в Москве капризная, трудно чем-либо удивить. А тут театр и синематограф одновременно. Повалят как миленькие.
– Это как же, не совсем понял? Идет пьеса, на сцене играют артисты…
– А за спиной у них, на экране, – гость заулыбался, – живая иллюстрация. Представляете? Театральные герои словно бы переносятся время от времени в реальный мир. Ничего похожего в мировой практике театра не было, мы будем первыми!
– Занятно… – потянувшись к вешалке, он снял и набросил на плечи халат. Глянул на брата: Лева делал непонятные знаки глазами.
– Премьера, надеюсь, не скоро, есть время почитать пьесу, подумать?
– Время есть, но затягивать не следует. Премьеру наметили на рождественские праздники, покажем вслед за новой пьесой Андреева. Помещение арендовано, роли распределены, Ипполитов-Иванов пишет музыку. Я и экран уже для живых картин на полотняной фабрике заказал – шесть метров на шесть. Не хуже, чем у Люмьеров в Париже… Дело единственно за вами, дражайший Александр Осипович, решайтесь! Съемочные расходы пополам, театральные на антрепренере, договор… – драматург потянул со столика саквояж, – вот он…
– Сцен сколько намечается?
– Пять. Возможно, шесть. Решим на месте. Фильму потом скроете из фрагментов.
Он хлебнул раз и другой квасу из кружки.
– Абдильда! – закричал в смежное помещение парильщику-татарину. – Купальный костюм господину!
Сидели через полчаса в салоне попарившись и поплавав в бассейне, пропустили за знакомство и успех предприятия по рюмочке принесенного гостем шустовского конъячка, закусили балычком и зернистой икрой. Перешли, выпив на брудершафт, на «ты».
– Волга нам ни к чему, снимать будем рядом, на сестрорецком Разливе, – говорил Гончаров. – Обстановка подходящая: ветерок с залива, волны. То, что надо. Статисты под боком – студийцы вашего Народного дома. Стеньку сыграет трагик Петров-Краевский. Богатырь, выпивоха, фактура, что надо. Бороду приклей, готовый Стенька Разин. Он сейчас на мели, дорого не возьмет. Разбойную ватагу закатим впечатляющую – не меньше сотни статистов.
– Не просто, – почесал он в затылке. – Расставить по местам, одеть. Учти, Василий Михайлович, я с таким количеством народа дел никогда не имел.
– Не бери в голову, Осипыч. Будет режиссер, я за сценариста, твое дело снимать.
– Льву, – скосил он глаза на ерзавшего в кресле брата, – должностежка какая найдется? Он у меня правая рука.
– Помощник оператора, – последовал ответ, – почасовая оплата за счет антрепренера… Ну, еще по одной? – Гончаров разлил по рюмкам остатки коньяка. – Чтобы не было раздора, – хохотнул, – между вольными людьми.
Неделя на сборы и согласования – в спешке, галопом. Выехали на рассвете груженым обозом от Народного дома в Александровском парке. Впереди, на сиденьях рессорной коляски, съемочная группа: они с братом, невыспавшийся, озабоченный Гончаров, спиной к вознице блондин с буйным чубом из-под козырька фуражки – присяжный поверенный, а в свободное время режиссер-любитель Борис Ромашков, рядом покуривающий на свежем ветерке пахитоску, взятый на всякий пожарный случай второй оператор Коля Козловский. В идущем следом экипаже – мотающиеся по сторонам головы трагика Петрова-Краевского и художника-стилиста Бауэра, норовящие прикорнуть на плечико исполнительницы роли персидской княжны Симочки Остапович. Дальше цепочка телег, окрики возниц, веселые возгласы, взрывы смеха – массовка. Влюбленные в театр студийцы драматической и оперной студий – чиновники, гимназисты, студенты, мещане, мастеровые. Все по-летнему одеты: светлые рубахи навыпуск, косоворотки, картузы. Едут как на загородный пикник, дурачатся.
Фильма началась уже в дороге. Едва выбрались из парка на Кронверкское шоссе, из второй коляски послышался крик. Вставшая в рост Симочка махала в их сторону сложенным зонтиком.
– Останови! – тронул он спину возницы.
Обоз встал, Симочка, придерживая полы юбки, бежала в их сторону.
– Это совершенно невозможно! – произнесла задыхающимся голосом. – Я не могу там сидеть, от него водкой разит!
– От кого, мадемуазель? – опустил ногу на ступеньку Ромашков. Сошел на землю.
– От Евгения Александровича, – она передернула брезгливо плечиками. – От кого же еще?
– А как, по-вашему, госпожа Остапович, должно пахнуть от Стеньки Разина? – Ромашков картинно развел руками. – Туалетной водой? Водка на Руси спокон веку…
– Володя, закругляйся! – перебил его Гончаров. – Времени в обрез!
– Бог знает, что такое… – повернула назад Симочка.
Тридцать пять верст до Сестрореца одолели к полудню, встали табором на выросшем в полусотне шагов от берега съемочном городке. Наспех сколоченные домики, палатки, кухня под навесом. На опоясанных лесенками стапелях рабочие Петербургского адмиралтейства заканчивали под руководством инженера-судостроителя шпаклевку и покраску выполненных по историческим эскизам десятивесельных стругов. Ставили мачты с навешанными парусами, резные ростры на носу с изображением Нептуна и головами хищных птиц.
– Простор, воля! – взволнованно говорил выгружавшимся из телег студийцам Ромашков. – Входите в роль свободных людей, господа, дышите полной грудью!
Слова режиссера возымели действие – ватага будущих ушкуйников устремилась, обгоняя друг дружку, к берегу. Скидывали одежду, сигали с гиканьем в воду, плескались, вопили как оглашенные.
Он пошел с Левой и Козловским к поросшему тальником заливчику – присмотреть место для установки камеры. Нашли, вроде бы, подходящее. Скальный пятачок, обзор подходящий. На том берегу кудрявый лесок вдоль отмели, изб соседней деревеньки и летних дач не видно.
Вернулись – за длинным столом на козлах посреди лужайки нагулявшая аппетит массовка. Стучат в нетерпении ложками: обедать, обедать! Нанятая прислуга расставляет посуду, режет хлеб, повар с помощником тащат из кухни дымящуюся лохань с кашей. Кулебяка, сладкий чай из кружек, яблоки на десерт.
– Эх, храпануть бы часик-другой! – потягивается, вставая из-за стола, Петров-Краевский.
– Никаких храпануть! – кричит Ромашков! – Все в палатку Бауэра! На примерку!
Через час – животы надорвешь! – столпились у дверей костюмерной ряженые из ярмарочного балагана: тулупы не по росту, бороды по сторонам, спадающие шаровары, лезущие на глаза шапки. Чтобы губы исполнителей не выглядели черными на нечувствительной к красному цвету ортохроматической кинопленке, Бауэр выкрасил их специальным черным гримом. Африка!
– Господа, все ко мне! – кричит в рупор Гончаров. Оседлал стул, раскладывает стопку бумажек на столике. – Повторяем сценариус, и за работу!.. Сцена первая, – читает с выражением, – «Разгул Стенки Разина на Волге». Волжский речной простор. Качаясь на волнах плывут переполненные струги с разбойниками. Все навеселе, возбуждены, наваливаются рьяно на весла, победно машут саблями, пиками и пищалями. На переднем челне Стенька Разин, в одной руке кубок, другой обнимает красавицу-княжну… – Госпожа Остапович! – гневный взгляд в сторону обольстительной, в шелковых одеждах Симочки, шепчущейся о чем-то с кучерявым статистом. – Прошу не отвлекаться, это касается и вас!
Жизнь заиграла новыми красками, ускорила бег. Сколько событий за эти не по-северному знойные летние месяцы! Изматывающих, до судорог в руках и ногах съемок на солнцепеке по двенадцать и больше часов в день, обретения опыта, случайных открытий. Веселья, неожиданностей, курьезов.
Речные эпизоды оказались самыми трудными, отняли много времени и сил.
– Как гребете? – бегал вдоль берега с рупором в руках Ромашков. – Вы что, господа, барышень никогда в лодках по пруду не катали? Навалились! Быстрей, быстрей! Пики, алебарды выше, руками махать! Кричите!
– Чего кричать? – голос с лодки.
– Боже, царя храни! Стихи! Что хотите!
Он крутил, прильнув к окуляру, ручку тяжелого «Урбана». Проплывали мимо лодки: передний струг, второй, третий, заворачивали по команде к берегу.
– Коля, не прозевай! – окликнул стоявшего по колено в воде с запасной камерой Козловского, тот кивнул головой: «вижу!»
Первая ладья заворачивала к берегу, плыла прямо на них. Стоявший в рост Петров-Краевский в полотняной рубахе и портках в обнимку с Симочкой, ряженая массовка на веслах. Лица отчетливые, струги вмещаются в пространство среднего кадра, не режутся по краям – то, что надо.
Он поправил слегка на резкость фокус.
– Куда вас, мать вашу! – крик Ромашкова.
Это надо же! Из-за ближайшего мыса выплыл дымя трубой неведомо откуда взявшийся паровой прогулочный катер с пассажирами. По-летнему одетая публика толпилась у борта, махала руками, весело кричала, краснолицый толстяк в чесучовой паре кинул, размахнувшись, в их сторону бутылку, прокричал:
– Шампанское господам артистам!
Работа нескольких часов коту под хвост, пересъемка. «Весла табань! – монотонный голос Ромашкова. – Весла суши!.. Жесты энергичней!.. Весла табань!.. Весла суши!.. Внимание рулевым: медленно заворачиваем!»
Сцены на берегу сняли достаточно быстро: обстановка напоминала театральную – со всеми ее неизбежными курьезами.
– Василий Павлович, ну, что ты с нами делаешь! – стонал Гончаров при виде плохо державшегося на ногах, энергично вживавшегося посредством возлияний в роль Петра-Краевского. – Повремени малость!
– Молодежь учи, я ученый, – отхлебывал из бутылки трагик. – Лира играл, Гамлета. Не твою туфту-былину.
– А вот насчет туфты попросил бы воздержаться!
– Будет тебе, драматург, – зевал Петров-Краевский. – Давай дальше снимайте. У меня спектакль через неделю у Казанского.
Это ему в конце-концов надоело. Времени в обрез, деньги летят на ветер. Чего резину тянуть? Не любивший ходить в упряжке взял бразды правления на себя. Козловского поставил на основную камеру, Леву на подхват. Сам – управляющий и постановщик, последнее слово за ним.
– Давай, Василий Михайлович, начинай, – торопил собиравшего на поляне массовку Гончарова. – Текст послушали, и к камерам!
Облысевший, с остатками посеребренной стерни на голове драматург тянул из кармана бумажки, принимался читать:
– «Разгул в лесу». Пристав к берегу и разведя на поляне среди сосен костры пируют разбойники. Покачиваются от выпитого, пляшут, осушают кубок за кубком. Сидящий на ковре среди подушек Стенька Разин целует (хохоток среди слушателей, Гончаров болезненно морщится)… целует сидящую на коленях полюбовницу. Княжна встает, танцует перед атаманом тряся монистами. Страстный поцелуй, Стенька уводит персиянку за плечи в шатер. Разбойники вступают один за другим в круг, танцуют гопака… Следующий эпизод «Заговор разбойников против княжны»… – Гончаров откашливается. – Лесная поляна, посреди телега со стогом сена. Наверх взбираются друг за другом дружинники, произносят гневные речи, потрясают кулаками. Один из есаулов читает якобы написанное княжной письмо дружку, принцу Гассану в Персию: «Мой милый принц Гассан, мне так тяжко жить в тяжелой неволе, мне надоело быть в этом диком разгуле, я плачу вспоминая о тебе, моей милой родине, садах душистых наших. Прости и не забудь меня. Твоя до гроба несчастная княжна». Подметное письмо вручают атаману, тот в гневе, хватает полюбовницу за плечи, тащит к выходу палатки, кричит: «Меня ли одного ты любишь, княжна»?! Та бросается ему в ноги: «Невиновная я, тебя одного люблю, мой повелитель!» Тщетно, несчастную волокут к берегу, ватага грузится в лодки. Головной струг, Стенька осушает кубок, персиянка рвется у него из рук, он вскидывает ее над головой – прими, матушка-Волга, дорогой подарок от донского казака!»…
– Все по местам! – командует Дранков. – Снимаем!
В день съемки заключительных сцен на воде испортилась погода, дул с залива ветер, нагонял волну. Он распорядился дать участникам массовки по чарке водки. «Для сугрева».
– Спаиваете народ, Дранков, – посмеивался хрустя соленым огурцом Петров-Краевский.– Нам с хлопцами еще на Москву идти.
– Ужас! – заламывала руки шедшая за ним по пятам Симочка. – Василий Павлович поднимет меня и бросит в воду? Я плавать не умею!
– Да не психуй ты, тут мелко, – успокаивал ее трагик. – Не утонешь.
– Боюсь, не хочу! – топала она ногами.
Бросили, в результате, за борт, подменив в последний момент Симочку куклу в шальварах и тюрбане, момент скрыли монтажной склейкой.
– И за борт ее бросает! – горячо обнимает его Лева.
– … в надлежащую волну! – хохочет он.
Стоят поблизости с довольными лицами Гончаров, Бауэр и Ромашков, размахивает отклеенной бородой сильно на взводе Петров-Краевский, улыбается пришедшая в себя Симочка с красиво распущенными по плечам волосами.
– Поздравляю, Александр Осипович, – жмет руку Козловский.
– И тебя, Коля.
– Спасибо, молодежь! – энергичный жест в сторону валяющейся на траве оживленной массовки. – Поработали на славу!
Радостные крики в ответ, шапки в воздух.
Отвоевались, шабаш!
6.
Казалось бы, отдышись, переведи дух – ничего подобного. Едва отдал в работу отснятый материал, набросал черновики текстовых вставок, заказал граммофонные пластинки с записью музыки Ипполитова-Иванова, бросился в новое предприятие – запечатлеть на пленку грядущий юбилей Льва Толстого.
Восьмидесятилетие гения литературы, мыслителя и вероотступника в центре внимания русской и мировой общественности. На первых полосах ведущих изданий Старого и Нового света бесчисленные поздравления, приветствия, адреса, хвалебные статьи, хула и брань. В Ясную Поляну, место добровольного изгнания великого старца, едут делегации, рвутся толпы фотографов, журналистов, кинорепортеров. Сам Толстой всячески открещивается от шумихи вокруг себя. В появившемся в газетах ответе петербургским сектантам, которые предлагали ему использовать юбилей в целях освобождения заключенных в тюрьмы за политические и религиозные убеждения, написал: «Хотя совет ваш очень хороший, но я, однако, не могу им воспользоваться, так как с самого начала относился совершенно отрицательно к странной затее моего юбилея, столь несвойственной моим взглядам. Я за правило поставил себе не выражать никаких желаний по случаю этой затеи. Кроме того, я уверен, что если бы я и заявил это желание, о котором вы пишите, то нет никаких вероятий, что оно было бы исполнено».
Добравшись поездом до Москвы, прогуливаясь по перрону в ожидании пересадки, Дранков купил в киоске свежий номер «Русского слова». Прочел на первой странице: «Прошу вашу уважаемую газету напечатать следующее мое заявление. Чтобы не доставлять лишнего беспокойства лицам, желавшим лично поздравить Льва Николаевича Толстого с днем его рождения 28 августа, считаю долгом сообщить, что последняя болезнь, осложнившаяся инфлуенцией, от которой он и до сих пор принужден оставаться в постели, до такой степени изнурила его, что он лично никого решительно, даже самых близких, к сожалению, принять никак не может. Графиня Софья Толстая».
«Веселенький номер! – плюнул в сердцах. – Ладно, разберемся на месте».
В Туле было столпотворение. Скопище приезжих, извозчики нарасхват, дерут втридорога. Нанятая им коляска, тащившаяся черепашьим шагом в колонне экипажей и авто, окончательно встала в нескольких верстах от яснополянской усадьбы.
– Пойду, гляну… – спустился с козел возница.
Вернулся спустя короткое время, развел руками: пути далее нет, полиция заворачивает всех без разбора назад.
– Забор обойти стороной можно? – озирался он по сторонам. В дни неплохо кормившего его когда-то воровского репортерства случались ситуации и посложней.
– Возле мельницы, барин. Рощей пройти, там мосток через речку. По мостку в парк.