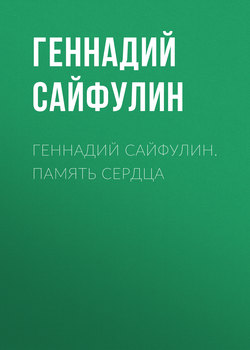Читать книгу Геннадий Сайфулин. Память сердца - Геннадий Сайфулин - Страница 1
ОглавлениеР оскошный ЗИМ подкатил к крыльцу полуразвалившегося барака, где жила наша семья. Из автомобиля вышла Валентина Серова – в красивом платье, с меховым манто на плечах. Через минуту на улицу высыпал весь Несвижский переулок. «Это за Генкой Сайфулиным…» – прошуршало в толпе. Убогий «дизайн» двора – деревянные туалеты, корявые поленницы, разбитая булыжная мостовая – легенду кино ничуть не смутил: обаятельно улыбаясь, Серова отвечала на приветствия окруживших ее поклонников, а мою заплаканную маму обняла и расцеловала.
Фильм «Бессмертный гарнизон» был первой картиной, рассказывавшей о подвиге защитников Брестской крепости. Сценарий написал Константин Симонов, роль жены начальника гарнизона досталась Серовой, а я играл ее сына.
Самолет на Киев, откуда нам предстояло добраться сначала до Кишинева, а потом до Бендер, где снимались довоенные эпизоды, вылетал рано утром, поэтому Серова и забрала меня из дома накануне. Закрепленный за Симоновым ЗИМ (как кандидату в члены ЦК ему полагались представительский автомобиль и личный шофер) привез нас на подмосковную дачу Константина Михайловича и Валентины Васильевны. Мне отвели комнату с красивой мебелью и большой кроватью. Белоснежное, хрустящее от крахмала белье, пушистые полотенца… Но главное потрясение случилось утром, когда в комнату вошла горничная – в фартучке, кружевной наколке – и подкатила к кровати столик, на котором был сервирован завтрак: кофе в красивой чашке, яйцо на фарфоровой подставке…
В шесть утра ведущее к Внуково шоссе было абсолютно пустым, и ЗИМ несся на предельной скорости. Голос диктора из автомагнитолы объявил: «Сейчас прозвучит джазовая сюита композитора Александра Цфасмана…» Полилась музыка, и я вдруг понял, что обязательно должен запомнить этот момент: летящую по утреннему шоссе машину, запах духов сидящей рядом Серовой и красивую мелодию. С тех пор прошло больше шестидесяти лет, но при первых звуках сюиты Цфасмана мне легко, закрыв глаза, представить себя четырнадцатилетним.
Коля Батурин в фильме «Бессмертный гарнизон» был моей второй ролью, дебют состоялся годом раньше – в картине «Дым в лесу». Только сначала я хочу рассказать о своем «докиношном» детстве.
На момент моего появления на свет – двадцать третьего февраля 1941 года – папе исполнилось двадцать лет, маме – девятнадцать. Из роддома меня принесли в коммуналку на Калужском шоссе – и в восемнадцатиметровой комнате нас стало двенадцать: дедушка и бабушка со своими восемью детьми (моя мама была самой старшей), отец и я. Дед вскоре умер, оставив бабушку беременной девятым ребенком – мой младший дядя родился в начале 1942-го, когда наши войска уже гнали немцев от Москвы. После смерти деда и до того как отца забрали на фронт, огромная семья жила на зарплаты родителей: мама работала мастерицей на знаменитой шелкоткацкой фабрике «Красная Роза», отец – художником в газете «Ударник Метростроя». Хорошим подспорьем были и его гонорары в книжном издательстве «Детгиз», где он, блестящий график-самоучка, рисовал иллюстрации к сборникам русских и башкирских народных сказок, к поэме «Руслан и Людмила», к «Коньку-Горбунку». Люди старшего поколения должны помнить обложку довоенного издания сказки Петра Ершова – на синем фоне Иван верхом на Коньке-Горбунке. Вскоре после начала войны отец принял участие в конкурсе политического плаката и получил первую премию, оставив позади даже Кукрыниксов. Несколько лет назад одно из московских издательств небольшим тиражом выпустило альбом «Плакаты Великой Отечественной». Я держал его в руках, видел работу отца и до сих пор досадую, что в кармане не оказалось достаточно денег. Пока съездил домой, книгу продали.
В Москву Рашид Сайфулин попал мальчишкой: сбежал из эшелона, на котором его раскулаченную семью везли в Сибирь. В столице поначалу беспризорничал, потом его приютила русская семья. К моменту встречи с будущей женой Рашид так освоился в новой среде, что друзья и коллеги звали его Сашкой.
Когда папу забрали на фронт, мама осталась единственной добытчицей. Уходила на фабрику ни свет ни заря, возвращалась затемно. Утром успевала покормить грудью меня и своего младшего брата, к вечеру молока тоже хватало для обоих, а днем меня и дядю кормила грудью бабушка. До сих пор не понимаю, как всем детям удалось выжить. Невредимым вернулся с фронта и мамин брат Василий, который был младше ее на несколько лет.
Отца комиссовали в 1943 году после тяжелой контузии. Его снова взяли в газету «Ударник Метростроя» и выделили служебное жилье – две комнаты в бараке в Несвижском переулке. В одной папа оборудовал для себя мастерскую, другая служила нам и спальней, и столовой, и детской. В 1945-м сюда же принесли из роддома мою сестру Надю. Война закончилась, наступил мир – вроде бы живи и радуйся, но отец начал пить. Часто пропадал в шалманах, где собирались безрукие, безногие фронтовики-инвалиды – их ведь не сразу вывезли из Москвы… Поил изувеченных в боях товарищей и пил сам. В 1949 году это довело до беды. Владелец шалмана объявил, что питейное заведение закрывается, и начал, осыпая ругательствами, вышвыривать инвалидов на улицу. Отец стал за них заступаться, хозяин ринулся на него с кулаками – и получил пивной кружкой по голове. Папу арестовали и дали четыре года колонии, хотя шалманщик и отделался сотрясением мозга. Мама осталась с тремя детьми на руках: мне было восемь лет, Наде – четыре, а младшему брату Славику – несколько месяцев…
Вскоре после того как отца отправили по этапу в город Молотов (ныне Пермь), к нам в барак пришел суровый дядька из жилотдела Метростроя и потребовал немедленно освободить комнаты: «Это служебное жилье, а поскольку никто из семьи у нас не работает – выселяйтесь!» Мама говорила, что нам некуда съезжать, просила не выгонять с маленькими детьми на улицу, но чиновник был неумолим. Кроме него каждый день приходили люди, стоявшие в очереди на жилплощадь, – ругались, грозили выбросить наши вещи на улицу. Маме пришлось уволиться с «Красной Розы», где она была одной из лучших мастериц, и устроиться разнорабочей в Метрострой. Четыре года она проработала в шахте. Я несколько раз спускался вниз и могу свидетельствовать: это был ад. Ледяная вода по колено, от нехватки воздуха и пыли перехватывает горло, а одетые в брезентовые робы женщины катят и катят по рельсам тяжеленные вагонетки… Мама умерла очень рано – в пятьдесят четыре года, от тяжелой болезни, которую наверняка заработала под землей.
Невозможно представить, как трудно ей было тянуть троих детей, да еще и собирать посылки на зону, но мы не слышали от мамы ни одного плохого слова об отце. Только теплые, веселые воспоминания – она очень любила своего Сашку. Спустя два года после приговора, в 1951-м, нам разрешили свидание, и мы поехали в Молотов. Мне до мелочей запомнился день, когда нас пустили к папе на зону. Я видел, как пришел очередной этап и заключенных выстроили на плацу, видел нарисованные папой портреты Ленина и Сталина на стенах комнаты для свиданий, развешанные по всей зоне таблички «Не курить», «Не сорить», плакаты «На свободу – с чистой совестью!». Как художник отец был в колонии на особом положении – ему выделили комнатку под мастерскую и редко гоняли на тяжелые работы. Свободного времени было полно, и он рисовал карикатуры, иллюстрации к книгам. Когда по истечении срока вернулся домой, привез их огромную стопку.
Несмотря на щадящий режим, зона сильно подорвала здоровье отца. Все чаще давала о себе знать и фронтовая контузия. Уже совсем больным он продолжал рисовать с утра до ночи. За полгода сделал иллюстрации к десятку книг. Когда стало совсем худо, согласился подлечиться в ведомственной больнице на Метростроевской улице. Там уже почти не вставал, но и лежа продолжал работать. Мы с мамой часто его навещали, и однажды отец попросил:
– Лида, похорони меня на мусульманском кладбище! Что я среди русских делать буду?
Мама сердито махнула рукой:
– Будет тебе глупости говорить! Поправишься, окрепнешь – и вернешься домой. Мы все тебя ждем.
Спустя несколько дней рано утром к нам домой прибежала нянечка из больницы и сказала, что отец погиб. Разбился насмерть, выбросившись из окна палаты. Когда мы с мамой и ее братом Василием добрались до Метростроевской, тело уже убрали. Поспешили, поскольку на больничный двор выходили окна египетского посольства, где вот-вот должен был начаться рабочий день. В мою память навсегда врезалась большая лужа начавшей запекаться крови, присыпанная сверху песком… Отец покончил с собой, когда понял, что работать больше не может, и не захотел становиться обузой для матери, на которой и без того было трое детей. На момент гибели Рашиду Сайфулину было тридцать три года.
Мама решила выполнить завещание отца и выхлопотала место на Даниловском мусульманском кладбище. Поскольку татар в семье не было (даже папа – ну какой он татарин?), все приготовления проходили по христианскому обычаю: заказали гроб, купили костюм, рубашку, тапочки. Привезли все мулле, служившему на кладбище. А тот сказал: «Одежду вы сейчас заберете обратно, а принесете пятнадцать бутылок одеколона и двенадцать метров белой материи. Гроб, ладно, оставьте – Коран дозволяет».
Вот так и получилось, что могильный памятник «Сашки» Сайфулина венчает полумесяц. И лежит он один, без любимой жены Лиды, которая была крещеной и похоронена на православном погосте. Я тоже крещеный, потому и поминаю родителей одинаково – по христианскому обычаю. Мне кажется, папа не стал бы возражать…
Зная, что скоро уйдет, отец позаботился о пенсии по потере кормильца, которую мы стали получать после его смерти. Работал из последних сил, не щадя себя, ради хорошей зарплаты – от нее зависел размер пособия. Выселить из ведомственных комнат нас теперь никто не грозился, и маме удалось вернуться на «Красную Розу». Ее зарплаты и пенсии за отца едва хватало, чтобы сводить концы с концами, но я не помню, чтобы мама жаловалась на жизнь.
Благодаря ей у меня, сестры и брата было счастливое детство. Каждому из нас мама обязательно устраивала праздник на день рождения – с подарками и гостями. Мы всегда были накормлены, вымыты и одеты – пусть не в новое, но тщательно заштопанное и отутюженное. В одном из прошлогодних номеров «Коллекции» была опубликована исповедь Виктора Сухорукова. Она поразила меня откровенностью, пронзительностью и вытащила из памяти факты моей биографии. Например эпизод, когда тринадцатилетний Витя пришел на пробы к Александру Митте с огромной заплаткой на попе и старался изо всех сил, чтобы ее не заметили, напомнил, как я – в таких же залатанных штанах – вставал на репетиции школьного хора только в верхний ряд, спиной к стене…
Судьбоносная для меня встреча произошла после шестого класса, во время летних каникул. Август в 1953 году выдался теплым, и мы с другом Витькой – отчаянно рыжим, с веснушками по всему лицу – бежали на Москву-реку. Вдруг от уличных столиков возле пивной нас окликают: «Мальчики, идите сюда!» Подходим. Два прилично одетых молодых человека, игнорируя Витьку, смотрят только на меня:
– Мы хотели бы снять тебя в кино. Как такое предложение?
– А деньги платить будете? – встревает в разговор Витька.
– Да ты нам не нужен, – отмахивается от него один из парней и обращаясь ко мне, спрашивает: – Согласен? Тогда приезжай завтра во ВГИК, устроим в учебной студии пробы.
Рассказали, как добраться и где взять пропуск. На следующий день в назначенное время я был на месте. Вчерашние знакомые Юрий Чулюкин и Евгений Карелов объяснили, что готовятся к съемкам дипломного фильма по рассказу Гайдара «Дым в лесу». Представили меня и операторам, которые будут работать на картине, тоже студентам-дипломникам ВГИКа Игорю Черных и Володе Минаеву. Вот так и получилось, что своим успешным дебютом в кино я обязан квартету, каждый участник которого впоследствии стал легендой отечественного кинематографа. Юрий Чулюкин снял известные всем фильмы «Неподдающиеся», «Девчата», Евгений Карелов – «Дети Дон-Кихота», «Служили два товарища», «Семь стариков и одна девушка», «Два капитана». Игорь Черных работал с Юрием Озеровым над киноэпопеей «Битва за Москву» и с Леонидом Гайдаем над «Бриллиантовой рукой», Владимир Минаев снимал первую семейную сагу на советском телевидении – многосерийный фильм «Вечный зов».