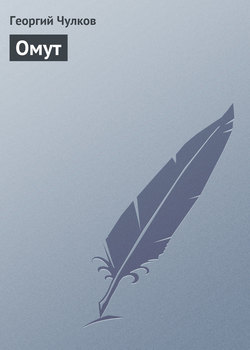Читать книгу Омут - Георгий Чулков - Страница 1
I
ОглавлениеАлександра Хомутова судили военным судом и приговорили к смертной казни. Мать Хомутова, седенькая и худенькая старушка, в черной кружевной наколочке, валялась у сына в ногах, уговаривая подать прошение о помиловании. Но Хомутов был упрямый, как его отец, который, узнав, что сын в партии, отрекся от него и не ходил к нему на свидание и даже на последнее свидание не пришел после приговора. И Александр не послушался матери.
Свидание с матерью было во вторник, а повесить Хомутова должны были в ночь с четверга на пятницу. Партия готовила побег, но денег в комитете не было: надо было съездить в Киев и там достать; одному надзирателю нужно было дать пятьсот, предстояли и другие расходы…
В Киев послали младшего Хомутова, – Алешу, только что кончившего гимназию. Дома он не сказал, зачем едет в Киев, но его и не спрашивали: должно быть, догадались зачем. Все сложилось удачно, и вечером в среду, получив семьсот рублей, Алеша выехал из Киева.
От волнений и ожиданий Алеша устал и теперь еще чувствовал мучительную тревогу: он любил брата и, когда он представлял себе возможную казнь, в горле у него начинались спазмы и он задыхался от ужаса и бессильной ненависти.
Но в то же время странная и неожиданная веселость загоралась у него на мгновение в сердце, как это бывает нередко в отчаянной и опасной борьбе.
Алеше было тогда восемнадцать лет. Он переживал те сладостные и тревожные дни, когда юношей вдруг овладевает неопределенное и, однако, острое предчувствие любви и страсти. Сначала подготовка к экзаменам, потом поручения, которые он охотно исполнял, когда партия возлагала их на него, отвлекая Алешу от этих томительных предчувствий, но всякая встреча с женщиною или даже мысль о такой встрече влияли на него, как колдовство.
И весь он был в каком-то весеннем возбуждении. Это возбуждение чувствовалось и во влажном блеске его больших темных глаз, и в беспокойной улыбке красных губ, и в стыдливом румянце, который время от времени окрашивал его юное, но уже утомленное лицо.
В купе второго класса, вместе с Алешей, оказалось еще двое: хромой офицер, побывавший в японском плену, и землемер, человек в очках, с желтоватою бородкою клином.
На станции Гребенка в купе вошла еще одна особа; это была стройная худенькая женщина, закутанная в черный шарф, так что лица нельзя было рассмотреть. В руке у нее был небольшой сак. Она тотчас же прикорнула в углу, и казалось, что она спит.
– Да, – сказал землемер, – велика наша Россия-матушка. Трудно ее, знаете ли, раскачать, но все же, приглядываясь к мужику, а без мужика Россия ничего не значит, приходишь, знаете ли, к заключению, что перемена в нем есть, не такой теперь мужик, как, – скажем, – лет десять назад.
– Что же, мужик лучше стал? – спросил Алеша, которому трудно было говорить: он думал о брате и о том, как хорошо, что есть деньги и можно спасти брата, что на это есть надежда по крайней мере.
– Не знаю, лучше мужик стал или хуже, – продолжал землемер. – Но ясное дело, стал он беспокойнее. Не спит.
– Это япошка дурману напустил, – проговорил неожиданно офицер, который лежал наверху, свесив голову вниз и слушая разговор.
– Как япошка? – спросил землемер, недоумевая.
– Солдатики, которые домой вернулись, у них в голове неладно.
«Как этот офицер нескладно говорит», – подумал Алеша и, заглянув на собеседника снизу, сказал:
– Вы непонятно выражаетесь. Почему у солдат в голове неладно?
– И у меня тоже в голове неладно. Невозможно вынести такие дела.
– В самом деле, – опять вмешался в разговор землемер. – В самом деле, говорят, многие из участников войны впали в этакое состояние, как бы сказать, расстройства или помрачения.
– Да. Мы всех манджурской лихорадкой заразили. Что ж! Надо признаться, и вы все, господа, головы потеряли.
– Про какую вы там лихорадку говорите? – нахмурился Алеша.
Слова офицера почему-то раздражали его и беспокоили, и он чувствовал, что офицер говорит о чем-то важном.
– Про такую лихорадку. Никто в себе теперь не уверен. Забыли о чести. Потому что все как в жару.
– Что за честь, когда нечего есть, – сказал землемер, кисло улыбаясь.
– Нет-с, милостивый государь, без чести никакого дела не сделаешь. И в освободительном движении, так называемом, без чести тоже участвовать никак нельзя. Я, – вы скажете, – рассуждаю как офицер. Но уверяю вас, милостивый государь, что без чести никак нельзя. Это все равно, что знамя потерять.
– Вы далеко изволите ехать? – спросил землемер, желая, по-видимому, прекратить этот разговор.
– Да, мне слезать сейчас.
Офицер спустился на руках вниз и стал топтаться по купе, укладывая вещи, надевая шапку и застенчиво поглядывая на спутников. Он заметно прихрамывал.
– Извините, господа, если что неладное сказал. Я о чести не к тому, чтобы обидеть. Я сочувствую интеллигенции.
Выходя из купе, он приложил руку к козырьку и прибавил:
– И рабочему классу особенно… Но и рабочему человеку о чести тоже надо помнить… До свидания…
– С предрассудками господин, – усмехнулся землемер, когда офицер, прихрамывая, вышел из купе. – Об таких тонкостях, как честь, думать не приходится. Дело не в чести, а в том, чтобы отстоять свои насущные интересы… А что касается войны…
И землемер стал рассуждать пространно на эту тему. В облаках табачного дыма то возникала, то пропадала его бороденка клином и поблескивали на носу очки.
Алеше было скучно слушать рассуждения землемера, и он был рад, когда и этот спутник через полчаса вышел на какой-то станции.