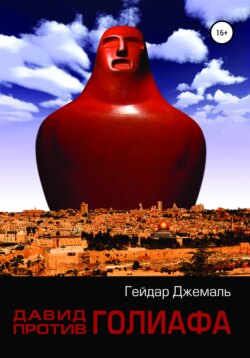Читать книгу Давид против Голиафа - Гейдар Джахидович Джемаль - Страница 1
Современный кризис интеллекта и возможности его преодоления.
ОглавлениеДоклад на конференции «Дни Петербургской философии – 2007» Санкт-Петербург, 15 ноября 2007 года.
Если разговоры о кризисе интеллекта, кризисе науки, кризисе точного знания еще не стали общим местом в современном западном дискурсе, то, по крайней мере, очень быстро общим местом становятся. Уже на протяжении восьмидесяти и более лет разговоры о кризисе идут с разной силой, с разными акцентировками. Но, пожалуй, начал эту тему в ее всеобъемлющем характере Гуссерль, который впервые сформулировал, что западная мысль не состоялась в своих сверхзадачах, которые полагались в том, чтобы создать универсальное сознание, универсальный метод, позволяющий интегрально решить все аспекты истины. Он назвал это кризисом смысла. И сегодня вслед за ним очень многие, прежде всего из постмодернистов, которые пришли на волне этого кризиса и являются его экстериоризацией, говорят о кризисе смысла и даже апокалипсисе смысла.
Но что такое кризис? По крайней мере, данный конкретный кризис как внутренняя проблема интеллекта, как внутренний сбой интеллекта. Кризис – это, прежде всего, ложная презумпция, лежащая в основе посылки, которая будучи незамеченной, потом как мина замедленного действия приводит к сбою, приводит к слому системы.
В данном случае Гуссерль попал философским пальцем в нервный узел проблемы, когда начал говорить о несостоявшемся прорыве к универсальному. Он попал в том смысле, что именно проблема универсального является форматом и описанием кризиса.
Что такое универсальное в данном случае? Когда мы говорим об универсуме, когда мы говорим об универсальном, мы попадаем в очень серьезное метафизическое противоречие. Либо, с одной стороны, мы являемся свидетелями универсального, и тогда мы вне его, и тем самым мы ограничиваем его, и, таким образом, оно уже не универсальное. Либо же наоборот, мы утверждаем себя как часть универсального, но в этом случае, какое право часть имеет высказываться о целом? Как ни крути, сама постановка вопроса об универсальном или о том, что мы называем (с большой буквы) «Все» – это драматический вызов интеллекту, который с неизбежностью ведет к кризису.
Прежде всего, тема универсального неотделима от проблематики монизма как общей подкладки европейского философствования. Сквозь все превратности философских исканий от Платона до наших дней, общая подкладка в философском инстинкте мыслителя, воспитанного в духе эллинизма (а он воспитан в духе эллинизма, даже если творит в начале двадцатого столетия), это все равно подкладка монизма, это монистический инстинкт; а монизм представляет собой более глубокую, более метафизическую постановку вопроса об универсальном.
С самого начала своей истории философия явилась не чем иным, как опусканием метафизики на землю. Если метафизический подход, подход высокого жречества на уровне Пифагора, Эмпедокла, – это сведение конкретного к абсолютному, то философия с самых первых своих шагов, когда она оформилась именно как философия, была попыткой представить абсолютное в виде конкретного. И даже у Фалеса Милетского, даже у Анаксагора мы обнаруживаем всю ту же самую страсть сведения абсолюта с небес в непосредственно представимую конкретику. Поэтому философ, мыслящий в рамках этого посыла, стоит перед большой проблемой взаимоотношений субъекта и объекта. Субъект и объект в этом случае для него являются комплементарными аспектами абсолютного целого. И в тот момент, когда они сливаются, наступает состояние возвышенного познания истины.
Иными словами, фундамент европейской мысли – это то, что сознание определяется как бытие. Это очень важная мысль. Именно здесь зарыта мина замедленного действия. Тождество бытия и сознания возвращает нас к проблеме: каким образом сознание может свидетельствовать бытие, если оно ему, в конечном счете, тождественно? Вся философская история Европы есть попытка сбалансировать и откорректировать эту внутреннюю драму монизма, эту зарытую внутри него проблематику.
Наиболее полно это представлено у трансцедентальных авторов, у раннего Шеллинга, который сразу же скатился на философию тождества, и мэтра диалектики Гегеля, ибо в его случае диалектический метод есть не что иное, как попытка выйти на свободу из ловушки тождества сознающего субъекта самому себе.
Но проблема в том, что абсолютная идея ни при каких обстоятельствах не превращается в экзистенциальное сознание свидетеля. Вы не можете начать с чистого универсального ничто как исходного содержания абсолютной идеи, а закончить смертным человеком, который находится «здесь и теперь» и является зеркалом, предъявленным реальности. Потому что здесь есть барьер, который нельзя перешагнуть иначе, как совершив философский подлог.
Я хочу сказать, что этот аспект европейского мышления есть не что иное, как выявление внутренней парадигмы всей человеческой метафизики. Ибо, куда бы мы ни пошли, куда бы ни направили свой взор, мы найдем всюду монизм, монизм и один только монизм, начиная от дальневосточной традиции, от индуизма, и кончая друидами, ацтеками и так далее.
Исключение составляют совершенно уникальные традиции Единобожия, традиции авраамических пророков (Да будет мир над ними всеми!), которые осуществили революцию в метафизике, в самом понимании того, что такое сознание и что такое когнитивная способность человека.
Проблема универсализма, которая ставится всеми мыслящими носителями любой традиции в любой цивилизационной системе, – это внутренняя воля, внутренняя необходимость выйти на ту подлинность, которую нельзя определить иначе, как «То, кроме чего ничего нет». Что есть то последнее, достигнув которого, мы можем пережить ощущение избыточности, не допускающей никакую параллельную реальность рядом, ничего кроме себя? Именно этот избыток и есть критерий подлинности. И я скажу больше: именно это есть критерий правды. Ибо истина есть констатация сущего, а правда – это долженствующее, то, что должно стать.
Вот здесь главная проблема. В тот момент, когда человек сознает бесконечность как предмет своего созерцания, он самим фактом этого созерцания выступает как ограничитель той «бесконечности», которую он отражает как свидетель.
Я не согласен с теми исследователями, философами, которые полагают, что опыт бесконечности – это единственный опыт, который нам недоступен. Нет. На самом деле человек испытывает опыт бесконечности очень рано, когда ему всего лишь несколько лет отроду, до того, как к нему придет ощущение драмы, боли, смерти и так далее. Его способность смотреть, воспринимать и отражать мир уже закладывает в себя привкус неограниченной способности к отражению, неограниченной способности к перцепции. Причем в инстинкте этого взгляда на мир содержится интуиция, что потенциал перцепции больше чем то, что может быть отражено. Сила зеркала больше, чем то, что может попасть в фокус этого зеркала.
Потом, с приходом боли, с приходом ощущения бренности своего тела, эта интуиция уходит. Но она фундаментально встроена в сам акт свидетельствования. Акт свидетельствования есть нечто другое, чем интеллект. Потому что это экзистенциальное переживание той точки, которая находится внутри нас «здесь и теперь», в которой останавливается внешний мир.
В самой идее зеркала содержится этот момент. Он содержится в черной амальгаме с обратной стороны зеркала. Все, что отражается в зеркале, отражается благодаря тому, что его обратная сторона является непроницаемой для света. Но эта черная амальгама никогда не бывает в самой системе рефлексии, то есть она никогда не выводится непосредственно вот в эту рефлексию, в отражение. Черная амальгама является скрытым необходимым условием отражения. Совершенно аналогично этому, внутри человека тоже находится эта черная амальгама, некий фактор негативного апофатического присутствия в его сердце, о которое разбиваются волны внешнего наружного света, которые видны ему, которые несут ему впечатление о феноменологическом мире вокруг. И именно благодаря этому, в его личностном зеркале этот мир оживает. Потому что внутри него есть та точка, которая не тождественна ничему из того, что он способен увидеть, понять и почувствовать.
Авраамические пророки (Мир им всем!) сосредоточились именно на выявлении этого центра, формулируя дискурс об этой точке, которая не может быть выявлена в опыте, потому что она есть условие опыта. Она подобна черной амальгаме зеркала, благодаря которой зеркало отражает, но сама эта черная амальгама скрыта. Этого нет ни в одной традиции – языческой, консервативной, метафизической, традиции высшего жречества, духовно окормлявшего мир на протяжении всей его истории. Вы можете исследовать глубины эллинской философии, глубины дальневосточной традиции, можете пройти все шесть школ индуизма, но вы не найдете там сосредоточенности на этой актуальной точке, которая есть точка оппозиции, ограничивающая безграничное «Всё» вокруг, благодаря которой это «Всё» оживает не как хаос, а как структура.
В языческой метафизике присутствуют очень сложные и правдоподобные построения об эманациях, о том, как делятся первичные элементы мироздания, создавая «объективное» и «субъективное», но там нет того главного, что отличает живого субъекта от искусственного интеллекта: точки абсолютного нетождества всему сущему, которая одновременно воплощает в себе предчувствие неотвратимой смерти, да, по сути, и есть сама эта предстоящая смерть. Искусственный интеллект, не имея сознания смерти, не знает, что он «жив». А то, что нам описывает философия санкхья или мистика даосов как архитектонику живого существа, на самом деле есть подробнейшее описание искусственного интеллекта.
Единственное, что делает нас отличными от искусственного интеллекта, единственное, что не позволяет никогда, ни при каких обстоятельствах низвести нас до статуса искусственного интеллекта, – это реальность смерти, финальности, которую мы непосредственно чувствуем внутри себя, и которая является условием нашей перцепции. Наша смертность и наша непосредственная экзистенциальная включённость в свидетельствование «здесь и теперь» есть одно и то же. Это и есть субъект. Но этот субъект не тождественен объекту и не является комплементарным, не является одной из половин «Магдебургских полушарий». Его – субъекта – как бы «нет», если «есть» все остальное! То есть, бытие и сознание – это как день и ночь. Если бытие есть, то сознание – это диалектическая противоположность: его нет. Но благодаря этому «нет», в его зеркале существует бытие «для нас». Таким образом, нет и не может быть никакого онтологического монизма. Вместо этого есть интуитивное монотеистическое движение: переход от одной единицы к радикально и качественно другой. Если первая единица дается как исходное утверждение, то вторая единица существует рядом с ней как отсутствие. В тот момент, когда мы утверждаем «единицу», выражающую внеонтологическую субъектность, «единица» бытия, первичного Объекта становится призраком. Это динамика монотеистического перехода от абсолютного объекта к абсолютному субъекту выражена в аяте Корана: «В конце концов, не останется ничего, кроме лика Аллаха».
То, что я сейчас изложил в паре кратких тезисов, есть, конечно же, не философия. Это теология, теологический метод. Сегодня нужно поставить вопрос следующим образом: философия, две с половиной тысячи лет жившая Платоном, Аристотелем, неоплатониками и всеми теми, кто исповедовал идеи универсализма, монизма и тождества бытия и сознания, очевидно, исчерпала свой внутренний ресурс, что проявилось в виде постмодернизма. Нужно сделать шаг к совершенно новому – к методологии нетождества, к методологии субъекта, понятого не как онтологическая единица, а как фундаментальная оппозиция всякому наличному бытию, которая является условием когнитивного процесса. И возможно тогда теология откроет перед нами методологическую перспективу построения новых наук, в том числе, относящихся к естествознанию.
Завершая, я приведу простой пример. Кризис современной физики связан с тем, что физикам обязательно необходима объективная точка сборки мироздания. Им вынь да положь данное вне субъекта единство мира, то единственное и всеобщее силовое поле, которое должно оказаться основой всех остальных физических полей. Они не понимают простой вещи: единство мира в глазу смотрящего! Оно в сердце субъекта. Это подобно тому, как зритель переходит из театра в театр и смотрит разные спектакли на разных сценах, оставаясь самим собой.
Таким образом, смотрящий, будучи одним и тем же, играя на разных площадках физического мира, социального мира, исторического мира, духовного мира, является универсальной «точкой сборки» всех этих миров.