Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли
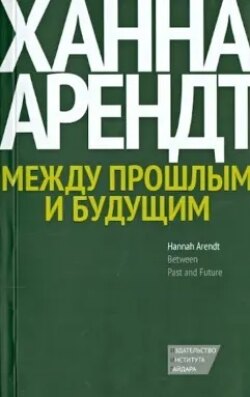
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Ханна Арендт. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли
Предисловие: Брешь между прошлым и будущим
Традиция и Новое время
Понятие истории: древнее и современное
Что такое авторитет?
Что такое свобода?
Кризис в воспитании
Кризис в культуре: Его общественное и политическое значение
Истина и политика[187]
Покорение космоса и статус человека
Отрывок из книги
Notre heritage n'est précédé d'aucun testament («Наше наследство досталось нам без завещания») – возможно, страннейший из всех странных своей отрывочностью афоризмов, в которые французский поэт и писатель Рене Шар уместил суть того, что четыре года в résistance стали означать для целого поколения европейских писателей и литераторов[1]. С разгромом Франции, ставшим для них полной неожиданностью, политическая сцена их страны внезапно опустела: ее оставили шутам-марионеткам и дуракам; и те, само собой никогда не участвовавшие в официальных делах Третьей республики, заполнили ее, словно втянутые вакуумом. Таким образом, без всякого предостережения и, вероятно, вопреки своим сознательным наклонностям, они волей-неволей образовали такое публичное пространство, где – без каких-либо бюрократических принадлежностей и втайне от друзей и врагов – все, что имело отношение к делам страны, выполнялось с помощью слова и дела.
Долго это не продолжалось. Их освободили от того, что они с самого начала считали «бременем», и вернули к их личным делам (которые, как они теперь знали, невесомы, поскольку ни к чему не относятся), снова отделенным от «мира действительности» с помощью épaisseur triste, «печальной непроницаемости» частной жизни, сосредоточенной лишь вокруг себя самой. А если они отказывались «возвратиться к тому, с чего начинали, – к своему самому жалкому образу жизни», то им оставалось лишь вернуться к старой бессодержательной схватке конфликтующих идеологий, которая после победы над общим врагом снова охватила политическую арену, расколола прежних товарищей по оружию на бесчисленные клики (даже не на фракции) и втянула их в бесконечные полемики и интриги газетной войны. Случилось то, что Шар предвидел, ясно предчувствовал еще тогда, когда продолжалась настоящая война: «Я знаю, что, если выживу, мне придется расстаться с ароматом этих самых важных лет, отпустить (но не растоптать) свое сокровище». Они лишились своего сокровища.
.....
Но велико искушение сказать, что все это так «только в теории». Куда более вероятно (и в других своих притчах и историях Кафка часто описывал такое развитие событий), что «он», не способный отыскать диагональ, которая увела бы его с линии боя в пространство, идеально сформированное параллелограммом сил, «умрет от истощения», обессилев от непрерывной борьбы, позабыв свои первоначальные намерения и осознавая лишь существование бреши во времени, которая, покуда он жив, остается почвой, на которой ему надо стоять, хотя и кажется полем битвы, а не домом.
Во избежание непонимания: образы, которые я здесь использую, чтобы метафорически, эскизно обозначить условия, в которых сегодня находится мышление, могут иметь силу только в сфере интеллектуальных феноменов. Применительно к историческому или биографическому времени ни одна из этих метафор не будет иметь никакого смысла, потому что в этом времени брешей не бывает. Только в той мере, в какой он мыслит и в какой он не имеет возраста («он», как совершенно правильно зовет его Кафка, а не «кто-то»), человек в полной актуальности своего конкретного бытия живет в этой временной бреши между прошлым и будущим. Подозреваю, что эта брешь – не современный феномен и, возможно, даже не исторический отрезок, что она существует столько же, сколько человек на Земле. Она вполне может быть областью духа или, вернее, дорогой, вымощенной мышлением, той тропинкой вневременности, которую деятельность мышления протаптывает в пространстве-времени смертных людей и где мысль, память и предвидение спасают все, чего касаются, от разрушения историческим и биографическим временем. В отличие от мира и культуры, куда мы попадаем, рождаясь, это маленькое не-время-пространство, находящееся в самом сердце времени, можно только констатировать, но нельзя унаследовать из прошлого и передать потомкам; каждое новое поколение, более того, каждое новое человеческое существо, внедряясь между бесконечным прошлым и бесконечным будущим, должно заново открыть его и старательно вымостить.
.....