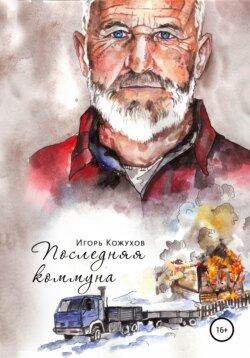Читать книгу Последняя коммуна - Игорь Александрович Кожухов - Страница 1
ОглавлениеКомель
В первый раз я увидел его пять лет назад, зимой, когда в первый раз приехали с женой в гости к её родителям. Сама поездка, предполагаемая для знакомства с тёщей и тестем, намечалась летом. Но моя, достаточно не молодая уже, жена забеременела на нашу радость, и, само собой, стал вопрос: сейчас или уже года через два, три…
Дело в том, что её родители жили так далеко, где-то в деревне, на краю Новосибирской области, что я лично сомневался: можно ли туда пробраться зимой. Но… его величество рубль может почти невозможное! И пятого числа, уже в вечер, крепкий парень Лёша на своём снегоходе забросил нас в её родовую деревню. Рассчитавшись с ним, я договорился, что, несмотря на погоду, жду его через десять дней здесь. Конечно, можно было до станции добраться с кем-то из местных, но рисковать не хотелось…
Лёха, здоровый, улыбающийся белыми зубами, краснолицый от ветра, весело пообещал:
– Не сомневайтесь. Пятнадцатого утром я здесь. Мне эти сорок километров – лёгкая прогулка, сами видели…– И он, газанув, быстро растаял вместе со своими высокими нартами между деревьев.
Конечно, этот день да и следующий мы знакомились, потом собирали стол с её многочисленными дядьками и тётками, затем ещё день ходили по новой, теперь для меня, родне с ответным визитом, что к вечеру закончилось весьма серьёзным опьянением… И только восьмого числа я, уже уставший, наотрез отказался от продолжения. Жена, принявшая мою сторону, помогла мне отбиться от пожилого, но хваткого и весёлого тестя, который закончил наш спор:
– Ну, муж и жена одна сатана!.. Не хотите отдыхать, идите вон баню топите. Вода в колодце на соседней улице – Дашка, моя жена, знает. Дрова – в поленнице, тяга – в трубе, веник – на подъизбице… А я сегодня ещё к Сане Ворону схожу, про охоту порешаем…
Тёща, его жена, в отличие от хозяина степенная и не говорливая, конечно, знала, про какую охоту тот хочет поговорить, но держать не стала.
– Январь он на то и январь, чтобы на целый год вперёд нагуляться да набаловаться. Потом год работать, рук не покладая, спины не разгибая. Пускай
гуляет!
Тесть ушёл, мы, собравшись, вышли во двор.
* * *
Быстро нашли всё нужное, я убрал снег от двери и растопил баню. Грамотно устроенная, сваренная из толстой трубы печь быстро разгорелась, звонко треща дровами. Чёрный от берёзовой коры дым, прошёл, и в тихом морозе из высокой трубы валил уже другой – густой, как молоко, бело-жёлтый, переливающийся на солнце! Всё это удивительно напоминало детство: и тоже деревню, и дéдов с бабкой большой рубленый, крытый железом дом, и небольшую аккуратную баню, зимой два раза в неделю дымящую чистым дымом!.. Как всё это болезненно остро понимаешь, живя в городе, как радостно-обречённо выхватываешь из памяти кусочки забытого, но навечно, до последней минуты живущего в тебе. И ведь точно – всё именно так, как тогда! И яркий день чистого солнца, и мороз, заставляющий ребятню постоянно, не останавливаясь, двигаться, и столбы дыма по деревне, прямые и такие густые, что откидывали бегающие по домам серые тени!.. И незабываемое чувство нескончаемой радости жизни с пониманием вдобавок своей значимости! Это всё уже точно было именно так и именно со мной… Но неужели уже тридцать пролетело? И – так, и – не верится… Я чуть не загрустил, хорошо, тёща позвала обедать…
Когда сели за стол в кухне, совмещённой в одной большой комнате со столовой, как во всех деревенских домах, я посмотрел в незаледеневшую половину окна. В соседской большой ограде тоже топилась баня, а около неё человек рубил дрова.
– Интересно, почему летом не наготовил? – вслух удивился я.
Тёща посмотрела в окно и, как все женщины, не откладывая на потом, объяснила:
– Это сосед наш, дед Коля – Комель. Он уже третий год вдовец, но молодец: не пьёт и не сидит. Вишь, баню топит не реже нас, сам себя обслуживает. А дрова у него, не приведи Господи – одни комеля витые, те, что мужики из лесу не берут, бросают. Их же рубить почти невозможно, но он собирает их, на своём мотороллере возит, слаживает и вот зимой колет помаленьку. И зарядка, говорит, и дрова жаркие… А может, тоску с себя работой снимат… кто знает?
Издалека человек не походил на деда, уж очень ловко и умело он работал. Я ещё полюбовался и увлёкся домашними, ни с чем несравнимыми по вкусу, пельменями с деревенской волшебной сметаной.
«А вечером ещё баня, – думал я с полным ртом, – ну разве не рай?!»
* * *
В следующий раз я приехал к тестю с тёщей ровно через год. Они прислали телеграмму, что приготовили нам немного угощений, включающих в себя: сушёные грибы, маринованные и солёные овощи, солёную и сушёную рыбу и, конечно, мясо, которое тесть добыл с Вороном где-то в тайге.
До райцентра добрался на своей машине, а оттуда – со ставшим уже хорошим знакомым Лёхой, на его снегоходе. Сроку на всё про всё жена мне дала три полных дня! Надо спешить.
В первый вечер выпивали за встречу. Теперь тесть не очень меня слушал в отсутствие дочери и, сдавшись на его весёлые, но достаточно мотивированные уговоры, я пробовал с ним его настойки. Их было много, почти все на «лечебных» травах, но с неистребимым вкусом самогона как спиртовой основы. Причём сам он пил стограммовую, а мне наливал пятидесятиграммовую рюмку. Но и это слабо помогло, и после шестой или седьмой пробы я был уже «на грани».
– Вот, давай ещё эту попробуем, на солодовом корне, она по мужицким вопросам хорошо помогает. Если вдруг какой дискомфорт там, – тесть хитро подмаргивал, глядя мне ниже пояса – сразу ко мне: выпишу тебе литра три и, как рукой…
Я где-то умом понимал, что у меня пока всё нормально, но рука инстинктивно поднимала рюмку и рот сам собой открывался, впуская тестевы панацеи в горло. Может, понемногу, под хорошую закуску и, главное, по делу: праздник, день рождения – все его настойки и действительно хороши… но! И, хотя стол изобиловал разносолами, есть я просто не успевал. Сам тесть логично твердил, что «закусь градус крадёт», и закусывал мало, наивно полагая, что и я так могу…
Я не оправдал его ожиданий и уже через полтора-два часа был совершенно пьян. Спасло то, что умная тёща, вовремя подхватила моё уже бесчувственное тело и увела спать. Сам я этого уже не помнил…
… Утром, открыв глаза, сразу понял, как был вчера наивен, полагаясь на своё крепкое, ещё, здоровье. Непривычный к таким стрессам организм не на шутку болел, словно его сначала травили, а потом ещё и топтали. Голова трещала, желудок изводила огненная, с тошнотой, изжога, мышцы рук и ног ныли. Поняв по тёмному окну на светлой стене, что ещё рано, снова закрыл глаза, но окно не исчезло, а долго стояло, чернея в глазах, выдавливая из них слёзы.
Уже по свету зашла тёща и, немного виновато улыбаясь, объяснила:
– У него-то, лешего, к этим настойкам привычка, он их всю жизнь пользует как целебные. И вроде как, действительно, всё по делу… То на шиповнике, то на боярке, то на солодовом корне или, ещё хлеще, где-то золотой накопает… Тайга большая и трав нужных в ней много – только наклоняйся. А они с Санькой Вороном ещё южнее уезжают, где леса больше лиственные, оттуда прут. А на чём настоять – так это без вопросов! Ну, а потом лечат друг друга, не болея никак… Как это? Профилактически! Мы то, с Настей, женой Ворона, привыкли уже, и вроде они постоянно при деле, и не злоупотребляют шибко. Ну, а новому человеку, не привычному, аккуратней надо быть, конечно…
Я, давясь тошнотой, поднялся и с замиранием сердца помылся холодной водой из-под крана, кляня свою слабость. Тёща же, зная как бороться с этой основной болезнью местных мужиков, напоила меня чем-то кислым, потом чем-то немного солёным, и к обеду я, уже совершенно придя в себя, дегустировал прекрасный борщ со свежим, наверняка добытым тестем, мясом…
Заниматься зимой в засыпанной снегом деревне почти нечем, кроме, конечно, уборки подворья и рубки дров. И это только потому, что некоторые не хотят или не успевают рубить последние. К тому же дрова, оставленные к зиме в чурках, не высыхают и дают больше тепла. У тестя много дров было составлено чурками вдоль забора. Я проскрёб лопатой снег посреди большой ограды и взялся за колун!
* * *
Стылые чурки рубились хорошо. Колун у тестя – новомодный, с длинным резиновым топорищем, которое в свою очередь напаяно на железный стержень. Немного привыкнув к довольно тяжёлому топору, я быстро наколол приличную кучу и решил сразу стаскать поленья в предбанник. Утащив первую охапку и идя обратно, увидел через забор соседа, тоже занимающегося дровами. Мне очень хотелось с ним познакомиться и, не раздумывая, я подошёл к ограде. Он был увлечён работой. Причём как-то по-детски, совершенно отстранившись от реальности. Я залюбовался грамотностью и последовательностью действий.
Чурка, на которую он ставил следующую для раскола, была несколько шире предназначенных для рубки, что позволяло ей стоять плотно и – в половину ниже. Это опять же давало более длинное пространство для замаха и удара, и сам удар был сильнее и жёстче… Он ставил чурку и внимательно её рассматривал, находя только ему понятную слабину, по которой нужно ударить! Наметив такое место, брал колун и, примерившись, вставал на наиболее выгодном расстоянии для удара. И как-то неожиданно коротко взмахнув колуном, без обратного сгиба к чурке, как это получалось у меня, по-профессиональному плавно, но резко и чётко опускал колун. Колун бил по чурке, издавая всегда определённый звук, позволяющий кольщику понять – в правильное место удар или нет. Этот удар деду Коле не понравился и он, отставив топор, немного развернул чурку. Затем снова шаг назад, короткий, над головой, замах, и плавно-резкий удар: «Хэ-эк!» Да! Сейчас он услышал именно тот звук, который хотел. И уже не трогая чурку, снова – шаг назад, замах, удар… шаг назад, замах, удар!.. После четвёртого удара кусок дерева издал хруст и расслоился на две получурки, связанные между собой жилами дерева. Дед поставил колун и, взяв другой, уже лёгкий и острый топор, короткими взмахами дорубил по разрыву, развалив чурку надвое. Затем поставил одну половину на подставу и снова, как по сценарию, продолжил работу. Через пять минут чурка была расслоена на шесть или семь неровных, с торчащими деревянными волосами кусков, слабо напоминающих моих ровных и гладких полешек. Да, тут, кроме силы, необходимы ещё и терпение, и упорство…
Я, улучив момент, когда он отбрасывал дрова в кучу, громко, боясь, что он глуховат, подал голос:
– Здравствуйте!
Дед моментально повернулся, причём, не рыская взглядом вдоль забора, высматривая, откуда окликнули, но сразу заключив мою голову в поле зрения. Так моментально реагируют на шорох профессиональные охотники, по слуху
определяя, откуда звук.
– Здоров, коль не шутишь, – он выпрямился во весь рост, широко,
устойчиво расставив ноги, и засунул руки за ремень на поясе. Так он, в своей кожаной, с мехом, безрукавке, надетой на шерстяную кофту, и в лохматой овечьей шапке совсем был похож на северного крестьянина, который занимается всем, что приносит достаток и моральное удовлетворение. И то, и другое мужик может себе позволить, потому что крепко стоит на ногах и уверен в себе и в завтрашнем дне…
Он не улыбался, как обычно улыбаются люди, согласные на знакомство, и я, не зная, как добиться продолжения, немного польстил ему:
– Вон, у вас как лихо получается! А я некоторые откладываю – не могу разрубить. Потом бензопилой с тестем пилим…
Дед, неторопливо вытащив правую руку из-за ремня, подошёл к забору и внимательно, секунд пять, смотрел на меня, чуть прищурив глаза под лохматыми бровями. Затем на заросшем лице появилась снисходительная улыбка и он, немного растягивая слова, как-то внутренне-глухо заговорил:
– То есть, ты Сёмки Летуна зять? Помню, помню… Вы в том годе с Дашуткой тута гостили. А нонче где она, не вижу?..
Я объяснил, что она родила, и я приехал один.
– А что приспело-то? Скучаешь по родне или за продуктами командирован? – он ещё сильнее заулыбался, показав немного серые, но целые зубы.
Надеясь установить с ним дружеские отношения, как можно откровеннее я ответил:
– Скучаю-то ещё не очень, не успел привыкнуть, а продукты пригодятся… Здесь же всё из лесу, не как в городе – химия… Так что двух зайцев – враз, хотя и не охотник, – и, протянув руку через забор, представился, – Игорь, Дашин муж.
Он неторопливо поднял свою и цепко, явно оценивая крепость, пожал мне ладонь.
– Ну, да ладно… А чем колешь, если не секрет? Новомодным?
Я, поняв, о чём он говорит, подал ему красивый колун.
– Вот, только такой у тестя. Но мне нравится: и замах хороший, и по весу подходит.
Дед, улыбаясь, взял колун и, повернувшись, пошёл к своим дровам, коротко бросив:
– Ну, иди сюда. Спытам, чей дядька важнее, а то привыкли, как сороки,
на блеск зариться…
Обрадованный поворотом дела, я быстро подкатил две чурки и, встав на них, перемахнул через забор. Дед, уже стоя около дров, подал голос:
– В калитку же полста метров обойти, не лихо скакать через заплот?
– Да скорее хочется…
– А куда гонишь? У тебя ещё время вволю есть. Это мне надо бы шагу добавить, однако, наоборот, ноги тише бегут…
Он, разговаривая, осматривал чурки, придирчиво выбирая необходимую, и, наконец выбрав, по его мнению нужную для моей проверки, поставил её на «постамент».
– Ну, бери свой красивый и, как умеешь, руби. Только не скромничай, со всей силы…
Я взял топор, отшагнул на длину топорища и, немного из-за спины замахнувшись, ударил по чурке. Удар был довольно сильный и чуть заострённое, вытянутое лезвие нерусского колуна воткнулось в чурку. Дед удовлетворённо хмыкнул и, посмотрев на меня, быстро прикрикнул:
– Ещё!
Я, опять длинно замахнувшись и уже с протяжным выдохом, ещё раз рубанул по чурбаку. Он, подняв руку, остановил меня.
– Теперь, бери мой и сделай то же самое.
Его колун был немного тяжелее и совсем не такой блестящий, насаженный на прямое берёзовое топорище с тонкой стороны в сторону утолщения, и без обычно обязательного клина. Само топорище было тоже примерно чуть больше метра, тёмно-серого цвета, шлифованное стеклом по всей длине, с удобным, по руке, местом хвата. Хозяин не торопил, явно довольный моим интересом к колуну. Взяв правой рукой сантиметров на семь от окончания топорища, а левой примерно за середину, я отступил правой ногой на шаг назад, замахнулся и, перенеся опору на левую ногу, ударил по чурке – хрясь! Чурка раскололась! Она не развалилась на две половины, но дорубить другим острым топором было уже дело техники…
– Ну, и в чём разница? – дед довольно улыбался.
– Я как-то не понял пока. Может, я уже своим набил трещину и вашим добил…
– Держи карман шире. Своим набил… ты видишь, у твоего ручка какая, как удилище у рыбака болтается! Ты бьёшь, а она амортизирует словно рессора, и удара, как факта, нет. А мой?.. Насколько замахнёшь, настолько и удар – жёстко и чётко… Самое главное, чтобы сам колун по чурке ударял на излёте, с самой большой энергией. Тогда и руки не отбиваешь, и эффект девяносто процентов!
Дед замолчал, улыбаясь и любовно глядя на свой колун в моих руках.
– Все эти выкрутасы магазинные мне известны: чтобы блестело ярче, чтобы футляр с буквами иностранными, да чтобы куплен был в городе: в ГУМе или на барахолке, – он говорил это, не отрывая цепких глаз от лица, от цветной куртки и от, модных тогда, сапог-дутышей с поролоновыми чулками – от всего меня, по его мнению, искусственного и абсолютно не пригодного для настоящей жизни. – И это – вы, наверняка видевшие и помнящие ещё настоящее, уже привыкли жить на готовом: из магазина или чужих рук… А детей ваших, что ждёт? Думать страшно… – Он отвернулся и стал молча собирать разбросанные вокруг дрова, как бы намекая, что разговор закончен.
Я минуту постоял и пошёл в ограду тестя через калитку – вокруг…
* * *
Рубить дрова уже не хотелось и, не торопясь, я собрал готовые поленья и занёс их в баню.
Завтра с утра уезжать. И, совершенно понятно, потянуло туда – в шумный город, где грязно и людно, тесно от машин и домов, налепленных друг на друга, но где мой дом, моя жена и ребёнок и, значит, моя Родина.
Небо серело. В воздухе ожил притихший днём мороз, и запахло сладким дымом затопляемых в избах печей. День уходил так же быстро и рано, как быстро и поздно пришёл, и садящееся далеко в лес солнце извинялось за эту торопливость, крася закат немного красным и золотым! Я смотрел с замиранием на эту красоту и понимал, что там, в городе, конечно, такого не увидим ни я, ни мой сын. Поняв это, ощутил тревогу, словно от предчувствия потери чего-то нужного и важного.
«Значит и здесь моя Родина, если даже временное расставание с ней вызывает такие переживания. Нет, мы обязательно сюда вернёмся, и дети мои впитают в себя эту силу и красоту!..»
Солнце упало в лес, и закат, остывая и покрывая серым уже бордовый запад, гас, как потухающий зимний костёр…
Утром, ещё потемну, прилетел неутомимый Лёха и я, обняв тёщу и пожав руку тестю, уехал, ещё не догадываясь, что надолго…
* * *
На следующий год к родителям жены мы не ездили. И неожиданно, уже ближе к весне 2005 года, от них пришло письмо. В нём старательным, ровным почерком тёща сообщала, что живут они хорошо, все живы-здоровы, только вот отец ещё в декабре повредил ногу в лесу, но в больницу не поехал. Сейчас нога его, наверное, не правильно сросшаяся в самодельном гипсе из берёзовой коры, сильно болит, не позволяя ему ходить. Ставшего от сидения дома «злым, как кобель цепной» тестя, она направляет в город на лечение в середине марта. И в конце: «Вы уж помогите мне, полечите его – дурака! А то ручьи запоют – он на одной ноге ускачет из дома! А на одной – далеко ли уйдёшь? И с тоски запьёт, наверняка… Будьте добры, дети! А денег он с собой возьмёт…»
Я обрадовался, понимая, что очень интересно послушать, как сейчас идёт у них жизнь, да и вообще. И внуку пора узнать деда!
В середине марта приехал сам больной. Привезла его родня мужика, которому тесть летом помогал искать корову с телком, ушедшую далеко в лес, влекомую сладкими травами. Сама бы она не вернулась до осени, поскольку телок высасывал её, и услуги хозяйки по выдойке молока были не нужны. Возможно, ближе к осени она бы и вернулась в деревню, если бы не была съедена волками. Но тесть с хозяином через три дня нашли их вёрст за тридцать и пригнали домой. Теперь эта услуга пригодилась!
Тесть моложаво заскочил в квартиру на одной ноге, вторую, поджимая под себя и опираясь на старый-престарый побитый костыль. Незнакомый парень занёс большой, завязанный поверху мешок и спортивную, перекинутую через шею сумку. Уходя, кинул через плечо: «До свиданья!» и исчез за дверью.
Гость стоял посреди прихожей, как пират, и вместо «здравствуйте», улыбаясь, громко рассудил:
– Во, бирюк! Это второе слово, которое я от него услышал за пять часов пути, а первое было «привет». Бывают же такие немтыри! – и он крепко левой рукой, так как правая была занята костылём, обнял по очереди меня, а затем подставившую лицо дочь.
– Ну, я к вам не надолго. Вот с ногой решу вопрос, внука понянчу и – домой. Там весенняя охота: утка на озёра падёт, тетерев затокует – нельзя
сидеть! Ну, показывайте наследника по прямой! Наверно, вылитый дед, то есть я? – и он поскакал, словно не в первый раз, в комнаты…
Вечером за столом, немного сдобренным его настойками, уже поговорив о многом и собираясь расходиться спать, он вдруг вспомнил:
– Тут тебе ещё дед Коля-Комель писульку передал. Узнал, что я к вам женой назначен, и притащил. Передай, говорит, зятю, пускай прочитает, а там, как решит… так что – на! Передаю, – и он протянул мне сложенный вчетверо лист.
Ночью, когда всё успокоилось, я тихонько выбрался на кухню и развернул почему-то пахнущее воском послание деда Коли. Удивительно, но, ещё не разобрав букв и даже не представляя, что тут было написано, я испытал волнение, трудно передаваемое словами. Как будто меня посвящали в какую-то тайну, а, возможно, и, скорее всего, разрешали заглянуть в неё… И, наверное, помочь?
Дословно:
«… Игорёк.
Это дед Коля тебя беспокоит. Мы с тобой дрова рубили, помнишь? Ноне мне уже будет 77 годов как есть и потому дело надо одно решить. Хотел Сёмке поручить но он как был несурьёзный летун так и есть (и ногу сломил – куда совсем). Ты сам приедь по теплу и тёщю заодно проведаш. Всё обскажу и денег дам на это дело. Не откажи и голова стала болеть кто его знат. На всё Бога воля. Помоги. Жду. Невзоров Ник.»
Я сложил лист, но волнующее начало тайны уже прочно засело в мозг. Тихонько пробрался в спальню и, поцеловав сына, лёг. Еле уснул…
* * *
Назавтра я взял отгул на работе и утром в девять часов мы с тестем уже заходили на консультацию к хирургу. У меня есть знакомый врач, с семьёй которого давно дружим «домами», и он согласился помочь, договорившись о приёме с хирургом. Хирург оказался подозрительно молодым, но высоким и крепким, что мне сразу внушило доверие. Тесть же, ежели не лукавил, был у врача второй раз в жизни, первый раз – перед армией, поэтому улыбался и рассеянно молчал. Молчал и врач, внимательно глядя на него. Наконец у него лопнуло терпение и он необдуманно произнёс: – Рассказывайте, слушаю…
Тесть, нервно вдохнув полную грудь больничного воздуха, заговорил:
– Ну, идём мы по лесу с Саней Вороном. След-то внятный, свежий. Я ему маякнул, мол, вправо бери, и сам влево повернул. А там немного горка и колок снегом заметённый. Так на ходу и провалилась лыжа правая и, видать, в корягу… А я ходом и по инерции – вперёд, через лыжи и полетел. В ноге как хрюснет, искры из глаз, я и осел в снег. Ни ногу вытащить, ни закричать. Впереди Ворон уже стреляет, слышу, а сделать ничего не могу. Хорошо, он издали бил, да на ходу, ушёл наш трофей. Тут он меня и вспомнил, сначала, конечно, словом крепким, но, когда увидел, как я влип, извинился! В общем, ногу вытащили из снега, он её осмотрел и говорит: – Вывих!
Врач, внимательно слушавший, полюбопытствовал:
– Он врач?
– Кто? Ворон? Да нет, он немного охотник. А бабка его, та – да! Знатная была повитуха и… вообще. Но её-то с нами не было, она померла уже лет тридцать как… Так вот Саня и говорит, ты, мол, мышцы расслабь, я легонько крутну и всё встанет на место. Ну, я согласился, только немного настойки из фляжки принял и готов, говорю. И, знаешь, как в воду глядел! Он как крутнул, так я и готов. Свет померк и сознанку потерял. Когда очухался – Ворон серый стоит, плачет слезами. Ну, то, сё. Сладили из лыж нарты, еле уселся я, он и попёр меня, как трофей охотничий, домой. Идёт и рассказывает, что когда сознание я потерял, он так испугался, что даже сначала хотел меня в снег глубже закопать, а бабе моей сказать, что, мол, Семён потерялся… Потом, правда, испуг прошёл у него, опомнился…
Хирург, уже не сдерживаясь, смеялся в голос, хлопая ладонями по коленям. Смеялся и я, жалея, что не распросил тестя об этом происшествии вчера…
Потом он щупал колено тестя и морщил лоб. Позвонив куда-то, вытребовал инвалидную коляску и, посадив туда больного, объяснил мне, куда ехать и что делать.
Через час мы вернулись и, войдя без очереди, я отдал ему ещё сырой рентгеновский снимок. Досмотрев очередного больного, врач вызвал нас.
Снова молчали, но теперь хирург заговорил сам:
– Я понимаю, что вы там все сами себе лекари – жизнь такая. Но то, что сначала было просто переломом, после операции вашего Орла стало переломом с серьёзным смещением. И этот перелом вдобавок сросся, как я понимаю, ещё и самодельно загипсованный? – тесть в согласии тряс головой, всё ещё глупо улыбаясь.
– Так вот, – хирург сел, положил рентгеновский снимок на стол и внятно закончил, – нужно снова ломать, ставить специальный аппарат и, возможно, если всё получится хорошо, месяца через три Семён Аркадьевич сможет потихоньку ходить!
Тесть вылупил в испуганном возмущении глаза и, надув щёки, выпустил воздух: – Ну и ну…
* * *
Сегодня нас домой отпустили, ведь один день уже ничего не решал. Тесть, наконец, уяснил проблему и обратную дорогу молчал, морща лоб и что-то думая.
– А скажи, как это я буду три месяца лежать? Или врач меня обманул? Это же немыслимо! Ладно бы нога совсем отломилась, а то она же есть! У нас, когда я салагой был, землемеру совхозному – Лёхе Пашутову, косилкой на покосе обе ступни отрезало – еле спасли. Однако через два месяца он уже на маленьких протезах шпарил, как настоящий, и даже с работы не ушёл. В смысле, его на лёгкий труд перевели – веники для фермы вязать и черенки для лопат и тяпок готовить. Но ведь он на ногах ходил, хотя, конечно, лошадь была к нему прикомандирована. А тут три месяца! И ещё, если всё хорошо…
Я не пытался его успокаивать, потому что тесть сам всё понимал, и врач объяснил доходчиво. И он, не слыша в поддержку моё возмущение, замолчал и совсем загрустил…
Дома жена моя тоже встревожилась, но уже сам тесть её успокоил:
– Не переживай, Дашута, на мне, как на псе добром, всё зарастёт. Если не к весенней охоте, то к первым грибам точно бегать буду.
Мы с ним по очереди приняли ванну, и уже вечером всей семьёй сели за стол. Как ни странно, тесть выпил только рюмку своей знаменитой настойки и больше – наотрез отказался…
Когда Даша пошла укладывать сына, мы остались вдвоём, и я задал ему вопрос, который меня очень волновал:
– Скажи, отец, а что за человек дед Коля Комель? Как-то он обособленно живёт, или мне показалось?
Тестя я впервые назвал отцом и, хотя это получилось спонтанно, я заметил, что он этому как-то обрадовался. Наверное, это означало для него моё безоговорочное признание его как старшего авторитетного родственника. Он подумал и, кивнув на рюмку, ответил:
– Ну, капни чуток, чтобы память прочистить – хмельному труднее соврать! И расскажу я тебе о деде Коле всё, что знаю, а знаю я о нём много – с самого детства его помню… – Он поднял рюмку и, сглотнув налитое, заел кусочком яблока.
– Ну, слушай. А поведаю я именно суть, ту, которая сейчас его, наверное, гложет. Но ты молчи, ведь буду вспоминать…много лет прошло.
* * *
– Помню я его, конечно, не с самого детства, а с того момента, как стал на улицу выбегать – годов с пяти-шести… Ему-то, наверно, уже было лет двадцать, можа, чуть больше. Сразу запал он мне в память здоровым, тёмным в волосах и громким. Деревни только поднимались после войны, и молодёжи в то время было мало – вся военная. Это если мне было в писят пятом пять лет, то ему… с тридцатого года – двадцать пять!
Тесть, запутавшись в подсчётах, облегчённо вздохнул, и посмотрев в раздумье на рюмку, продолжил, махнув рукой:
– Почему его в армию не взяли – не знаю, но охотились они по той поре знатно. И на медведей, коих развелось за войну у нас, и на волков, да и сохатых били кажную неделю. А это в ту пору большой задел был для голодной страны. И получилось, что он там главным стал, можно сказать, первым. Ведь в основном, ещё до окончания войны, с ним в лес одни бабы ходили, тоже, конечно отчаянные, однако, бабы… По завершению войны совсем мало кто вернулся, а кто вернулся – то простреленный в решето, то хромой или безрукий… А он смелый, здоровый, как сам медведь, кровью тайгу понимал, ещё и удачливый, говорили! Но, дело молодое, нарасхват парни шли, хоть и грех, а куда деваться. Вот и у трёх молодых вдов почти в одно время пузы показались. И вроде одни живут, и парней нету, а тут – гляди! Но к нему без претензий. Да и кто мог тогда ему что против сказать – не знаю, был он, правда, силён и суров. И чтобы было тебе понятнее – одиннадцать медведев он ножом и рогатиной взял только в одну зиму, на десятый год после войны! Это как развлечение у него было, игра – таёжная рулетка, хотя оружие выдавали им хорошее, через заготконтору…
Тесть вдруг замолчал и, извинительно помолчав, добавил:
– Что-то меня в сторону от темы понесло. Ну, да ладно, кáпни ещё для
красноречия… – он легко опорожнил рюмку и, поковыряв вилкой в тарелке, продолжил. – И вдруг он женился! Мне уже лет семь-восемь было, совсем по тем временам здоровый, понимал всё. Так вот Оля – жена его неожиданная, была просто сказкой лесной, царевной. И красотой удивительна, и характером покладиста, и работяща! А что самое-то обидное для многих – совсем молода. Было ей в ту пору конец семнадцати, начало восемнадцати годов. Но влюбилась она в него, как лебёдка в лебедя влюбляется – на всю жизнь. Прошли у них праздники свадьбы, отшептали ночи страстные – пора ему в лес. Ну ушёл, так она, пока его неделю не было, места себе не находила, мучилась. А как он пришёл из тайги, говорит ему, мол, всё, только с тобой. Он, как бы вначале – нельзя, то да сё. Только она не отступила. И стала с ним ходить в лес как помощница, загонщица и даже стрелóк… – Тесть опять остановился и, посмотрев на часы, засомневался, – завтра вставать же рано, может, спать пойдём? Потом доскажу?
Я не согласился: – Ты, отец, в больнице на год вперёд отоспишься, ещё устанешь. Давай доведи до окончания историю…
Он подморгнул мне и продолжил:
– Ну, год проходили, слава Богу. А на зиму затяжелела она. Пока было не видно, никто и не знал, а на Рождество, приметив её в новом деревенском клубе с хорошим брюшком, зашептались – всё, нужно Николаю нового помощника! К тому и шло. Однако в феврале уговорила она его в последний раз на медведя сходить вместе. А что? Медведь для него, что мне теперь заяц, наверно. Вот он и решил посвятить медведя будущему сыну. Дальше расскажу, как люди говорили потом. – Тесть смахнул со лба капельки пота и, хлебнув остывшего чая, продолжил:
– Лёжки медвежьи он, считай, все знал наперечёт, даже, где какой зимует. Вот и выбрал самца поматёрее. Натоптал себе место около огромной сосны, рогатину крепкую срубил, нож удобно на ремне расположил. Ольгу же с карабином поставил метрах в двадцати сбоку, именно чтобы смотрела, ведь в себе он был уверен на сто процентов. Будить матёрого долго не надо, и уже через две минуты он стоял спиной к сосне с ножом наизготовку, упирая рогатину в основание дерева. Но… вот же судьба-злодейка! Медведь, сразу из берлоги, несколько минут на солнце ничего не видит и поэтому сначала рвётся на голос и запах. И, хотя Николай орал, материнский запах Ольги матёрый почуял быстрее, ведь стояла она по ветру к берлоге. Поэтому, слепой от солнца медведь встал во весь свой огромный рост и, маша лапами, пошёл на Ольгу. Охотник, бросив ненужную рогатину, кинулся за ним, взревев громче медведя… В общем, выстрелила Ольга, когда медведь был уже в метре от неё и, на их счастье, попала ему прямо в сердце. Но он по инерции сходу упал на неё, вдавив девушку в снег, чем спас её от когтистых лап, конвульсивно режущих наст. Николай молниеносно прыгнул на матёрого со спины и, одним ударом ножа перерубив ему лён, перевернул полутонную тушу, как мешок картошки. Ольга смотрела на него почерневшими от ужаса глазами и молчала – даже не заплакав. Когда он притащил её на нартах для перевозки мяса домой, Ольга ночью скинула младенца, уже сформировавшегося мальчика, умершего ещё во чреве.
Тесть, разволновавшись, рассказывать больше ничего не стал. Взяв с него обещание закончить рассказ, как только приеду к нему проведать в больницу, и подсобив доскакать до туалета, а потом в комнату, сам тоже ушёл спать. Представив себе, что испытала юная женщина, когда на неё навалилась стопроцентная смерть, ощутил на затылке дрожь от страха:
«Неужели это возможно пережить?»
* * *
Рано утром я завёз тестя в приёмный покой и вручил ему сотовый телефон жены.
– Это – связь. Ты здесь надолго, а мы постоянно быть около тебя не можем. Поэтому по вечерам, допустим, в восемь вечера, будем созваниваться, а, как возможно, я заезжать буду. Всё, не грусти и слушай врачей!
Я быстро вышел из больницы, а тесть, сразу став ребёнком, махал мне, прощаясь, через большие окна приёмного покоя…
На работе часто вспоминал историю, услышанную вчера от тестя и отвлекался, что очень злило. Решил, что в первый же выходной поеду в больницу и дослушаю рассказ, а с другой стороны, уже думал, что нужно всё же съездить в деревню, к самому деду Коле. Что его вдруг так забеспокоило, если он просит о помощи почти незнакомого человека?
… Вечером звонил в больницу. Бедного тестя трудно узнать, больница полностью его поглотила. Жалуется, что даже окна открывать нельзя (и это в конце марта, когда он уже на ночь дома почти не топит) – вокруг старички и инвалиды. Нос, говорит, ничего не чует совсем, хотя в тайге запах лося
чувствует за километр. И нога вдруг заболела, и шум постоянный, и в туалете тошно до слёз. Еле успокоил, обещая завтра заехать. Уже перед сном он звонил сам и сообщил, что назавтра назначена операция.
– Так что, пока ноги не бей. Как приду в себя после наркоза, позвоню – прибежишь. Я этот аппарат уже совсем освоил – полезная вещь, жалко, в тайге такого нет пока, очень бы удобно было… – Он ещё хотел много сказать, но я сообщил ему, что разговор идёт за деньги, и он моментально отключился…
* * *
Операцию ему сделали в четверг. В пятницу заехать к нему не смогли, а на субботу у меня дежурство ночное на работе – за отгул. Но жена, сходив с сыном к нему в больницу, сообщила, что он ждёт меня с нетерпением. В воскресенье, ближе к обеду, собрался к нему и я. Тесть уже лежал в общей палате на большой медицинской кровати около окна. Нога, задранная тонким тросом немного вверх, была веерообразно протыкана тонкими железными стрелами, соединёнными в круг.
Увидев меня, он попытался улыбнуться, но это плохо получилось, и на глазах неожиданно заблестели слёзы.
– Видал, какое колесо прилепили? Я думал, там загипсуют чего, замотнут, пускай побольше… А тут они меня вообще привязали к койке, – он с обидой откинулся на приподнятую спинку кровати и замолчал.
Я сел рядом на стул, положив ему на столик гостинцы, собранные женой. Тесть посмотрел на это с иронией, заметя:
– Есть тоже не буду! Я же вставать не могу, понимаешь или нет? Неужели такой глупый?
Я, действительно, не понимая, пошутил:
– А ты лёжа ешь, стоя совсем не обязательно…
– Да? А в туалет потом как? Ползком? Мне же тоже лёжа придётся, вон как соседям, – он кивнул головой в сторону лежащих в гипсах больных, – а девчонки-санитарки совсем молоденькие, охота им на всё это моё смотреть…
Я, сообразив, о чём он говорит и, как мог, понимая, как это, действительно, для него болезненно, успокоил.
– Это работа у них такая, здесь ничего не попишешь… да и, наверно, мужчины есть тут, санитары. С ними-то проще.
Он немного успокоился и я, поговорив о всяких глупостях, попросил его
досказать о деде Коле.
– Что? Интересно? – тесть вдруг заговорил о нём как-то зло или, скорее, не по-доброму, – А интересного-то мало. Загробил девку и – всё. Она враз, буквально в месяцы из девчонки превратилась во взрослую женщину, нелюдимую и одинокую. Буквально, словно в схимну какую вступила… Теперь только увидишь её, как по ограде промелькнёт в чёрном, им к тому времени заготконтора дом построила как лучшим охотникам, и нету её опять целый день. И в магазин только он приходил всегда, большой и угрюмый, брал сразу много муки, соли, сахара, консервы какой и по мелочам там чего. В два мешка слаживал, между собой их связывал и – хлоп на плечо, словно баба коромысло с ведёрками, и прёт домой. И опять нету их неделя-две на глазах у людей. Во как! А жизнь-то в деревне в то время ох и весёлая была! Люди радостно жили, трудно, но радостно! И не голодно уже было, и совхоз у нас организовали чуть позже. Дичь, правда, дальше угнали в тайгу, но и без этого хватало, кто хотел и умел работать.
Тесть замолчал и, наверное, решил что-нибудь повспоминать про себя, но я, раскусив его, опередил.
– Дак чем всё кончилось у них-то? Дальше как стало?
– Что у них, да у них? Так и жили скрытно и не поймёшь как. Батя мой, я, да мать наша свой дом около их усадьбы построили, и поэтому они постоянно на виду у меня были. И вот однажды, мне уже лет восемнадцать было, смотрю, тётя Оля беременна – ну, пузо у неё большое. Это притом, что после первого ребёночка, уже лет десять, может, одиннадцать прошло. Не могли ведь! А тут она одёжу чёрную сняла и расцвела прям как-то, и здороваться стала через ограду. И Николай как-то стал нас замечать и даже заговорил раз со мной. Я от неожиданности чуть с брички не упал, но удержался и ответил. И постепенно стали мы общаться с соседями… Не так чтобы в гости, а через забор: здравствуйте, как дела, то да сё. И тётя Оля даже иногда смеяться стала, а хозяин бросил охоту и в совхоз на пилораму устроился. Вот и всё, и зажили как люди. Оказывается, что они и так могли, только терпели долго… – тесть замолчал и, кашлянув, попросил воды. Я открыл ему бутылку минералки, разочарованно протянул.
– Ну, а где же здесь тайна? Всё встало на свои места. Просто люди отчаялись в ожидании ребёнка, вот и вся недолга…
Тут зашла санитарка и выгнала меня, сославшись на то, что надо больным делать процедуры и перевязки. Собрав всякие коробочки из-под закусок, я уже выходил из палаты, как хитрый тесть негромко воскликнул:
– Ну, это ещё не конец совсем… По правде, это только начало, самое-то главное впереди. Давай, как будет время, заходи – дорасскажу уж самое интересное в этой истории.
– Вот ведь лис хитрый, – понял я тестя, – видит, что некогда совсем, но правильно вопрос ставит. В любом случае придётся прийти: теперь уже история не отпустит…
* * *
Неделя пролетела незаметно. В пятницу вечером, распариваясь в ванной, я вдруг подумал о времени:
«Вот интересно, если убрать из жизни все календари, численники, всякие там ежедневники, исключить упоминание о днях на телевидении, радио и т. д., то сможет ли человек контролировать прожитые даже самим годы? Ну, вот вчера ведь вышел утром на работу – понедельник, работаю, что-то догоняю, что-то или кого-то жду, разговариваю с людьми. Но, что бы ни делал, все дни, за малым запоминающимся исключением, сливаются в один. И если этого, особенного, исключительного нет, то вся неделя сливается в один день! И ведь именно потому детство кажется долгим, что каждый момент отличен от другого – с другими мыслями, с другим настроем. А ты с каждым часом прогрессируешь, растёшь, запоминаешь почти все моменты и действия и, складывая потом это во времени, получаешь длинный, насыщенный и отличный от других, день… Ну, а во второй половине жизни занимаешься, в основном, чем-то давно знакомым, рутинным, не требующим никакого напряжения – ни физических сил, ни моральных, ни слишком интеллектуальных… И всё идёт на самотёк, как вода в тихой равнинной реке… Неприятные мысли поразили своей неизбежной действительностью. А может, это город? Ведь я же знаю, что вдали от цивилизации человек постоянно вынужден самой жизнью бороться за своё существование. Конечно, где-то меньше, где-то больше. Но в основе своей жизнь села и деревни – это борьба, а борьба – это жизнь! Но ведь и здесь я борюсь за своё благополучие, немного по-иному, но суть та же!.. Эх, доработаю до пенсии, начну читать больше, может, ездить в неизвестные страны, а может, книгу напишу… Посмотрим…»
* * *
Тесть меня встретил обиженный.
– Среди недели что? Совсем нет времени навестить? Хоть ненадолго. Я уже совсем прокис – и телом, и мыслями. Только и делаю, что в окошко гляжу, дак и то хорошего мало…
– А что так? – я распаковал переданные женой медицинские салфетки и обтёр раздевшегося и помогавшего мне с нетерпением тестя.
– Да то! Всю жизнь бежал, а вот стоило остановиться, так стал опять о ней же, о жизни и думать. Ведь получается, и я не очень, слава Богу, живу, если сын мой от первой бабы совсем забыл, что я ему отец. Грустно и немного обидно… – Тесть с усилием, старательно приподнимался на руках, чтобы я достал салфеткой места, куда он сам дотянуться не мог.
Я не показал вида, что удивился, хотя совершенно не знал об этом. Не зная, что сказать, сказал первое, что пришло на ум:
– Может, нужно встретиться с ним, поговорить? Кстати, я даже не знал об этом. Это секрет? И где он живёт? В вашей деревне?
Тесть надел чистую футболку, укрылся по пояс простынёй и, сложив руки на живот, ответил:
– Нет, в соседней деревне с матерью, моей, понимаешь, первой женой. Я на ней за сорок дней до армии женился. А через год, уже в армии, письмо от неё получил, что меня они с сыном не любят и что теперь замуж она выходит по любви. Я даже не поехал к ним после армии – запретила строго-настрого. Только в сельский совет зашёл, печать в паспорт поставить, что разведён и – всё. И заново всё начал, с чистого листа.
– Ну, а что тебя мучает? По-моему, сделал всё, как она захотела. И сын, наверное, тебя не знает. Тот мужик – ему отец!
Тесть посмотрел на меня и грустно ответил:
– Я тоже так думаю, только вот здесь, – он приложил здоровую пятерню к груди, – всё чаще ноет. Больно! – он немного помолчал, – эх, чичас бы настоячки на берёзовых почках, с духом леса берёзового или на кедровых орешках – с духом тайги! То и другое допускаю, когда душа скулит…
Он немного помолчал и снова заговорил, понимая, что я жду именно продолжения рассказа о деде Коле!
– Родила она, Ольга, дочь. Я-то в армии был, но мать писала, что сосед от счастья, словно и не ходит уже – летает! Всё сам делает, вроде как даже сам бельё стирает. – Тесть снова помолчал для убедительности, посмотрел на часы, в окно и, разгладив простыню на животе, продолжил:
– Лет сколько-то можно пропустить. Я шибко за ними не следил, да и своих дел – завались, да ещё в чужие лезть… Пришёл из армии, женился, дочь родилась. Родители мои уехали на Родину к матери, на хутор под Краснодаром. Я дом наш выправил, кой-что переделал в нём под себя, и стали жить-поживать с твоей тёщей и с дочей. Иногда только жена про соседей рассказывала: всё больше про дядю Колю, да про дочь его – Алёнушку. Дескать, любит он её больше своей жизни и дал зарок, что она ни в чём отказа знать не будет. И чтобы она ни захотела, любую глупость или, наоборот, что серьёзное – кровь из носа, он для неё делает или достаёт. А живём-то, сам видел где, со всех сторон до цивилизации – только на вертолёте. Тем более, в то время. Но он её баловал – это точно. Ну, и что скажешь? Вот и я говорю, нельзя так. И стала она уже годам к пятнадцати прямо цаца, королевна – не меньше. Огорода не знает, корову не умеет, хозяйство презирает. И запросы растут! А тут начало девяностых: что там в Москве творится – не понятно, а здесь совхозы разваливаются, кто чё говорит. По телевизору одно, по жизни другое. Ну, а мы далеко от власти большой, и хотя почти всё прекратило работать – тайга – кормилица осталась. Вот все мы, кто жить хотел, в неё и нырнули. А дед-то, уже сам не в силах тайгой плотно жить, так он стал у себя богатых охотников привечать. Приедут такие на здоровых машинах, толстомордые и наглые. Он с ними – на иностранные снегоходы, если зима, или на джипе, если лето, и показывает, где, по его наблюдениям, зверь нужный есть. За это ему и платили, причём, очень хорошо. Ну, через это и беда самая большая произошла в его жизни…
Я немного растерянно перебил тестя:
– Ну, вот смотри, опять беда. Что ещё-то может случиться? Он уж и так через всё прошёл.
Тесть, не выдавая своих чувств, повысив голос, договорил:
– Всё, да не всё. С одним из таких хозяев жизни его любимая дочь, его последняя надежда, его сказка-Алёнушка и убежала! Убежала, не подумав ни о нём, ни о матери, ни о чём больше…
Тесть замолчал, и в палате стало тихо, словно все спали, причём, затаив
дыхание. Я понял, что, наверное, все ждут продолжения, какое-то объяснение или хотя бы предположение. Но тесть, теперь уже точно, закончил:
– И с тех пор никто ничего о ней не знает! Через скоко-то лет умерла от тоски Ольга, не дождавшись известий от дочери, сам дед Коля-Комель ещё живёт и, наверное, ждёт. – И, обращаясь к своим соседям по палате, тесть пообещал: – Лежать нам здесь ещё долго, так вот Игорю дед приглашение передал. Наверное, хочет ему что-то рассказать про это дело. Давайте попросим его, если дед расскажет ему свою тайну, чтобы он ею с нами поделился.
Больные в палате зашумели ободряюще и просяще, и я согласился: если повезёт – поделюсь. А ехать я назначил себе на следующую неделю – надо же и тёщу проведать, она уже волнуется, наверное…
* * *
На машине я, конечно, не рискнул. И понятно не потому, что боялся весенних метелей, а наоборот, тёплых дней. Набитая за зиму дорога, в январе спокойно держащая всю технику, после первых тёплых весенних дней становится настоящей ловушкой для машин, глотая их по самые окна! И вырваться самому нет никакой возможности: снег, как масло. Так же и с людьми. Зная все эти нюансы весны, я опять обратился к Лёхе, который, обрадованный встречей, конечно, не отказал. И уже часа в два я зашёл в дом, обрадовав до слёз тёщу.